Большая группа — это такая совокупность людей, члены которой обладают лишь потенциальной возможностью вступить в личный контакт. В малой группе (семья, студенческая группа, дружеский кружок) все ее участники знают лично друг друга, знакомы с индивидуальными особенностями каждого, иногда собираются все вместе. Принадлежность к большой группе определяется иными характеристиками: социальным положением (сословие), местом жительства (петербуржец), общим интересом (футбольный болельщик), той или иной функцией (пешеход, избиратель), гражданством или подданством, национальностью, уровнем образования и профессией и т. п. Наиболее существенными являются национальная и государственная принадлежность, социальное положение, а также сопричастность религиозно-церковному кругу. Люди одной религии, национальности или профессии не в состоянии лично знать друг друга или собираться в одном месте, организовав общение каждого со всеми. Но это еще не значит, что их общность условна. В соответствии с определенным маркером (зафиксированным признаком) личность выступает как участник коллективного действия, частным случаем которого будет борьба на стороне «своих».
Большие группы являются носителями важных достижений цивилизации: национального языка, научных теорий, профессиональной этики, художественного вкуса и т. д. Без овладения такими достижениями личность обречена на примитивное мелкотравчатое прозябание. Но больших групп много, их интересы далеко не всегда совпадают. Личность к тому же может принадлежать нескольким группам, находящимся иногда в конкурентных отношениях. И создается силовое поле сложной борьбы: в разных направлениях, по разным основаниям. Как построить вектор, который бы наиболее успешно и наиболее безболезненно суммировал эти разнородные стрелки больших и малых конфликтов?
Если бы конфликтология могла дать хотя бы приблизительный ответ на этот вопрос, наука оказала бы огромное благодеяние роду человеческому. Пока здесь больше аналогий и предположений, чем твердого позитивного знания. Слишком сложен самый объект исследования. Но люди не сидели сложа руки. В той или иной степени росло умение регулировать конфликты: через религиозные заповеди, законы, правила профессионального поведения, через международные договоры и социальные учения. Но, видимо, только в XX веке возникла осознанная потребность подойти к проблеме конфликта с предельной серьезностью.
Русское общество было малоподготовленным к трезвому пониманию конфликта. Идеалы самодержавия и соборности опирались на идею, что конфликт как таковой — дьявольское проклятие. Преодоление несовершенства подразумевает и прекращение всех несогласий и стяжаний. Большевики именно на такой традиции строили утопический идеал будущего: если как следует, не останавливаясь ни перед чем, уничтожить остатки несовершенного «эксплуататорского» бытия, наступит тишь и благодать. Так, на закате сталинского правления в литературе так называемого социалистического реализма стала популярной идея конфликта хорошего с лучшим, да и то применительно к «несовершенной» стадии коммунизма — к социализму. Естественно, что трезвое изучение конфликта признавалось идеологически вредным, политически опасным и практически неприемлемым. А так как наука находилась под мощным государственным контролем, то конфликтологические исследования фактически были блокированы. Трудно переоценить нанесенный социальной науке ущерб. Когда общественная жизнь стала постепенно «размораживаться» и вспыхнули тлевшие конфликты, страна оказалась не в состоянии ни осознать их суть, ни снизить их накал. После семидесятилетних славословий «нерушимой дружбе народов» мы стали свидетелями таких событий, которые воскрешают в памяти времена Чингиз-хана.
Не менее пагубным было и стремление властей ограничить исторические исследования конфликтов прошлого. Поверхностная критика действий Сталина заменила реальное изучение сталинизма и связанных с ним социальных явлений. Призыв не будоражить людей, «не ворошить прошлое» был эфемерной попыткой обелить настоящее. Все внутренние конфликты авторитарной власти раскалывали и обессиливали общество, и лишь цензурными усилиями сдерживалось их осмысление в прессе, в науке, в общественном сознании. Но от этого социальные конфликты становились еще более неуправляемыми.
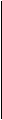 §1. СТРАТЕГИЯ ОБОСТРЕНИЯ КОНФЛИКТА
§1. СТРАТЕГИЯ ОБОСТРЕНИЯ КОНФЛИКТА
Наиболее полно разработаны в конфликтологии больших групп проблемы борьбы, направленной на уничтожение противника. Практическая надобность такой стратегии связана с безопасностью социальной группы в наиболее критической ситуации. Речь идет о войне — прежде всего с внешним врагом, а затем — и о гражданской. Именно в войне разница между выигрышем и проигрышем особенно ощутима. Поэтому и разработка военной теории считалась задачей первостепенной государственной важности. Общественная реакция на проблему войны была всегда острой. С одной стороны, в культуре создавались тексты большой значимости, в которых само существование нации проверялось через войну до полной победы. Это героический эпос с его героями-воителями («Илиада», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о моем Сиде», былины киевского цикла). С другой стороны, война моделировалась в играх конкурентного типа: яркий пример тому — шахматы. Не случайно шахматная теория оказала влияние на разработку общих проблем конфликта. Одной из первых книг по теории борьбы была книга «Kampf» («Борьба»), написанная чемпионом мира по шахматам, профессором математики и философом Э. Ласкером (издана в Нью-Йорке в 1907 г.).
Но и в шахматах Ласкер выступает как философ борьбы. В своем знаменитом «Учебнике шахматной игры» Ласкер так истолковывает главный принцип позиционного давления, высказанный Стейницем — первым чемпионом мира:
Стейниц... приказывает тому, кто владеет преимуществом, нападать... Он спрашивает: по какому направлению должна развиваться атака? И отвечает: объектом атаки должна явиться слабость позиции противника... Это правило выходит за пределы шахмат, шахматы слишком малы для него. Оно базируется на знаменитом древнем представлении, значение которого неоспоримо; это представление о «linea minoris resistentiae» (линия наименьшего сопротивления). Молния, поезд или разбитое войско движутся именно по этой линии»[80].
Специальные исследования техники борьбы провел выдающийся польский логик Т. Котарбиньский, давший ей такое определение:
«Борьба является той формой деятельности, где люди нарочно затрудняют друг другу достижение целей, усиливая давление принудительных ситуаций, критических положений, ситуаций с единственным выходом»[81].
Описывая методы борьбы, Котарбиньский опирался прежде всего на практику войны.
Вот основные положения из главы его «Трактата», названной «Техника борьбы»:
■ Создавать трудности противнику.
■ Концентрировать силы, добиваясь превосходства над противником, в решающем месте схватки; препятствовать концентрации сил противника.
■ Заботиться о свободе движения своей аппаратуры и о ско-вывании движения противника.
■ Ослаблять мощь противника, внося раздор в его ряды («разделяй и властвуй!»).
■ Выводить из строя прежде всего центральные органы системы противника, координирующие его действия.
■ Тщательно защищать свои центры управления и координации; быстро восстанавливать выведенные из строя элементы системы; создавать запасные блоки для замены разрушенных.
■ Использовать метод «свершившегося факта»: заранее занять выгодную позицию, захватить с упреждением территорию противника.
■ Быть активным и в нападении, и в обороне, совмещая эти функции в едином действии; учитывать, что оборона экономичнее наступления.
■ Использовать «метод проволочек», когда время работает против соперника.
■ Прибегать к методу потенциализации, демонстрируя свою мощь (угроза часто сильнее исполнения).
■ Маскировать намерения и захватывать противника врасплох.
■ Отступать к нужному пункту, заставляя противника двигаться по нужной тебе траектории.
Война является крайним выражением борьбы, потому что в ней «все средства хороши», все силы враждующих сторон мобилизованы для победы.
На карту поставлено благополучие «своих», скомпенсировать ущерб должны «чужие» (лозунг французов во время первой мировой войны: «За все заплатят боши»), разборчивость в средствах минимальная. И война до сих пор является таким средством разрешения конфликтов, которому не отказывают в практичности. Но все больше людей задумывается над ее последствиями. Во всяком случае уже несколько веков мыслители трудятся над трактатами о вечном мире.
 2015-05-30
2015-05-30 1222
1222








