По мнению И. Стрэкинару (1969), на формирование противоправного поведения у детей и подростков в первую очередь влияют неблагоприятные социальные воздействия (55 % случаев), затем органическое поражение головного мозга (30 %) и, наконец, генетический фактор (15 %).
В. Я. Семке и соавт. (1982) более приемлемой считают такую комбинацию патогенных факторов, где на первом месте стоят
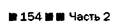
конституционально-биологические, экзогенно-органические и затем микросоциальные факторы. Вся история учения о природе правонарушений — это в основном история борьбы двух направлений. Сторонники одного из них считают правонарушения явлением социальным, приверженцы второго — биологическим.
Родоначальник биологического направления в криминологии — итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (1835-1909). В своих работах «Преступный человек», «Преступление, его причины и средства лечения» Ломброзо утверждал, что преступление — явление столь же естественное, как рождение, болезнь или смерть, и что существуют «врожденные» преступники, которые отличаются от обычных людей антропологическими, физиологическими и психологическими признаками. На основании этого Ломброзо утверждал, что основными направлениями предупреждения преступности должны стать пожизненная изоляция, лечение или прямое физическое уничтожение «врожденных» преступников. Не случайно ученик и последователь Ч. Ломброзо Э. Ферри стал автором уголовного кодекса, действовавшего во времена фашистского режима Б. Муссолини.
Современные сторонники этого направления, формально отмежевываясь от крайностей позиции Ч. Ломброзо, тем не менее ведущими факторами, формирующими личность преступника, считают биологические (Jensen, 1971; Brown et al., 1982; Cloninger, 1982; Coble et al., 1984; Virkkunen, Penttinen, 1984).
Живучесть биологических концепций в области изучения антиобщественного поведения объясняется многими причинами, основные из которых: 1) недостаточное изучение мотиваци-онной стороны поступков человека; 2) иллюзорные надежды на то, что успехи биологических наук помогут преодолеть такие негативные явления, как преступность, пьянство, проституция и пр.; 3) нередкая заинтересованность правящей элиты в идее «биологической обусловленности» антиобщественного поведения, что позволяет ей снять с себя ответственность за разрешение острых социальных проблем.
«Поиски преступных качеств в самом человеке,— пишут Н. П. Дубинин и соавт.,— нередко приводят к делению людей на представителей «первого» и «второго» сорта, на «элиту» и массу, а в конечном счете — к расистским концепциям в обществоведении и евгеническим теориям в генетике и биологии» (1982, С. 296).

Принципиальная точка зрения большинства отечественных ученых заключается в том, что они рассматривают правонарушения как социальное явление, которое не может быть объяснено только с биологических позиций (П. Н. Федосеев, 1977; Г. В. Морозов, 1978; Н. П. Дубинин и соавт., 1982; В. Н. Кудрявцев и соавт., 1986).
Однако понимание преступности как социального явления не исключает необходимости исследований соотношения социального и биологического в человеке. «Человек,— отмечает П.Н.Федосеев (1977),— есть общественное существо, но как часть природы он и биологическое существо».
Биологическое в человеке, безусловно, имеет огромное значение в его жизнедеятельности. Несомненно также и то, что биологически все люди неодинаковы, они обладают различными способностями, темпераментом, характером, по-разному воспринимают одни и те же общественные нормы и меры воспитательного воздействия. Однако это свидетельствует лишь о различных биологических возможностях людей. Что же касается личности с ее мировоззрением, мотивами поведения, то она формируется прежде всего под воздействием социальных факторов.
Среди социальных факторов, влияющих на формирование личности, в первую очередь следует отметить малые социальные группы (семья, группа сверстников), школу, производственный коллектив и в более широком плане нацию, класс и общество в целом, осуществляющие политическое, идеологическое, культурно-воспитательное и иное воздействие.
В группе социальных факторов, влияющих на формирование личности подростка-правонарушителя, главную роль играют семья и неформальная группа сверстников. По данным Н. И. Фелинской, В. А. Гурьевой (1975), каждый третий подросток-правонарушитель рос без отца, у каждого четвертого, воспитывавшегося в полной семье, отец страдал алкоголизмом. По результатам исследований авторов, 50,7 % подростков росли в неблагополучных семьях; у 25,9 % из них была неполная семья; 14,3 % отмечали алкоголизм родителей; 3,9 % — аморальный образ жизни родителей, 15,5 % — систематические конфликты в семье; 2,6 % —систематическое избиение ребенка; 1,3 % — преступность среди родителей; 10,4 % — проживание с психически больными родителями.
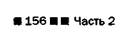
Примерно такие же данные получены и в более поздних исследованиях
В. Я. Семке и соавт. (1982) показали, что больше половины обследованных ими подростков-правонарушителей воспитывались в неполных семьях. Среди форм неправильного воспитания в равной мере играют роль как гипо-, так и гиперопека. В большинстве обследованных авторами семей (75 %) материально-бытовые условия были благополучными. Следовательно, на формирование отклонений в поведении подростка влияет не столько социально-экономический статус, сколько отрицательный микроклимат в семье.
По данным Н. П. Грабовской (1980), подавляющее большинство несовершеннолетних правонарушителей воспитывалось в семьях, где нормой поведения родителей были корысть, стяжательство, грубость, лживость, безответственность, жестокость, пренебрежительное отношение к людям, разврат, пьянство. По мнению автора, несовершеннолетние правонарушители часто встречаются и там, где низкий уровень культуры и низменный характер потребностей родителей сочетаются с высокой материальной обеспеченностью семьи.
Нередко подростки совершают правонарушения под непосредственным влиянием (или при участии) родственников. Показательны в этом отношении данные Н. П. Дубинина и соавт. (1982). Под их руководством была обследована большая группа осужденных в десяти исправительно-трудовых колониях. Оказалось, что 9 % осужденных имели судимых родственников (60 % — родителей, 35 % — братьев и 5 % — детей).
Влияние неформальной группы с антисоциальными тенденциями на противоправное поведение подростков изучено достаточно широко (К. Е. Игошев, 1971; А. Е. Личко, 1973; В. Я. Рыбальская, 1975; Н. Я. Копыт, Е. С. Скворцова, 1984; Ю. М. Антонян и соавт., 1986; и др.).
Особенно часто под влияние асоциальной группы попадают подростки малодисциплинированные, плохо успевающие, а потому не сумевшие установить правильных взаимоотношений с товарищами по классу и учителями.
Влияние неформальной асоциальной группы на формирование личности правонарушителя не ограничивается сказанным. Сложнейшие связи между личностью и группой предопределяют
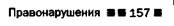
и столь же неоднозначный характер ее влияния на мотивацию противоправного поведения (см. гл. 4).
К психологическим факторам, влияющим на формирование поведения подростка-правонарушителя, следует прежде всего отнести особенности характера, его крайние варианты нормы.
A. А. Вдовиченко (1976) у 66 % подростков с делинквентным поведением отмечал акцентуации характера, А. А. Александров (1973) -у 25 %, А-Е.Личко (1983) - у 29 %. В.Г.Кузнецов (1981), обследовав группу подростков, находившихся в связи с правонарушениями в спортивном трудовом лагере, выявил акцентуации характера в 94 % случаев (в контрольной группе — в 50%).
Почти все авторы указывают на трудность разграничения нормы и патологии характера, подчеркивая в то же время, что среди психопатов правонарушителей бывает больше, чем среди лиц с акцентуацией характера (А. А. Александров, 1973; А. Е. Личко, 1983).
Многие исследователи отмечают определенную связь между типами акцентуации и характером правонарушений. В. Г. Кузнецов (1981) у правонарушителей уже указанной группы (мелкое воровство и хулиганство, участие в драках со сверстниками) выделил два основных типа акцентуации: неустойчивый (54 %) и гипертимный (40 %). В группе несовершеннолетних правонарушителей, обследованных В. Ф. Десятниковым и соавт. (1981), преобладали лица с эпилептоидными (25 %), шизоидными (18 %) и гипертимными (15,6 %) чертами характера. По данным А. Е. Личко (1983), наиболее склонны к правонарушениям подростки с неустойчивым, эпилептоидным и истероидным, а затем с шизоидным, гипертимным и эмоционально-лабильным типами акцентуации характера. Автор указывает на определенную зависимость между типами акцентуации и мотивами правонарушений. Так, кража для подростка с неустойчивым типом — это чаще всего путь раздобыть средства для развлечения; для гипер-тима — престиж; для эпилептоида — обогащение, риск, жажда острых ощущений; для шизоида — средство для пополнения коллекции, восстановления своеобразно понимаемой «социальной справедливости».
B. Т. Кондрашенко (1988) были обследованы 884 несовершеннолетних правонарушителя. Особенности характера оказались
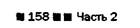
отмечены у 25 % из них. Наиболее часто правонарушения совершали лица с эпилептоидным, эксплозивным, неустойчивым, ги-пертимным и шизоидным типами особенностей характера. Четкой связи типов особенностей характера с мотивами правонарушений выявить не удалось.
Признание социальной природы правонарушений означает возможность борьбы с ними посредством общественных же мер воздействия. Однако такой подход к проблеме не означает, что можно полностью игнорировать влияние биологических факторов на формирование личности и поведение правонарушителя. «Целостность человека,— подчеркивают Н. П. Дубинин и соавт. (1982),— обладающего единой социальной сущностью и, наряду с этим, наделенного природными силами живого, чувственного существа, основана на диалектике взаимодействия социального и биологического».
К биологическим факторам, в первую очередь, относится наследственность (но биологическое — это не обязательно только генетическое), а также пол, возраст, функции внутренних органов, особенности нейродинамических процессов, наконец, здоровье и болезнь.
А. Е. Личко (1983) основными биологическими факторами, влияющими на формирование поведения у подростков, считает генетический фактор, резидуальное органическое поражение головного мозга, акселерацию и инфантилизм.
Ведущие специалисты в области генетики и криминологии подчеркивают, что биологические особенности личности неспецифичны и сами по себе не порождают преступности, но влияют на динамику поведения человека, являясь условием, морфологической и психофизиологической базой восприятия человеком социальной природы (Н. П. Дубинин и соавт., 1982). Сказанное в полной мере относится и к любой иной форме девиантного поведения (пьянство, употребление наркотиков, проституция, тунеядство, суициды).
Камнем преткновения в споре между сторонниками биологического и социального направлений в криминологии является генетический фактор. Подавляющее большинство отечественных ученых не находят прямой связи между наследственными свойствами человека и его антиобщественным, в том числе противоправным, поведением. «Специальных генов для наследования
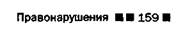
таких социальных признаков, как преступность, проституция и т. д., — пишет Г. А. Аванесов (1980), — не существует». «Преступность — не биологическая категория»,— указывает Н. П. Бочков (1981). На этой же позиции стоят и многие зарубежные ученые (Kaiser, 1975; Benezech, 1981, и др.).
Исследования показывают, что наследоваться могут только биологические особенности нервной клетки. Генетически детерминированы особенности нейродинамических процессов, инстинкты, темперамент. Что же касается высших проявлений психики, их генетическая обусловленность не находит достаточно убедительных подтверждений (Н. П. Дубинин и соавт., 1976; В. М. Русалов, 1979).
По мнению П. К. Анохина (1975), генетически закрепленные «соотношения нервных структур» могут обеспечивать следующие поведенческие особенности: последовательность движений, спонтанность реакций, предрасположенность к определенным внешним стимулам. Но когда сигнальная значимость внешних факторов, обусловленных социальной средой, непостоянна, «приспособление,— подчеркивает автор,— осуществляется наиболее подвижной частью головного мозга — корой».
Генетическое разнообразие создает уникальность, неповторимость биологической индивидуальности каждого из людей. Однако эта биологическая уникальность и обусловленные ею динамические процессы в нервной системе неспецифичны в том смысле, что они в равной мере могут быть присущи как человеку, совершившему высоконравственный поступок, так и преступнику.
Сторонники прямого влияния генетических факторов на преступность в качестве аргументов, подтверждающих правильность их позиции, указывают на разный уровень состояния и структуры преступности мужчин и женщин (Broadhurst et al., 1974), на большое сходство в поведении, в том числе и преступном, однояйцевых близнецов (Wilson et al., 1976; Clonmger, 1982), на связь хромосомных отклонений с противоправным поведением (Nielsen et al., 1975). Усилия авторов подобных концепций сконцентрированы главным образом на том, чтобы возложить вину за антисоциальное поведение на «генетически ущербных индивидов», игнорируя влияние социальных факторов.
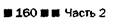
В. Т. Кондрашенко (1988) приводит подробный анализ указанных концепций.
Мужчины, действительно, совершают больше правонарушений, чем женщины. Но это объясняется условиями общественного положения женщины, а не физиологическими особенностями ее организма (Radzmowicz, 1974). Против генетической теории свидетельствует и динамика женской преступности в некоторых странах. В США с 1900 по 1972 год число арестов среди женщин за различного рода правонарушения росло в 3 раза быстрее, чем среди мужчин. Даже в таком традиционно «мужском» преступлении, как грабеж, женская преступность с 1965 по 1975 год увеличилась на 277 %, а мужская — на 169 %. Естественно, указанная динамика женской преступности не может быть обусловлена только биологическими факторами.
Особой популярностью среди сторонников биологического направления в криминологии пользуется «близнецовый метод». Выявление генетических и криминальных корреляций в группе близнецов, особенно однояйцевых, имеющих идентичный генотип, служит веским доказательством в пользу прямого наследования преступного поведения. Clonmger (1982) на достаточно большом материале показал, что конкордантность монозиготных близнецов-мужчин по антисоциальному поведению составляет 51,5 %, женщин — 35,3 %; у дизиготных мужских пар — 26,2 %, женских - 14,3 %.
В. П. Эфроимсон (1971) на основании анализа данных литературы установил, что частота совпадения преступного поведения у однояйцевых близнецов в среднем равна 62,6 %, двуяйцевых - 25,4 %.
Достоверность материала, добытого при исследовании групп близнецов с криминальной биографией, сомнений не вызывает Однако в подавляющем числе работ подобного рода отсутствует анализ социальных условий, в которых воспитывались близнецы. В то же время исследования как отечественных (И. В. Ра-вич-Щербо, 1978; и др.), так и зарубежных ученых (Kaiser, 1975; и др.) свидетельствуют о сложном характере взаимосвязи генотипа и среды.
Анализ семей разлученных близнецов показывает, что в подавляющем большинстве эти пары близнецов попадали все же в мало различающиеся по социальным параметрам среды оба
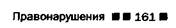
воспитывались либо в городе, либо в селе; семьи имели нередко одинаковый социально-экономический статус, многие дети были усыновлены родственниками и т. д. Полученные данные дают веские основания считать, что «сходство психологических особенностей однояйцевых близнецов объясняется не столько одинаковым генотипом, сколько сочетанием этого генотипа с одинаковой или сходной социальной средой» (Н. П. Дубинин и соавт., 1982).
В. П. Эфроимсон (1968), специально изучавший этот вопрос много лет, пришел к выводу, что «если одни социальные воздействия приводят человека данного генотипа к преступлению, то другие социальные же воздействия могут сделать его очень ценным человеком».
Криминологическое значение хромосомных аномалий обычно приписывается двум из них, связанным с наличием добавочной, 47-й хромосомы типа X (кариотип XXY) или типа Y (ка-риотип XYY). Nielsen, Nordland (1975) на основании обследования около ста подростков с хромосомными аномалиями установили, что эти аномалии вызывают не само по себе преступное поведение, а повышенный уровень активности.
Benezech et al. (1976) каких-либо корреляций между преступным поведением и наличием дополнительной Y-хромосомы не выявили.
Наряду с этим, отмечается определенная связь между хромосомной аномалией и психическими нарушениями (Г. П. Ма-ринчева и соавт., 1976; Н. Н. Тимофеев и соавт., 1976; и др.). Н. П. Дубинин и соавт. (1982), обследовав большое количество людей (82 755 человек), показали, что мутантный кариотип (XXY и XYY) среди психически больных составил 0,3 %, умственно отсталых — 0,76 %, среди преступников — 0,35 % (общая популяция — 0,1 %). На основании полученных данных авторы сделали вполне обоснованный вывод, что «никакой фатальной связи между наличием у человека кариотипов XXY и XYY и социально опасным поведением не установлено». В то же Ъре-мя наличие хотя и малой, но определенной связи между хромосомной аномалией и нарушениями психики сказывается на склонности к правонарушениям. Kaiser (1975), подчеркивая именно эту, довольно стойкую особенность исследований, направленных на доказательство связи хромосомной аномалии
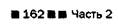
с преступностью, отмечает, что «подавляющее большинство этих исследований были сосредоточены на слабоумных и психически неполноценных».
Таким образом, убедительных данных, свидетельствующих о прямом влиянии генетических факторов на антиобщественное, в том числе преступное поведение, в настоящее время в науке не существует. С этим положением вынуждены согласиться и авторы обзоров, специально посвященных генетике поведения человека (Broadhurst et al., 1974; Omenn, 1975; Childs et al., 1976; и др.).
Крайне сложным является вопрос о связи правонарушений с психическими заболеваниями. История его уходит своими корнями в далекое прошлое. Известен период, когда в некоторых странах все преступники расценивались как душевнобольные. Такое положение устраивало правящие классы, поскольку лишало человека, нарушившего закон, любых человеческих прав, оставляя в то же время в тени истинные причины преступности.
Отголоски таких идей, соприкасающихся отдельными гранями с ломброзианством, встречаются и в наши дни (Petursson, Gudjonsson, 1981; и др.).
В отечественной науке в настоящее время сформировалось четкое представление о том, что опасные для общества действия могут совершать как здоровые, так и больные в психическом отношении люди. Правонарушение может быть совершено: 1) психически здоровым человеком (девиантная форма поведения); 2) человеком, имеющим психические расстройства, не исключающие вменяемость; 3) человеком, страдающим психическим заболеванием, исключающим вменяемость.
В первом случае речь должна идти о полной мере ответственности; во втором — наказание должно сочетаться с адекватной медицинской помощью, в третьем действие больного, если даже оно и опасно для общества, не может расцениваться как правонарушение, а сам больной нуждается в специализированной психиатрической помощи.
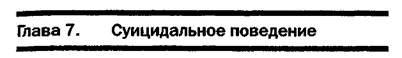
 2015-06-28
2015-06-28 3915
3915
