Хорхе Луис Борхес
ББК 84.7 Ар
Б 63
Борхес X. Л.
Б83 Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения: Пер. с исп./ Сост., вступ. ст. Вс. Багно; Коммент., аннот. указ. имен Б. Дубина. – СПб.: Северо-Запад, 1992. – 639 с. ISBN 5-8352-0020-Х
В сборник произведений выдающегося аргентинца Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986), неистощимого автора самых фантастических вымыслов и замечательного эрудита, включены избранные рассказы, стихотворения и эссе из различных книг, вышедших в свет на протяжении долгой жизни писателя.
Перепечатка отдельных глав
и всего произведения в целом – запрещена.
Всякое коммерческое использование данного произведения
возможно исключительно с ведома издателя.
© Вс. Багно, состав, 1992
© «Северо-Запад», оформление, 1992
® Северо-Запад. Зарегистрированная торговая марка. Охраняется законом.
ISBN 5-8352-0020-X
Хорхе Луис Борхес, или тысяча и одно зеркало культуры
То, к чему я стремлюсь, – недостижимо и будет сопутствовать мне до конца дней моих, загадочное, как творение или как я, ученик.
|
|
|
X. Л. Борхес
От идеи о цикличности времени, судеб и культуры, которую выстрадал век XIX, до идеи о воплощении всей полноты истории и человеческой культуры в самой, казалось бы, заурядной, затерянной во времени судьбе или самом заурядном событии – один шаг. Этот шаг уже в XX веке сделал Хорхе Луис Борхес (1899–1986), великий аргентинец, на протяжении всей своей долгой жизни окруженный двойственным, но неизменно заинтересованным вниманием собратьев по перу, преклонявшихся перед чародеем слова и при этом нередко отказывавших ему в праве считаться латиноамериканским писателем.
Как и все мы, не только писатели, Борхес многим был обязан книгам, прочитанным в детстве: «Тысяча и одна ночь», Честертон, Стивенсон, «Дон Кихот». Однако была в его детских читательских пристрастиях одна особенность, которая научила его подчинять вымысел строгому плану: пристрастие к энциклопедиям. Сочетание на одной странице несочетаемых загадочных цивилизаций, народов, языков, растений, видов оружия волновало его воображение куда больше, чем систематическое изложение авантюрных историй. В сущности, это была библиотека в миниатюре, однако вмещавшая в себя весь мир, расположенная в алфавитном порядке. Это пристрастие привило ему вкус к лаконизму, малой прозаической форме, обостренный интерес к звучанию слова, коль скоро законы алфавита, иерархия букв управляют целым миром. (Оно же, кстати, внушало и трогательную тревогу за буквы, ее отзвук мы находим в рассказе «Алеф», герой которого в детстве удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются и не теряются.) Да и филологическая оснащенность рассказов Борхеса, как отмечали исследователи, напоминает статьи в его любимой Британской Энциклопедии [1].
|
|
|
Библиотека отца имела для него настолько решающее значение, что в конце жизни в эпилоге к «Истории ночи» (1977) он признавался, что, в сущности, так из нее и не выходил. Если он из нее и вышел, то лишь затем, чтобы войти в свои собственные книги, да еще, пожалуй, в Национальную библиотеку, директором которой он станет – ирония судьбы, – когда совершенно ослепнет. «Писатель-библиотекарь» – так назвал статью о нем его соконтинентный собрат по перу Джон Апдайк. Подобно другим крупнейшим писателям Латинской Америки – Астуриасу, Карпентьеру, Кортасару, – он долгие годы провел в Европе, оттачивая стиль, проникаясь новыми литературными идеями. Однако в отличие от них он был (и в прямом, и в переносном смысле) не журналистом, а библиотекарем, и поэтому книги его несут разноголосицу не окружающего мира, а перекрестков мировой культуры. Свою роль, бесспорно, сыграла и подступавшая слепота. В лекции «Слепота» Борхес вспоминал великих слепых – Гомера, Мильтона, Джойса, – в творчестве которых зримая поэзия уступала место звучащей. Сам же он, как бы подсознательно предчувствуя постепенную утрату зрения, заменял мир видимый миром культуры.
При всей невероятной широте читательских интересов Борхеса, ошеломляющей пестроте имен и произведений, населяющих страницы его книг, круг постоянно цитируемых авторов, вечных его спутников, которым он как писатель был многим обязан, не столь уж велик. Постоянными его и нашими – его читателей – собеседниками являются Честертон, Шопенгауэр, Де Куинси, Кафка, Шоу, Стивенсон, Э. По, Уэллс, Л. Блуа, Лейбниц, Спиноза, Валери, Кэрролл, Ке-ведо. Интерес Борхеса к самым различным писателям и философам, казалось бы невозможный, объяснялся, по-видимому, тем, что его влекло к тем из них, не обязательно близким ему по духу, которые являли собой для него некую творческую загадку. Так, притягательным и загадочным для него всегда был Леон Блуа, несмотря на то, что слишком многое в нем должно было его отталкивать: расизм, фанатичная религиозность, англофобия, многословие многотомного дневника. Однако все это в глазах Борхеса искупалось парадоксальным складом пытливого ума французского «ересиарха».
Устойчивый творческий интерес Борхеса к ересиархам и мистикам прошлого и настоящего – Иоанну Скоту Эриугене, Каббале, Све-денборгу, Блейку, Л. Блуа, равно как и ко всякой, с точки зрения здравого смысла, «нечисти» – чернокнижникам, алхимикам, магам, астрологам; – чрезвычайно важная особенность мировидения аргентинского писателя. И автор, и читатели, по его убеждению, нуждаются в них, ибо только они способны на чудо, по крайней мере, всегда открыты чуду. Борхеса – библиофила, комментатора, «головного» писателя – неодолимо влекла красота всех мистических учений, когда-либо существовавших на земле. Да и метод Борхеса, ход его рассуждений, в сущности, идентичен с ходом рассуждений средневековых мистиков и чернокнижников. С той лишь разницей, что у первых их метод – это путь постижения истины, а у него он служит лишь эстетической задаче.
Симпатия Борхеса к мистикам и ересиархам прошлого имеет и другие корни. Все они были великими читателями. Поэтому и Каббала, столь притягательная для Борхеса на протяжении всей жизни, была для него не столько философией или литературой, сколько искусством чтения. Наукой чтения, искусством чтения и апологией чтения является и творчество Хорхе Луиса Борхеса. «Писание предшествует чтению, занятию более цивилизованному, более благородному, более интеллигентному», – заявил Борхес в первой из своих прозаических книг – «Всемирная история бесчестья» (1935). Более того: «Хвалиться принято собственными книгами; // Я же горжусь прочитанными». Эти строки из стихотворения «Читатель» свидетельствуют отнюдь не о чрезмерной скромности Борхеса. Прочитанными книгами Борхес гордился как писатель. Предложенный им критерий универсален: скажи мне, какие книги ты прочитал, и я скажу тебе, какой ты писатель.
|
|
|
Как и можно предположить, не было недостатка в обвинениях Борхеса в космополитизме, всеядности, «антикварности» интересов и пристрастий, равнодушии к животрепещущим проблемам Аргентины. Однако прислушаемся к выдающемуся мексиканскому романисту, попытавшемуся ответить на вопрос, для чего нужны Борхесу чужие страны и культуры: «Поэтому глупо обвинять Борхеса в том, что он «преклоняется перед иностранщиной» или что он «европеист»: может ли быть что-нибудь более аргентинское, чем эта потребность словесно заполнить пустоты, прибегнуть ко всем библиотекам мира, чтобы заполнить пустую книгу Аргентины» [2]. Основу писательской индивидуальности Борхеса (а не только универсальности его интересов и «всекультурности») составила редкая открытость его духовного мира самым, казалось бы, взаимоисключающим ветрам из миров искусства. Она была заложена в детстве и юности перемещением с континента на континент, в Европе из страны в страну (Швейцария, Италия, Испания), языковой восприимчивостью (позволявшей ему в оригинале читать англичан, французов, немцев, итальянцев, португальцев, в какой-то мере даже исландские саги), особой предрасположенностью к игре фантазии, пристрастившей его к роскошным вымыслам Востока.
Любопытным свидетельством широты интересов Борхеса, подчиненных в то же время строгому внутреннему отбору, являются книги, написанные им в соавторстве с кем-либо из друзей, учеников или коллег: «Антология фантастической литературы» (совместно с А. Бьой Касаресом и С. Окампо, 1940), «Лучшие детективные рассказы» (совместно с А. Бьой Касаресом, 1943), «Антология германских литератур» (совместно с Д. Инхеньерос, 1951), «Короткие и невероятные истории» (совместно с А. Бьой Касаресом, 1955), «Руководство по фантастической зоологии» (совместно с М. Герреро, 1967), «Введение в английскую литературу» (совместно с М. Э. Васкес, 1965), «Книга о воображаемых существах» (совместно с М. Герреро, 1967), «Введение в литературу США» (совместно с Э. Самбараин де Торрес, 1967), «Что такое буддизм» (совместно с А. Хурадо, 1977), «Краткая антология англосаксонской литературы» (совместно с М. Кодама, 1978) и так далее.
|
|
|
Очевидно, что внимание Борхеса в необозримых библиотечных лабиринтах привлекало далеко не все. Герои Борхеса – люди, стремившиеся во все времена к невозможному, пытавшиеся разгадать тайну бытия и запечатлеть ее в слове. Основная, если не единственная, тема Борхеса – томления духа на протяжении всей истории человечества, во все времена и во всех странах. Неоспоримое, безусловное значение творчества, духовного поиска – вне зависимости от результата – таков этический урок, выносимый из творчества аргентинского писателя. При этом литературная (не человеческая) позиция Борхеса бесстрастна, примерно так же, как бесстрастна позиция Флобера. С той лишь разницей, что материал Флобера – человеческие страсти, а материал Борхеса – история культуры. Хрестоматийный пример этой бесстрастности – описание одного из сочинений Пьера Менара: «Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество».
Борхес попытался вскрыть литературный потенциал философии и теологии. Он взглянул как художник, с эстетической точки зрения, остро и заинтересованно, но бесстрастно на духовные, этические, религиозно-философские искания человечества. С эстетической точки зрения на этические учения, на поиски истины, каждое из которых для их адептов – единственно возможное. Для него же – одно из многих, соперничающее с бесчисленным множеством иных в красоте, занимательности, оригинальности и парадоксальности. Но главное – в красоте. И увидел, кстати, сколь много общего в этих учениях, концепциях и доктринах, сторонники которых сжигали друг друга на кострах за малейшие отклонения от их буквы. «Теология вполне может быть художественным произведением, – писал в связи с рассказом «Богословы» Хайме Алацраки, – поскольку, согласно Борхесу, у нее есть эстетический аспект и она проникнута чудом. Тем самым рассказ выполняет функцию зеркала, выявляя чудесную грань «истин» теологии, или, точнее, перетряхивает эти истины, чтобы продемонстпировать их художественную сущность» [3]. Ранее на той же особенности своего друга и учителя настаивал А. Бьой Касарес: «Борхес, подобно философам Тлена, вскрыл литературные возможности метафизики» [4]. Можно лишь добавить, что речь идет не только о литературных возможностях метафизики, но об авантюрно-беллетристическом потенциале культуры в целом. Да и у самого Борхеса немало признаний, дающих читателю искомый ключ. «Вымыслы, на которые способна философия, бывают не менее фантастичны, чем в искусстве», – читаем в эссе «Скрытая магия в «Дон Кихоте»». Ветвью фантастической литературы считали метафизику обитатели Тлена. Вполне естественно поэтому, что не любая философская или религиозная доктрина, не любое «томление духа» сохраняет свое значение для современности, а лишь эстетически полноценное, художественно выразительное. Отсюда один из изблюбленных Борхесом жанров – «оправдания»: оправдание Каббалы, Василида, «Бувара и Пекюше». Еще в 1930-е годы, сотрудничая в литературно-критическом отделе журнала «Эль Огар», Борхес сформулировал столь значимые для него тезисы оправдания художественно полноценной, хотя и безнадежно устаревшей в своем прямом смысле, философской системы. В заметке, посвященной великому каталонскому средневековому мыслителю Рамону Льюлю, он писал: «В качестве инструмента философского познания логическая машина абсурдна, чего не скажешь о ней же, как об инструменте литературном и поэтическом.... Поэт, подыскивающий эпитет к слову «тигр», в точности напоминает эту машину» [5].
В сущности, Борхес навсегда остался верен не только книгам и авторам, прочитанным в юности, но и своей юношеской поэзии, своим ультраистским экспериментам. Будучи ультраистом, приверженцем литературного течения, промелькнувшего, подобно многим другим, по пестро и густо населенному поэтическому небосклону Европы 20-х годов, он утверждал, что метафора – основа и цель поэзии. Не этот ли самый принцип – ряд парадоксальных, поражающих воображение уподоблений, основанных на внешнем или глубинном сходстве или сродстве идей, концепций, доктрин, – лежит в основе его рассказов-эссе? Жанр новелл-эссе или эссе-новелл, созданный Борхесом, – это синтез тех двух более привычных жанров, через которые он как художник прошел до этого: интеллектуальной поэзии и литературного обзора в журнале. Для «тотального поэтического эффекта», которого, по его собственному признанию, он добивался, подходит лишь малая прозаическая форма, особенно самая малая – одна-две страницы. Поэтому, чем лаконичнее рассказ, тем он художественно полноценней. Относительно большие по объему знаменитые новеллы ранних сборников «Вымыслы» (1944) и «Алеф» (1949) замечательны, однако насколько совершеннее миниатюры поздних сборников: «Парабола дворца», «Inferno, I, 32», «Борхес и я». Борхес-поэт никогда не писал поэм, Борхеса-прозаика никогда не тянуло к жанру романа, Борхес-эссеист не оставил нам ни одного трактата. Лаконизму Борхеса научил, как это ни парадоксально, Данте, автор необъятной «Божественной комедии». Вспомним, о чем нам поведал сам писатель в «Семи вечерах». Чтобы познакомить с героем, которых у него множество, Данте достаточно мгновения. Персонаж живет у него в одном слове, одном действии; его великая, вечная, полная событий, неисчерпаемой глубины и трагизма жизнь укладывается в несколько терцин. Открытие заключалось в том, что главный момент должен быть представлен как знак всей жизни. Там же – в «Семи вечерах» – Борхес пишет об использовании этого открытия великого флорентийца в своих прозаических миниатюрах.
Встрече поэта и литературного критика и рождению Борхеса-новеллиста предшествовал трагический инцидент. Поднимаясь в 1938 году по темной лестнице, уже и тогда плохо видевший Борхес ударился лицом о стекло полуоткрытого окна. Проведенные в бреду три недели завершились более или менее успешной операцией. Впоследствии Борхес вспоминал, что у него возникло опасение, не потерял ли он способность писать. И тогда он решил попробовать свои силы в новом для него жанре рассказа. Ибо в случае неудачи можно было убедить себя в том, что причиной ее послужила неопытность. Так возникли первые рассказы сборника «Вымыслы».
Жизнь, всецело отданная книгам и служению культуре, – всемирная известность. Но был у этой состоявшейся так, а не иначе жизни – неторопливой и не богатой тем, что принято называть событиями, не взвихренной страстями, – и некий невидимый подбой. «Томительные будни и удавка книг», – напишет Борхес в одном из поздних своих сонетов, доверив классической поэтической форме то настроение, которому был заказан путь в новеллы или эссе о ересиархах далекого прошлого или головорезах недавнего. Так что ощущения полной безмятежности, гармонии и согласия с самим собой не было, но поэтика Борхеса отторгала все слишком личное.
Между двумя полюсами, двумя циклами в творчестве Борхеса – «мифологией окраин» и «играми со временем и пространством» – очень много общего. Уже хотя бы потому, что первые освящены прихотливой фантазией их автора, а вторые, в сущности, представляют собой апологию мужества, решительности, отваги – умственной, интеллектуальной, духовной, – восхищение способностью человека дойти в поиске ответов на загадки бытия до последней черты – и переступить ее. Во всех без исключения ощутима своеобразная библиофильская подкладка. Давно было замечено, что все рассказы Борхеса, даже такие «стихийные», «почвенные», как «Мужчина из Розового кафе», имеют некую «литературную» основу. Всеми оттенками библиофильских интересов играют фантастические и детективные новеллы. Разница между фантастикой Борхеса и научной фантастикой состоит в том, что, согласно И. А. Тертерян, «его машина времени» – книга, его «гиперпространство» – история культуры, его «пришельцы» – художественные метафоры, философские гипотезы, вековые образы» [6]. Сложное, хотя и ненавязчивое для читателя, переплетение различных текстов характерно и для детективных историй. Так Луис Антесана Хуарес описывает соотношение «текста, написанного ранее», «текста сада» и «текста интриги» в блистательном, читаемом на одном дыхании рассказе «Сад расходящихся тропок».
Подобно тому, как Достоевский, сравнивая своего героя с тем или иным знаменитым литературным персонажем, избавлял себя от необходимости давать ему пространную характеристику, Борхес также подчас характеризует своих героев не непосредственно, а сугубо «книжными» средствами. «Библиография сочинений Пьера Менара, – по тонкому наблюдению А. Бьой Касареса, – это отнюдь не прихотливый или плоско-сатирический список; это также не иронический пассаж для понимающих что к чему литераторов; это история пристрастий Менара, сжатая биография писателя, самая краткая и точная характеристика» [7]. Что же касается обилия цитат, которые могут привести в ужас неподготовленного читателя, то они не только не разрушают цельности стиля, не только участвуют в действии, но, собственно, действием подчас и являются. В некоторых из рассказов-эссе Борхеса цитаты выполняют функцию персонажей. И тогда именно цитатами определяется ход рассказа, как ход шахматной игры – ходами шахматистов. Некоторые же из этих «ходов» эрудиции имеют такое же решающее – победное – значение, как и в шахматах. Отметим попутно, что несомненное сходство между литературным творчеством и составлением шахматных задач видел и Набоков, с которым Борхеса нередко сравнивали. Так, Дж. Штайнер высказал предположение, что другая общая особенность Борхеса и Набокова – обилие ложных цитат и отсылок – имеет общим источником «Бувара и Пекюше» Флобера [8].
Главной своей задачи – доказать читателям, что мир не так прост, как им кажется, что вполне реальной жизнью живут не только люди и вещи, но и символы, созданные людьми [9], – Борхес добивался как бы играя. Его творчество – это и увлекательная игра в литературу и философию, и руководство по этой игре.
В прозаических книгах Борхеса нас ожидает также встреча с причудливыми эссе, глоссами, основанными на культурном материале, однако проникнутыми детективным духом, загадочными миниатюрами, доносящими до нас вымышленные, а точнее, сконструированные по типу коллажей свидетельства исчезнувших цивилизаций и духовных поисков европейцев. Одной из самых характерных особенностей творчества является обилие аннотаций, справок, «фрагментов», «цитат», комментариев к ненаписанному. Сам Борхес прекрасно прокомментировал (еще одно «оправдание»?) эту свою особенность в Предисловии к сборнику «Сад расходящихся тропок»: «Нелеп и расточителен кропотливый труд по созданию пухлых томов, труд по растягиванию на пятьсот страниц идей, которые с успехом можно изложить в двух словах в считанные минуты. Разумнее всего предположить, что эти книги уже существуют, и дать их резюме, краткое изложение». Присмотримся внимательнее к некоторым рассказам Борхеса. «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» – примечание к несуществующей Энциклопедии; «Приближение к Альмутасиму» – примечание к несуществующему роману; «Пьер Менар, автор „Дон Кихота»«и «Анализ творчества Герберта Куэйна» – комментарии к литературному наследию вымышленных писателей. Ни с чем не сравнимая игра ума и магия библиофильских интересов заключены уже в столь любимых Борхесом перечнях несуществующих книг, например в «Вавилонской библиотеке»: «Все: подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог Библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательство фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан (но не был) Бэдой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита». В Предисловии к собранию своих предисловий Борхес с увлечением пишет о задуманной им книге предисловий к несуществующим книгам: «Некоторые сюжеты более соответствуют праздной игре фантазии, чем кропотливому литературному труду» [10]. И посему человеческая культура только обогатится, если они найдут место именно в предисловиях, избавляющих читателя от необходимости читать сами книги, а писателей – долго и мучительно сочинять их.
Научность, «академичность» Борхеса, конечно же, не должна вводить в заблуждение. Она отчасти напоминает ту курьезную классификацию, играющую всеми оттенками парадоксальности, фантазии и остроумия, которую мы находим в рассказе «Аналитический язык Джона Уилкинса» и которая якобы извлечена из древнекитайской энциклопедии: «Животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих, как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) издали похожих на мух».
Проблема подложного автора – столь притягательная для современной науки о литературе – в творчестве Борхеса оказывается малосущественной, ибо, с одной стороны, потребность писателя в мистификации переходит все дозволенные границы, когда теряется само понятие границы, а с другой – все вымышленные авторы, средневековые ересиархи и обитатели иных миров щедро и откровенно одарены автором его собственными идеями, убеждениями и гипотезами. Достаточно в этом смысле сопоставить рассказ «Вавилонская библиотека» и эссе «Сфера Паскаля», рассказ «Анализ творчества Герберта Куэйна» и эссе «По поводу классиков». В первых двух зеркально отражаются размышления о сферичности мироздания, во вторых – представление о том, что красоту может таить в себе любой уличный диалог.
Рассказы Борхеса построены по законам научных исследований и подчинены их логике, эссе подчинены логике художественного творчества и построены по законам сюжетной прозы. Трудно сказать, что на первых порах воспринимаюсь как большая неожиданность, как непросто догадаться, чему суждено оставить более глубокий след в истории литературы. При всей кажущейся вторичности, литературности, элитарности творчества Борхеса оно удивительным образом смыкается как по своим внутренним закономерностям, так и по занимательности, по способности увлекать не слишком искушенного читателя с такими популярными жанрами, как детектив и фантастика. Пожалуй, особенно неожиданным оказывается применение законов детективного жанра в литературно-критической и философской эссеистике. В творчестве Борхеса – библиофила-детектива – нас ждет встреча с философскими загадками библиофильского сыска. Открытие писателя состояло в том, что он применил законы и методы детектива и авантюрного романа к книговедческим штудиям с культурологической перспективой. Во многих сборниках аргентинского писателя, особенно в «Новых расследованиях» (1952), перед нами типичный поиск скрытых мотивов, выявление связи событий, поиск тайной пружины происшествия (зарождение и бытование в мировой культуре книги, идеи, образа). Да простится такое кощунственное сравнение, но творчество Борхеса, обг>ективно популяризируя средствами детективного, фантастического и приключенческого жанров великие, но подчас темные философские и религиозные доктрины прошлого, носит по отношению к ним рекламный характер, обогащая тем самым людей, ничего, кроме беллетристики, не читающих.
Пафос творчества Борхеса в том, что критик, переводчик и даже читатель – а, следовательно, все мы – такой же творец, как и писатель, а иногда и лучше первого. С предельной откровенностью эта мысль высказана в рассказе «Пьер Менар, автор „Дон Кихота»«, но, в сущности, все творчество аргентинского писателя является доказательством de facto этого тезиса. Действительно, что такое все наши цитаты из литературных памятников прошлого и настоящего, как не попытка «написать» эти фразы? Каждая из них и равна и абсолютно не равна себе, принадлежит и автору и нам, поскольку мы вкладываем в нее уже новый смысл, необходимый нам в данную минуту, который, естественно, никак не мог входить в задачи автора. Поскольку каждый из нас читает книги не в той последовательности, в которой они были в разные эпохи и в разных странах написаны, а в произвольной, каждый – в своей, то между книгами и вообще элементами культуры в сознании и душе каждого читателя возникают свои связи, своя система. Поэтому Кафка, прочитанный до Сервантеса, оказывает влияние на «Дон Кихота», а «Улисс» Джойса, прочитанный до «Одиссеи» Гомера, – на древнегреческий эпос.
Вполне естественно, что наша творческая способность по отношению к культуре прошлого имеет особое значение для писателей. Программным манифестом прозвучал основной вывод эссе «Кафка и его предшественники»: «Ведь каждый писатель создает своих предшественников. Написанное им преображает наше понимание прошлого, как преображает и будущее».
С обостренным интересом к культурологическим парадоксам Борхеса отнеслись французские структуралисты. «Такова дивная утопия, – писал, например, Ж. Женетт, – которую таит в себе, согласно Борхесу, литература. Да будет дозволено мне увидеть в этом мифе больше правды, чем во всех истинах литературной «науки». Литература – это настолько пластичная сфера, настолько гибкое пространство, что в ней на каждом шагу нас подстерегают самые неожиданные встречи и самые парадоксальные сближения». И далее: «Тем самым Борхес утверждает или подтверждает мысль о том, что поэзия создается всеми, а не кем-то одним. Пьер Менар является автором «Дон Кихота» уже хотя бы потому, что им является каждый читатель (каждый истинный читатель). Все авторы суть один автор, ибо все книги – это одна книга, а, следовательно, одна книга в той же мере является всеми и «мне известны такие, которые наряду с музыкой для всех нас заключают в себе все» [11].
Воспользовавшись известной метафорой Стендаля – «кристаллизация любви» [12], – можно усмотреть в предложенной Борхесом концепции теорию кристаллизации культуры. Ход истории, смена, а точнее, накопление литературных стилей, напластование интерпретаций бесконечно обогащают художественное произведение, заставляют его играть все новыми оттенками смысла. Улыбка Борхеса (текст Мена-ра бесконечно более богат по содержанию; Сервантес писал как Бог на душу положит, а Менар ощущал таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман) не должна вводить в заблуждение. Речь, по словам Г. В. Степанова, в сущности, идет о том, что «один и тот же текст, проходя сквозь реальные „возможные миры», становится более многомысленным в восприятии современного читателя: возрастает его ассоциативная насыщенность, время подтверждает или отрицает этическую ценность некогда добытых истин, прежние открытия обретают новую перспективу или превращаются в расхожие тривиальные истины. Судьба произведения искусства „записана» в нем самом» [13].
Судьбе по нраву повторения, варианты, переклички – в биографиях людей, философских системах, поэтических метафорах. Чем значимее то или иное явление, тем вероятнее его повторяемость. Борхес не только был убежден в этом, но свое назначение видел в том, чтобы выявлять эти сцепления и переклички. Через все его творчество проходит идея об ограниченном числе историй, циклов, метафор. И назначение человека и культуры в целом – без конца пересказывать их заново, на свой лад, со своей, новой, интонацией. «Историй всего четыре, – писал Борхес в 1972 году, когда за плечами его были тысячи прочитанных книг и сотни прозаических и поэтических «вымыслов». – И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде». Своя, неповторимая интонация при произнесении метафоры – уже в этом, согласно Борхесу, подвиг поэта и его неоспоримая победа.
Как человек является неким повторением, неточной копией, эхом своего отца, деда, предка, так и книга, образ, метафора – суть отголоски уже бывшего в культуре. Это, конечно же, не значит, что каждое новое произведение искусства не имеет, по Борхесу, своей неповторимой и невозвратимой ценности. Ибо если бы, подобно поступкам и мыслям троглодитов, героев рассказа «Бессмертный», все новое в культуре было лишь отголоском старого, то она перестала бы волновать. Философия эха в культуре – одно из основных откровений аргентинского писателя. Поскольку культуру хранит и продолжает прежде всего письменность, эхо реализуется переводами (адаптация-ми, переложениями, интерпретациями) из эпохи в эпоху, из цивилизации в цивилизацию, из религиозной доктрины в литературу, из творческой индивидуальности в творческую индивидуальность. В произведениях Борхеса мы находим как свод, или даже генеалогию метафор всемирной истории и мировой культуры (например, вечные метафоры сна и смерти, женщины и цветка в эссе «Метафора»), так и развитие, «переозвучивание» им самим в разные периоды творчества нескольких ключевых тем и мотивов: книга как парабола Вселенной («Сад расходящихся тропок», «Парабола дворца»), тема предателя в мировой истории и культуре («Форма сабли», «Тема предателя и героя», «Три версии предательства Иуды»), идея бесконечной книги («Вавилонская библиотека», «Книга песка»). Иногда параболы Борхеса, воскрешая древние мифы, заставляют увидеть взаимное отражение произведений, вряд ли воспринимаемых как звенья единого цикла. Так, историей одной страсти – зависти – предстает библейская легенда об Авеле и Каине в рассказе «Богословы», увиденная сквозь призму «Моцарта и Сальери» Пушкина и «Авеля Санчеса» Унамуно. В «Злодейке» слышны отзвуки «Идиота» Достоевского, в «Deutsches Requiem» – «Книги Иова».
Философия эха, подтверждений которой немало в человеческих судьбах, в истории и в культуре, нашла отражение и в рассказах цикла «мифологии окраин», и в лирике Борхеса. В новелле «Мужчина из Розового кафе» женщина принадлежит вначале самому смелому из мужчин округи. Потом она достается чужаку, еще более отчаянному, чтобы наконец, уже добровольно, прийти к тому, кто его одолеет и смоет позор с селения. Другой вечной теме посвящен сонет «Ewigkeit»; бренности бытия, которую поэт готов был бы воспеть, если бы не сознавал, что все, едва исчезнув, тотчас обволочется вечностью. Одним из самых ярких воплощений идеи о вечном возвращении, параболах уже бывшего в жизни людей и цивилизаций является «Ульрика» – редкая у Борхеса проникновенная новелла о любви. Ничего не меняется, ничего не происходит, время стоит на месте, ибо люди и отношения между людьми остаются все теми же. Иные и прежние герои – колумбиец и норвежка – встречаются в Йорке в наши дни, но и в ту пору, когда Англия принадлежала норвежцам, которые, кстати говоря, впервые открыли Америку. Поэтому-то колумбиец он или нет, происходят события в наши дни или в средние века, разделяет меч героев или нет – «вопрос веры», как отвечает Хавьер (он же Сигурд) на вопрос Ульрики (она же Брунхильда), что значит быть колумбийцем.
В эссе «Четыре цикла» Борхес упоминает четыре основных истории, эхом которых до сих пор полнится культура: о падении города, о возвращении героя, о поиске и о самопожертвовании Бога. Мы без труда обнаружим их и в творчестве самого Борхеса, не нужно лишь забывать об авторской «интонации», на которой писатель настаивал. Эта интонация может заключаться и в перенесении акцента. С судьбы города – на судьбу людей, с судьбы одного героя – на судьбу другого, с осуждения – на оправдание, с самопожертвования – на принесение в жертву. И тогда первую из этих историй мы обнаруживаем в новелле «Злодейка». «Падения города» в ней не происходит, ибо женщина – причина соперничества – приносится в жертву. За Бога могут принять рассказчика. И тогда версией вечной темы о самопожертвовании – вынужденном – может стать Евангелие от Марка. Крахом, как и в других современных версиях, может завершиться поиск в «Смерти и буссоли». Впрочем, поиск героя «Ундра» завершается классическим обретением. Иногда, чтобы помочь читателю, Борхес сам дает ему в руки ключ определения цикла. Так, в рассказ о долгом пути героя новеллы «Бессмертный» – к смерти, к способности быть смертным – Борхес вводит упоминание Аргуса, старого умирающего пса из «Одиссеи».
В отношении Борхеса к культуре, литературе, сюжетам, метафорам, чужому творчеству есть что-то фольклорно-патриархальное, нечто от мировидения гаучо, людей «окраин», близких природе, стихийно выражающих общечеловеческие порывы, неизменно повторяющиеся на протяжении веков. Определяя свое место в культуре, вглядываясь в свое и в то же время в чужое – литературное – лицо, Борхес писал: «Охотно признаю, что кое-какие страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции». Тем самым в этой поздней миниатюре – «Борхес и я» – с предельной откровенностью высказано давнее его убеждение, что каждый получает необъятную культуру прошлого с рождением и владеет ею наряду с другими, внося в нее свой посильный вклад, свою, дай Бог, неповторимую интонацию.
«Я знаю, кто я», – вслед за Дон Кихотом с сознанием собственного достоинства мог бы сказать Борхес, неустанно повторявший, что все, что им сделано, было уже у Э. По, Стивенсона, Уэллса, Честертона и некоторых других. Ни грани самоуничижения в этих признаниях не было. Если новое произведение искусства представляет собой новое прочтение старых текстов и неожиданная комбинация старых мотивов способна дать жизнь новому, оригинальному замыслу, – то не напоминает ли понятый таким образом литературный труд достойную всяческого восхищения работу садовника по выведению новых видов цветов и плодовых деревьев? Борхес на практике доказывал то, что утверждали французские структуралисты, а ранее – русские формалисты. Согласно Р. Барту, литература – ничто иное, как язык, где новизна возникает из комбинации слов, а не в новом сообщении. Нередко в творчестве аргентинского писателя видели подтверждение многих тезисов (отвергаемых отнюдь не только вульгарными социологами) русских формалистов. «Методы и приемы сюжетосложения, – утверждал в 1929 году В. Шкловский, – сходны и в принципе одинаковы с приемами хотя бы звуковой инструментовки. Произведения словесности представляют из себя плетение звуков, артикуляционных движений и мыслей» [14]. В сущности, и для Борхеса мастерство писателя было сродни исполнительскому мастерству музыканта. Литература тем самым воспринималась им как некий уже существующий, хотя и неисчерпаемый, бездонный текст, который каждый новый писатель играет по-своему.
Круг разрабатываемых Борхесом на протяжении всей жизни парабол, ассоциаций и метафор достаточно ограничен, но невероятно вариативен и богат по оттенкам. «Стихотворение с вариантами, – писал современник Борхеса П. Валери, – настоящий скандал для сознания обыденного и ходячего. Для меня же – заслуга. Сила ума определяется количеством вариантов» [15]. С неизбежностью многое утрачивая, переводы имеют некоторые уникальные неоспоримые преимущества, которые мы не всегда осознаем. Как и любой писатель, Борхес постоянно возвращался к одним и тем же ключевым для него темам, персонажам, ситуациям. Отсюда – повторы, самоцитирование. Заметнее всего это в эссеистике, однако с таким же успехом можно признать различными версиями одних и тех же неизменно волновавших авторов прозаических, драматических или поэтических ситуаций и романы Достоевского, и пьесы Островского, и стихи Федора Сологуба. Переводы самоповторов Борхеса, осуществленные различными переводчиками, позволяют придать им чуть большую вариативность. В то же время, по закону сдвинутого эквивалента, отдельные стилистические или смысловые оттенки, утрачиваемые в одном переводе, компенсируются, позволяя приблизиться к более адекватному отражению важнейших для Борхеса текстов.
Одна из основных метафор, привлекавших внимание Борхеса в мировой культуре и послужившая основой многих его произведений, – это метафора Вселенной (она же Сад и Дворец) как Книги (она же Библиотека или Слово). Подчас эта метафора разворачивается у него в ряд взаимоотражающихся зеркал. Слово как парабола Книги, Книга как парабола Библиотеки, Библиотека как парабола Дворца или Сада, Сад и Дворец как парабола Мироздания. Вместе с тем Сад – это парабола Рая, а Книга – это Лабиринт и в то же время Книга – это Время. Покорившее воображение Борхеса философское сближение действительно универсально и зародилось оно в недрах древнейших цивилизаций. Д. С. Лихачев пишет: «Сад – это подобие Вселенной, книга, по которой можно «прочесть» Вселенную. Вместе с тем сад – аналог Библии, ибо и сама Вселенная – это как бы материализованная Библия. Вселенная своего рода текст, по которому читается божественная воля. Но сад – книга особая: она отражает мир только в его доброй и идейной сущности» [16]. (Именно поэтому, кстати говоря, неизбывны боль и усталость Ю Цуна, убившего китаиста Стивена Альбера, который разгадал связь между садом и книгой, завещанными человечеству Цюй Пэном, а не только потому, что Цюй Пэн был его прадедом.)
Вполне понятной оказывается верность аргентинского писателя тем мыслителям прошлого и настоящего, которых, как и его, неодолимо влекла загадка взаимоотражения Свитка Писания и Свитка Творения. Так, в эссе «О культе книг» он развивает идею Бэкона о том, что значение для нас имеют не столько эти сближения сами по себе, сколько тот факт, что вторая книга – ключ к первой. В той же мере заслуживают внимания и размышления кабаллистов о мире как алфавите и человеке, который по нему учится грамоте. С несомненным сочувствием в «Зеркале загадок» он цитирует Де Куинси («Даже бессвязные звуки бытия представляют собой некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших») и Л. Блуа («История – это нескончаемый литургический текст, в котором йоты и точки не менее значимы, чем стихи или же целые главы, однако смысл тех и других никому не ведом и глубоко сокрыт»).
В мире книжных загадок Борхеса как гармония Свитка Писания, так и несовершенство Свитка Творения (коль скоро они далеко не во всем и не всегда зеркально отражают друг друга) способны вызывать и восхищение, и тревогу. Вспомним рассуждение в рассказе «Вавилонская библиотека» о человеке как о несовершенном библиотекаре, который мог быть порождением злых гениев в отличие от Вселенной, оснащенной «изящными полками, загадочными томами, нескончаемыми лестницами для странника и уборными для оседлого библиотекаря», что могло быть только творением Бога. Совсем другую книгу – книгу как лабиринт и как время – бессвязный роман, который был «садом расходящихся тропок», – создал некогда китаец Цюй Пэн, а англичанин Стивен Альбер разгадал эту загадку. Его Книга – это нескончаемый, но и неискаженный образ мира, в котором нас ждут бесчисленность временных рядов, растущая, головокружительная сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен.
Книга стихов, строка, Слово, вмещающие в себя всю Вселенную, могут быть внушены свыше («Мне голос был»), особенно во сне. Этот старый взгляд, «согласно которому евангелисты и пророки суть писари, бездумно воспроизводящие то, что диктует Бог» (и который находит отражение в эссе «Оправдание Каббалы»), был подхвачен романтиками и затем символистами. У Борхеса он является ответвлением главной темы и нашел отражение в таких рассказах и эссе, как «Письмена Бога», «Ундр», «Зеркало и маска», «Сон Колриджа», «Парабола дворца» [17]. Далеко не случайно гибнут те, кому открылось одно-единственное Слово. Они вольно или невольно посягнули на Тайну, дерзнули узнать то, что сокрыто от человека, и преуспели в этом. Гибнет поэт в «Параболе дворца», кончает самоубийством поэт в «Зеркате и маске». Однако совсем иной исход имело открытие жреца в рассказе «Письмена Бога», примирившегося в конце концов со своей участью пленника: «И пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать «тигр» – значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на божьем языке эту бесконечную перекличку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно, и не поочередно, а разом». Точно так же остается жив и герой «Ундра», познавший тайну искусства, узнавший, что Слово, вмещающее в себя все остальные и все остальное, существует, и для каждого оно – свое. Знаменательно, что он разгадал тайну искусства, ночуя на берегу реки, впадавшей в море. Поэзия – это сущность каждого человека, которую только он способен выразить и которая у каждого своя, несмотря на то, что вместе мы составляем человечество, а искусство принадлежит всем.
В сущности, Борхес при всей обманчиво-скромной оценке собственных достижений попытался совершить и совершил невозможное – создал мировую культуру в миниатюре. Если представить себе, что от всех письменных памятников всех цивилизаций и религий мира не уцелело ничего, то только по его творчеству можно получить о них достаточно емкое и яркое представление.
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Хорхе Луису Борхесу было бы недостаточно просто восхититься этими строками Мандельштама. Не менее сладок ему был и миг узнавания в них и мысли Платона о том, что всякое знание не что иное, как воспоминание, и знаменитого стиха Книги Экклесиаста: «...и нет ничего нового под солнцем», и, наконец, избитого трюизма: всякое новое – это хорошо забытое старое. Тем более сладок нам миг узнавания полуугаданных некогда тайн человеческого предназначения в неповторимых вымыслах Борхеса.
Bс. Багно
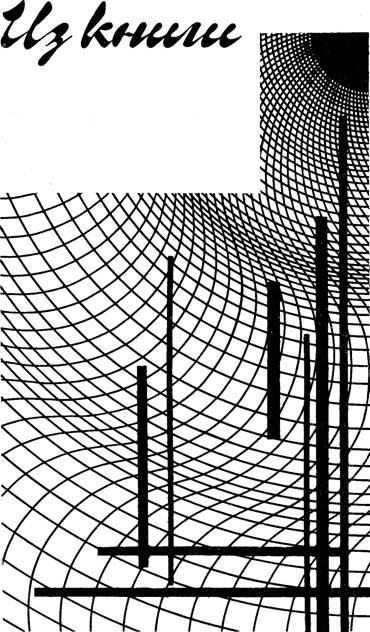
Жар Буэнос-Айреса
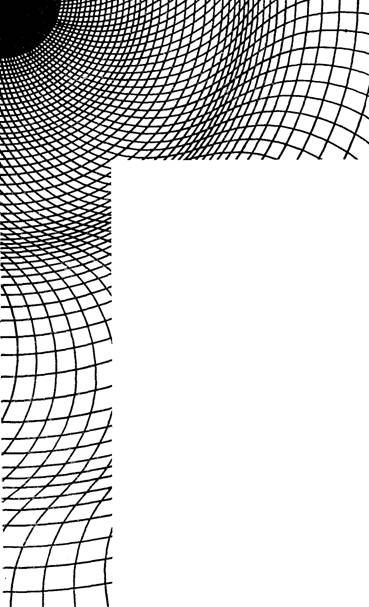
Роза

Та роза, которая вне тленья стиха, – всего лишь аромат и тяжесть, роза чернеющих садов, глухих ночей, любого сада на любом закате, та, воскресающая волшебством алхимика из теплой горстки пепла, та роза персов или Ариосто, единая вовеки, вовеки роза роз, тот юный платонический цветок – слепая, алая и для стиха недосягаемая роза.
Конец года
Не символическая
смена цифр,
не жалкий троп,
связующий два мига,
не завершенье оборота звезд
взрывают тривиальность этой ночи
и заставляют ждать
тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная:
всеобщая и смутная догадка
о тайне Времени,
смятенье перед чудом –
наперекор превратностям судьбы
и вопреки тому, что мы лишь капли
неверной Гераклитовой реки,
в нас остается нечто
несокрушимое.
Простота
Садовая калитка
откроется сама,
как сонник на зачитанной странице,
и незачем опять
задерживаться взглядом на предметах,
что памятны до мелочи любой.
Ты искушен в привычках и сердцах,
и красноречье недомолвок тонких –
как паутинка общности людской.
А тут не нужно слов
и мнимых прав:
всем, кто вокруг, ты издавна известен,
понятны и ущерб твой, и печаль.
И это – наш предел:
такими, верно, и предстанем небу –
не победители и не кумиры,
а попросту сочтенные за часть
Реальности, которая бесспорна,
за камень и листву.
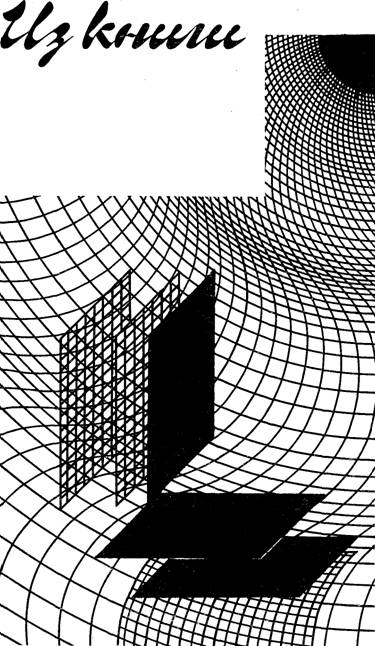
Дискуссия
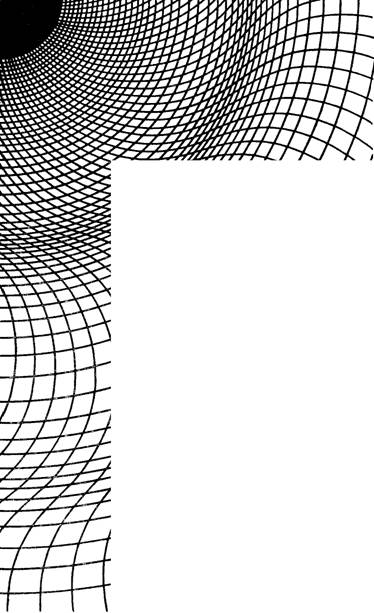
 2017-12-14
2017-12-14 4957
4957







