Ради милосердия Бога нашего мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси королевне Елизавете Английской, Французской [468], Ирландской и иных.
Некоторое время тому назад брат твой, король Эдуард[469], послал своих людей под предводительством Ричарда для каких-то надоб ностей по всем странам мира и писал ко всем управителям. А на наше имя ни одного слова послано не было. Те люди твоего брата, вольно или невольно, пристали к морской пристани у нашей крепости на Двине. Мы, как подобает государям христианским, милостиво оказали им честь, приняли их за государевыми парадными столами, пожаловали, к брату твоему отпустили.
После мы послали к брату твоему посланника. А купцам твоего брата дали свободную жалованную грамоту, какую даже из наших купцов никто не получал, а надеялись за это на великую дружбу и на услуги от английских людей.
Когда брат твой Эдуард скончался и на престол вступила сестра твоя Мария, а потом она вышла замуж за испанского короля Филиппа[470] и Филипп и Мария приняли нашего посланника, а дела с ним никакого не передали,
|
|
|
А после стало известно, что сестра твоя Мария скончалась, а Филиппа англичане выслали из королевства, а на королевство посадили тебя. Но мы и тут не учинили твоим купцам никаких притеснений.
А до сих пор сколько ни приходило грамот — хотя бы у одной была одинаковая печать! У всех грамот печати разные. Таким грамотам ни в каких государствах не верят. У государей в государстве должна быть единая печать. Но мы и тут вашим грамотам доверяли.
После ты прислала к нам своего посланника Антона Янкина[471]. Мы передали с ним устно великие тайные дела, желая с тобой дружбы. Нам неизвестно, передал ли эти дела тебе Антон или нет. А от тебя никакой посланник к нам не прибывал. Нам стало известно, что в Ругодив[472] приехал твой подданный англичанин Эдуард Гудыван[473], с которым было много грамот, и мы велели спросить его об Антоне, но он ничего нам об Антоне не сообщил. Мы захватили у него многие грамоты, в которых о нашем государевом имени и нашем государстве говорится х презрением и написаны оскорбительные вести, будто в нашем царстве творятся недостойные дела. Но мы и тут отнеслись к нему милостиво — велели держать его с честью, пока не станет известен ответ от тебя на те поручения, которые переданы с Антоном.
И после приехал от тебя к нам посланник Юрий Милдентов[474] по торговым делам. И мы его велели спросить про Антона. Но посланник ничего нам об этом не сказал и наших посланников и Антона облаял. Тогда мы также велели его задержать, пока не получим от тебя вестей о делах, порученных Антону. После прибыл от тебя посол Томас Рандольф[475]. Мы указывали, чтобы он известил, есть ли у него приказ от тебя о делах, о которых мы передали тебс с Антоном. Но он нелепым образом уклонился. Мы выслали к нему
|
|
|
своего боярина и наместника вологодского князя Афанасия Ивановича Вяземского[476] и велели спросить, есть ли у него пору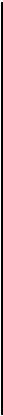
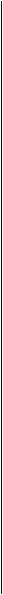 чение по тем делам. Он ответил, что такое поручение с ним тоже есть. А мы поэтому оказали ему великую честь, и он был принят нами наедине. Но он говорил о тех же мужицких торговых делах. Наконец, договорились, как следует эти дела устроить, написали грамоты и привесили к ним печати. И вместе с твоим послом послали своего посла.
чение по тем делам. Он ответил, что такое поручение с ним тоже есть. А мы поэтому оказали ему великую честь, и он был принят нами наедине. Но он говорил о тех же мужицких торговых делах. Наконец, договорились, как следует эти дела устроить, написали грамоты и привесили к ним печати. И вместе с твоим послом послали своего посла.
Ныне ты к нам отпустила нашего посла, а своего посла не послала. Грамоту же послала обычную, вроде как проезжую[477]. А то дело отложила в сторону, а вели переговоры с нашим послом твои бояре только о торговых делах, управляли же всем делом твои купцы. Мы надеялись, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государскои чести и выгодах для государства, и поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя помимо тебя другие люди владеют, и не только люди, мужики торговые, и не заботятся о чести и выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица.
И если уж так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть те торговые мужики, которые пренебрегали государскои честью, и заботятся о торговых делах, посмотрят, как они будут торговать! А Московское государство пока и без английских товаров не скудно было.
7. ОПРИЧНЫЕ КАЗНИ [478]
Опричник, или кромешник — так стали называть их, как бы извергов тьмы кромешной[479],— мог безопасно теснить, грабить.
Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности; сия общая ненависть служила ему залогом их верности. Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных слуг: они ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам, в ознаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию! Царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его; что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна; что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль достаточны для их падения; что губитель, карая своих услужников, наслаждается чувством правосудия: удовольствие, редкое для кровожадного сердца, закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестию в злодеяниях! Быв долго клеветниками, они сами погибли от клеветы.
Царь имел неограниченную доверенность к Афанасию Вяземскому: единственно из рук сего любимого оружничего[480] принимал лекарства.
Сын боярский, именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предуведомил новгородцев о гневе царском, следственно был их единомышленником. Иоанн не усомнился: молчал несколько времени и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенною доверенностью, велел между тем умертвить его лучших слуг: возвращаясь домой, князь Вяземский увидел их трупы: не показал ни изумления, ни жалости; прошел мимо, в надежде сим опытом своей преданности обезоружить государя; но был ввержен в темницу, где уже сидели и Басмановы[481], подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали: кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых; составили дело огромное, предложенное государю и сыну его
царевичу Иоанну[482]; объявили казнь изменникам: ей надлежало совершиться в Москве, в глазах всего народа, и так, чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться!
|
|
|
25 июля среди большой торговой площади в Китае-городе[483] поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли костер и над ним повесили огромный чан с водой. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился царь на коне с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников в стройном ополчении; позади шли осужденные, числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли; вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ! Увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: «Да живет многие лета государь великий! Да погибнут изменники!» Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь, как менее виновным. Потом думный дьяк государев, развернув свиток, произнес имена казнимых; назвал Висковатого и читал следующее: «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев! Ты служил неправедно его царскому величеству и писал к королю Сигизмунду[484], желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя!». Сказав, ударил исковатого в голову и продолжал: «А се вторая, меньшая вина твоя: ты изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Ударив его в другой — ив третий раз, дьяк примолвил: «Ты же звал и хана крымского опустошать Россию: се твое третие злое дело!».
|
|
|
Висковатый ответствовал: «Свидетельствуюсь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству. Слышу наглые клеветы: не хочу более оправдываться, ибо земной судия не хочет внимать истине; но судия небесный видит мою невиновность — и ты, о государь! увидишь ее перед лицом всевышнего!» Кромешники заградили ему его уста[485], повесили вверх ногами, обнажили его, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был казначей Фуников-Карцов[486], друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал царю: «Се кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!». Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою: он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копием одного старца. Умертвили в четыре часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред царем, восклицая: «Гойда! Гойда!»[487] — и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила; но отдал ее сыну, царевичу Иоанну, а после вместе с матерью и с женою Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести.
Граждане московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни князя Вяземского, ни Алексея Басманова: первый испустил дух в пытках; конец последнего — несмотря на все беспримерные злодейства — кажется еще невероятным. Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде заставив князя Никиту Прозоровского умертвить брата, князя Василия[488]! По крайней мере сын-изверг не спас себя отцеубийством: он был казнен вместе с другими.
Жены избиенных дворян, числом 80, были утоплены в реке.
Одним словом, Иоанн достиг наконец высшей степени безумного своего тиранства; мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей, известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть.
Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника.
Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости.
И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих; Иоанн тешился со своими палачами и людьми веселыми, или скоморохами, коих присылали к нему из Новгорода и других областей вместе с медведями! Последними он травил людей, и в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими.
Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за роскошного обеда устремился растерзать литовских пленников, сидевших в московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россиян и надежду на будущее царствование.
Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву властию божественною и всякое сопротивление беззаконием: гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная.
8. МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП [489]
Выговаривая себе неограниченное право казнить своих лиходеев, учреждая опричнину, Иоанн жаловался на духовенство, что оно покрывало виновных, и требовал у него отречения от обычая печаловаться[490].
Вызвали соловецкого игумена Филиппа[491], сына боярина Колычева; Филипп объявил, что он согласится быть митрополитом только под условием уничтожения опричнины; Иоанн рассердился; наконец Филипп уступил убеждениям, что его обязанность нейти прямо против царской воли, но утолять гнев государя при каждом удобном случае. Филипп дал запись: «В опричнину ему и в царский домовый обиход не вступаться, а после поставленья за опричнину[492] и за царский домовый обиход митрополии не оставлять». Но, отказавшись от вмешательства в опричнину, Филипп не отказался от права печаловаться. Начались казни вследствие дела Козлова[493]; опричнина буйствовала; вельможи, народ умоляли митрополита вступиться в дело; он знал, что народ привык видеть в митрополите печальника, и не хотел молчать. Тщетно Иоанн избегал свиданий с митрополитом, боясь печалований; встречи были необходимы в церквах, и здесь-то происходили страшные сцены заклинаний. «Только молчи, одно тебе говорю: молчи, отец святый! — говорил Иоанн, сдерживая дух гнева, который владел им. — Молчи и благослови нас!» Филипп: «Наше молчание грех на душу твою налагает и смерть наносит». Иоанн: «Ближние мои встали на меня, ищут мне зла; какое дело тебе до наших царских советов?» Филипп: «Я пастырь стада Христова!» Иоанн: «Филипп! Не прекословь державе нашей, чтоб не постиг тебя гнев мой, или лучше оставь митрополию!» Филипп: «Я не просил, не искал чрез других, не подкупом действовал для получения сана: зачем ты лишил меня пустыни?»[494]. Царь выходил из церкви в большом раздумье, это раздумье было страшно опричникам: они решили погубить Филиппа и нашли сообщников между духовными, во владыках новгородском, суздальском, рязанском, благовещенском протопопе, духовнике царском; последний явно и тайно носил речи неподобные Иоанну на Филиппа; отправились в Соловецкий монастырь, привезли оттуда преемника Филиппова, игумена Паисия, доносы которого легли в основание обвинений на суде соборном; защитников Филиппу не было, все Молчало. 8 ноября 1568 года опричники с бесчестием вывели Фи
 липпа из Успенского собора, народ бежал за ним со слезами. Местом изгнания для Филиппа назначен был Тверской Отроч монастырь[495]. В 1569 году, проезжая Тверь на походе на Новгород, Иоанн заслал к Филиппу одного из самых приближенных опричников, Малюту Скуратова, взять благословение; но Филипп не дал его, говоря, что благословляют только добрых и на доброе; опричник задушил его. Так пал непобежденным великий пастырь русской церкви, мученик за священный обычай печалования.
липпа из Успенского собора, народ бежал за ним со слезами. Местом изгнания для Филиппа назначен был Тверской Отроч монастырь[495]. В 1569 году, проезжая Тверь на походе на Новгород, Иоанн заслал к Филиппу одного из самых приближенных опричников, Малюту Скуратова, взять благословение; но Филипп не дал его, говоря, что благословляют только добрых и на доброе; опричник задушил его. Так пал непобежденным великий пастырь русской церкви, мученик за священный обычай печалования.
9. ПОХОД НА НОВГОРОД [496]
Московский царь давно уже не терпел Новгорода. При учреждении опричнины он обвинял весь русский народ в том, что в прошедшие века этот народ не любил царских предков. Видно, что Иван читал Летописи и с особенным вниманием останавливался на тех местах, где описывались проявления древней вечевой свободы. Нигде, конечно, он не видел таких резких, ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что к этим двум землям, а особенно к Новгороду, развивалась в нем злоба. Новгородцы уже знали об этой злобе и чуяли над собой беду, а потому и просили Филиппа ходатайствовать за них перед царем. В 1569 г. Иван начал выводить из Новгорода и Пскова жителей с их семьями[497], из Новгорода взял сто пятьдесят, из Пскова пятьсот, Новгород и Псков были в большом страхе. В это время какой-то бродяга, родом волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал разом и отомстить новгородцам, и угодить Ивану. Он написал письмо как будто от архиепископа Пимена и многих новгородцев к Сигизмунду-Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы, а сам убежал в Москву и донес государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдается литовскому государю[498]. Царь с жадностью ухватился за этот донос и тотчас отправил в Новгород искать указанных грамот. Грамоты действительно отыскались. Чудовищно развитое воображение Ивана не допустило его до каких-нибудь сомнений в действительности этой проделки.
В декабре 1569 г. предпринял Иван Васильевич поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских. Он шел как на войну: то была странная, сумасбродная война с прошлыми веками, дикая месть живым за давно умерших. Не только Новгород и Псков, но и Тверь были осуждены на кару, как бы в воспоминание тех времен, когда тверские князья боролись с московскими предками Ивана. Город Клин, некогда принадлежавший Твери, должен был первый испытать царский гнев. Опричники, по царскому приказанию, ворвались в город, били и убивали кого попало. Испуганные жители, ни в чем не повинные, не понимавшие, что все это значит, разбегались. Затем царь пошел на Тверь. На пути все разоряли и 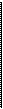 убивали всякого встречного, кто не нравился. Подступивши к Твери, царь приказал окружить город войском со всех сторон и сам расположился в одном из ближних монастырей.
убивали всякого встречного, кто не нравился. Подступивши к Твери, царь приказал окружить город войском со всех сторон и сам расположился в одном из ближних монастырей.
Иван стоял под Тверью пять дней. Сначала, ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые люди думали, что тем дело и кончится; но через два дня, по царскому приказанию, опричники бросились в город, бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние запасы и купеческие товары: воск, кожи и пр., свозили в кучи, сожигали, а потом удалились. Жители опять начали думать, что этим дело кончится, что, истребивши их достояние, им по крайней мере оставят жизнь, как вдруг опричники опять врываются в город и начинают бить кого ни попало: мужчин, женщин, младенцев, иных жгут огнем, других рвут клещами, тащат и бросают тела убитых в Волгу. Сам Иван собирает пленных полочан и немцев[499], которые содержались в тюрьмах, частью помещены были в домах. Их тащат на берег Волги, в присутствии царя рассекают на части и бросают под лед. Из Твери уехал царь в Торжок, и там повторилось то же, что делалось в Твери. В
помяннике Ивана[500] записано убитых там православных христиан 1490 человек. Но в Торжке Иван едва избежал опасности. Там содержались в башнях пленные немцы и татары. Иван явился прежде к немцам, приказал убивать их перед своими глазами и спокойно наслаждался их муками; но, когда оттуда отправился к татарам, мурзы бросились в отчаянии на Малюту, тяжело ранили его, потом убили еще двух человек, а один татарин кинулся было на самого Ивана, но его остановили. Все татары были умерщвлены.
Из Торжка царь шел на Вышний Волочек, Валдай, Яжелбицы[501]. По обе стороны от дороги опричники разбегались по деревням, убивали людей и разоряли их достояние.
Еще до прибытия Ивана в Новгород приехал туда его передовой полк. По царскому повелению тотчас окружили город со всех сторон, чтобы никто не мог убежать из него. Потом нахватали духовных из новгородских и окрестных монастырей и церквей, заковали в железа и в Городище[502] поставили на правеже[503], всякий день били их, требуя по 20 новгородских рублей с каждого, как бы на выкуп. Так продолжалось дней пять. Дворяне и дети боярские, принадлежащие к опричнине, созвали в Детинец[504] знатнейших жителей и торговцев, а также и приказных людей, заковали и отдали приставам под стражу, а дома их и имущество опечатали. Это делалось в первых числах января 1570 года.
6 января, в пятницу вечером, приехал государь в Городище с остальным войском и с 1500 московских стрельцов. На другой день дано повеление перебить дубинами до смерти всех игуменов и монахов, которые стояли на правеже, и развезти тела их на погребение, каждого в свой монастырь. 8 января, в воскресенье, царь дал знать, что приедет к св. Софии к обедне. По давнему обычаю, архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами стал на Волховском мосту у часовни Чудного креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном, не целовал креста из рук архиепископа и сказал так: «Ты, злочестивец, в руке держишь не крест животворящий, а вместо креста оружие; ты со своими злыми соумышленниками, жителями сего города, хочешь этим оружием уязвить наше царское сердце, вы хотите отчину нашей царской державы Великий Новгород отдать иноплеменнику, польскому королю Жигимонту-Августу, с этих пор ты уже не назовешься пастырем и сопрестольником св. Софии, а назовешься ты волк, хищник, губитель, изменник нашему царскому венцу...» Затем, не подходя к кресту, царь приказал архиепископу служить обедню.
Иван отслушал обедню со всеми людьми, а из церкви пошел в столовую палату. Там был приготовлен обед для высокого гостя. Едва уселся за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак: архиепископ Пимен был схвачен, опричники бросились грабить его владычную казну, дворецкий[505] Салтыков и царский духовник Евстафий с царскими боярами овладели ризницею церкви св. Софии, а отсюда отправились по всем монастырям и церквам забирать в пользу царя церковную казну и утварь.
Вслед за тем царь приказал привести новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети боярские, выборные городские и приказные люди и знатнейшие торговцы. С ними вместе привезли их жен и детей. Собравши всю эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздевать их и терзать «неисповедимыми», как говорит современник, муками, между прочим поджигать их каким-то изобретенным им составом, который у него назывался «поджар» («некоею составною мудростью огненною»); потом он велел измученных, опаленных привязывать сзади к саням, шибко везти вслед за собою й Новгород, волоча по замерзшей земле, и метать в Волхов с моста. За ними везли их жен и детей, женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев и в таком виде бросали в Волхов, по реке ездили царские слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали. «Пять недель продолжалась неукротимая ярость царева», говорит современник. Когда царю надоела такая потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал перед своими глазами истреблять огнем хлеба в скирдах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что, приехавши в Антониев монастырь[506], царь отслушал обедню, потом вошел в трапезу и приказал побить все живое в монастыре. Расправившись таким образом с иноческими обителями, Иван начал прогулку по мирскому жительству Новгорода: приказал истреблять купеческие товары, разметывать лавки, ломать дворы и хоромы, выбивать окна, двери в домах, истреблять домашние запасы и все достояние жителей. В то же самое время царские люди ездили отрядом по окрестностям Новгорода, по селам, деревням и боярским усадьбам разорять жилища, истреблять запасы, убивать скот и домашнюю птицу. Наконец, 13 февраля, в понедельник, на второй неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев; ожидали они своей гибели, как вдруг царь окинул их милостивым взглядом и ласково сказал: «Жители Великого Новгорода! Молите всемилостивого, всещедрого, человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детяЬс наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтоб Господь подаровал нам свыше победу и одоление на видимых и невидимых врагов! Судит Бог изменнику моему и вашему архиепископу Пимену и его злым советникам и единомышленникам: на них, изменниках, взыщется вся пролитая кровь; и вы об этом не скорбите, живите в городе сем с благодарностью, я вам оставляю наместника князя Пронского[507]». Самого Пимена Иван отправил в оковах в Москву[508]. Иностранные известия говорят, что он предавал его поруганию, сажал на белую кобылу и приказывал водить окруженного скоморохами, игравшими на своих инструментах.
 2013-12-28
2013-12-28 703
703







