Важно, чтобы комментарии были краткими, интересными и содержательными, особенно если в семье присутствуют маленькие дети. Но даже если наблюдение проводится над одними взрослыми, что членам группы лучше ошибаться, придерживаясь краткости, чем подолгу разглагольствовать без перерыва.
Прагматика группы наблюдателей
Мы проявляем достаточную гибкость в отношении числа людей в группе. Если ли мы работаем лишь вдвоем, то терапевт, который интервьюирует семью, затем выясняет соображение другого терапевта. Мы имели возможность убедиться, как группы, состоящие не менее чем из двенадцати человек, функционируют достаточно хорошо, хотя не все высказываются каждый раз, когда такая группа отражает процесс. Том Андерсен (1987) обнаружил, что хорошо работает группа из трех человек, потому что, пока двое обсуждают одну идею, третий может выдвинуть другую, внося свой вклад в беседу. Наши группы, как правило, состоят из 3-6 человек.
 *На первой терапевтической встрече с большой семьей учебной группе в ЭЦСТ не удалось упомянуть в своих откликах семилетнего мальчика. Насколько нам известно, он никогда больше не слушал размышления группы.
*На первой терапевтической встрече с большой семьей учебной группе в ЭЦСТ не удалось упомянуть в своих откликах семилетнего мальчика. Насколько нам известно, он никогда больше не слушал размышления группы.
Группа может использоваться для одной конкретной встречи, в ходе всего курса терапии или время от времени. Мы считаем, что семьи почти всегда находят участие группы наблюдателей весьма ценным. Мы понимаем Майкла Уайта (1993), который спрашивал семьи, скольких встреч стоит встреча с группой. Средний ответ был — четырех!
Прежде чем начать работу (это может быть одна из ранних встреч, первое интервью или разговор по телефону), мы обсуждаем с семьей возможность участия группы наблюдателей и объясняем, что это такое. Если семья соглашается, мы продолжаем работу. Мы предпочли бы, чтобы группы постоянно участвовали в терапевтической работе, однако экономические соображения и занятость коллег не позволяют это осуществить. Поэтому мы прибегаем к помощи групп, (1) когда люди просят об этом (этот запрос обычно связан с прошлым опытом или рекомендациями друзей), (2) для обучения, (3) когда есть терапевт со стороны, который тоже применяет нарративные идеи, и (4) для консультирования.
Если группа будет присутствовать в том же помещении, что и семья, в начале первой встречи мы представляем семью членам группы. Если группа находится за" зеркалом, мы обычно спрашиваем, желают ли члены семьи встретиться с группой до начала сессии или во время процесса обсуждения. Некоторые люди чувствуют себя комфортнее, если они видели людей за зеркалом до начала интервью. Другие предпочитают не встречаться с членами группы до обсуждения.
Несмотря на то, что, советуясь с семьей по поводу присутствия группы, мы уже описывали процесс обсуждения, в начале первой встречи мы снова ориентируем семью на этот процесс. Терапевт, интервьюирующий семью, говорит примерно следующее: "Группа находится рядом, наблюдая за нами сквозь это полупрозрачное зеркало. В какой-то момент нашей беседы, возможно, мы поменяемся местами с группой. Мы уйдем за зеркало, а они войдут сюда". Или (если зеркала нет и группа находится в том же помещении, что терапевт и семья): "Пока мы будем разговаривать, члены группы будут внимательно наблюдать за нашей беседой. Давайте представим, что между ними и нами находится полупрозрачное зеркало, чтобы нам не приходилось обращать на них внимание, но они могли бы уделять внимание нам. Через некоторое время мы сделаем наоборот: мы будем находиться за зеркалом, наблюдая и слушая их. Они будут разговаривать друг с другом, а мы сможем слышать их.
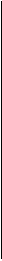
 Они будут разговаривать о том, на что обратили внимание в нашей беседе. У них могут быть вопросы или идеи. Затем мы снова поменяемся местами, и вы сможете прокомментировать их беседу. Я буду спрашивать, что вам больше всего запомнилось, что подходит и не подходит или какие идеи у вас появились, пока вы слушали их беседу".
Они будут разговаривать о том, на что обратили внимание в нашей беседе. У них могут быть вопросы или идеи. Затем мы снова поменяемся местами, и вы сможете прокомментировать их беседу. Я буду спрашивать, что вам больше всего запомнилось, что подходит и не подходит или какие идеи у вас появились, пока вы слушали их беседу".
Как терапевт, так и семья или группа могут решить, что настало благоприятное время для размышлений группы. Обычно через 30—40 минут часового интервью терапевт предлагает группе высказаться. Однако он волен сделать это в любой момент. Эта свобода особенно полезна для терапевтов, которые только начинают использовать нарративные идеи. Если ситуация неопределенности грозит им косноязычием, они могут просто предложить высказаться группе*.
Время от времени члены семей, регулярно встречающиеся с группой, говорят' "Интересно, что об этом скажет группа?". И мы воспринимаем это как намек на смену позиций.
Кроме того, предложение что-то обсудить может исходить и от самой группы. В нашем центре для этого группе достаточно постучать по зеркалу. Если терапевт и семья выражают согласие, группа начинает обсуждение.
Как правило, группа, высказывает свои мнения в течение 10— 15 минут (мы ориентируемся на 10, но слишком часто на все уходит 15). В нашем центре сигналом к окончанию работы группы служит стук по зеркалу от терапевта, непосредственно работающего с семьей. Нам нравится, когда беседа оканчивается с ощущением, что можно еще многое сказать, поэтому терапевт старается постучать, когда обсуждение в полном разгаре. Терапевт может постучать раньше, чем обычно, если он ощущает, что для семьи этого достаточно или эти размышления оказывают на них ошеломляющее воздействие.
Нас часто спрашивают, может ли размышляющая группа работать без зеркала Гезелла. Некоторые группы предпочитают обходиться без зеркала, даже если оно доступно (Wanberg, 1991). Мы от-
 *Джойс Гудлатт, участница нашей учебной группы, рассказала, что в прошлом, работая с (изолированной) группой, она часто ощущала себя так, будто группа изучает и оценивает ее Однако в присутствии группы наблюдателей-участников она чувствовала, что вся группа готова помогать и сотрудничать с ней "Если я упускала что-то, — отмечала она, — то знала, что кто-нибудь из группы задаст вопросы об этом Мне не приходилось следить за всем сразу, поэтому я могла расслабиться"
*Джойс Гудлатт, участница нашей учебной группы, рассказала, что в прошлом, работая с (изолированной) группой, она часто ощущала себя так, будто группа изучает и оценивает ее Однако в присутствии группы наблюдателей-участников она чувствовала, что вся группа готова помогать и сотрудничать с ней "Если я упускала что-то, — отмечала она, — то знала, что кто-нибудь из группы задаст вопросы об этом Мне не приходилось следить за всем сразу, поэтому я могла расслабиться"
даем предпочтение зеркалу, поскольку оно помогает оставаться в наблюдательной позиции. Тем не менее, если зеркало недоступно или люди, с которыми мы работаем, предпочитают находиться в одной комнате с нами, такая работа проходит достаточно успешно. В этом случае, как уже упоминалось, мы предваряем размышления группы словами: "Теперь мы поговорим друг с другом, как если бы между нами и вами было зеркало Гезелла — как будто мы не можем видеть вас, но вы можете нас видеть и вольны слушать нашу беседу или думать о том, что вам кажется сейчас уместным. После того как мы закончим говорить, вы можете дать нам знать, что отозвалось в вас из этой беседы: что вам подходит или не подходит и какие идеи возникали у вас, пока мы говорили". После этого члены группы в ходе обсуждения поддерживают зрительный контакт только между собой.
У терапевтов, изучающих группы наблюдателей, часто возникает еще один вопрос: можно ли использовать эту идею без группы? Другими словами, может ли терапевт играть роль собственной группы? Описывая, каким образом он поступает именно так, Финн Вангберг (1991), член одной из групп, которые первыми начали развивать эту идею, пишет:
"Я говорю им, что поделюсь с ними не просто своими реакциями на то, что они мне говорят, но также и мыслями, которые стоят за этими реакциями. Независимо от того, вижу ли я одного человека или несколько, я отклоняюсь назад, чтобы создать большую дистанцию. Кроме того, я смотрю в потолок или в окно и говорю скорее о них, нежели с ними".
Об этом же Том Андерсен (1987) пишет:
"Когда группа состоит только из одного человека, этот человек может покинуть комнату на некоторое время (на минуты, или дни, или недели). Вернувшись, он может сказать: "Пока вас не было со мной, у меня возникли идеи, которыми я хотел бы с вами поделиться" — и потом высказать несколько умозрительных соображений, завершив их словами. "Были ли среди этих идей стоящие? Хотелось бы вам поговорить о них?"
Мы тоже считаем, что часто действуем как наблюдательная группа, состоящая из одного человека Наш подход, как правило,
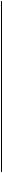
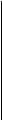
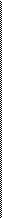 носит вполне непреднамеренный характер. Мы можем сказать что-то вроде: "Когда я обдумываю то, о чем мы говорили до сих пор, мне в голову приходит несколько мыслей. Вы хотели бы их выслушать?" Если ответ положительный, мы начинаем делиться своими соображениями о том, что было сказано в ходе терапевтической беседы. Затем мы старается соотнести свой комментарий с собственным опытом. Мы можем поразмышлять о некоторых событиях, прежде чем спросить: "Интересны ли вам какие-то из этих событий или идей?"
носит вполне непреднамеренный характер. Мы можем сказать что-то вроде: "Когда я обдумываю то, о чем мы говорили до сих пор, мне в голову приходит несколько мыслей. Вы хотели бы их выслушать?" Если ответ положительный, мы начинаем делиться своими соображениями о том, что было сказано в ходе терапевтической беседы. Затем мы старается соотнести свой комментарий с собственным опытом. Мы можем поразмышлять о некоторых событиях, прежде чем спросить: "Интересны ли вам какие-то из этих событий или идей?"
Пример беседы с отражением процесса
Представьте себе, что семья приходит на терапию, потому что Адам, девятилетний мальчик, ворует. В ходе интервью он соглашается со своими родителями, что воровство — это не тот образ жизни, который он пожелал бы для себя, но говорит, что ничего не может с этим поделать Затем обнаруживается, что сегодня утром Адам видел несколько долларовых банкнот на туалетном столике отца. Он мог бы взять их, но не сделал этого.
Если мы рассмотрим эту проблемно-насыщенную историю как историю о том, как воровство вторгается в жизнь Адама и затягивает его в соответствующий образ жизни, тогда это событие может относиться к уникальному эпизоду, началу альтернативной истории. Давайте представим, что это яркое событие было* упомянуто в беседе, но во время интервью обсуждалось, было ли оно предпочтительным, и ему не был придан смысл. В этом случае группа могла бы поразмышлять, было ли это предпочтительным направлением развития.
После знакомства и вступительных фраз кто-то из группы может завести разговор об этом событии, например, так: "Я был немного удивлен, услышав, что сегодня утром Адам заметил несколько долларовых купюр на туалетном столике отца, но не взял их".
Его коллега может спросить: "Почему это вас удивило?"
"Ну, когда они говорили о том, как Адам ведет воровской образ жизни и он утверждал, что ничего не может с этим поделать, у меня начала формироваться идея о том, что как только возникала возможность украсть, Адам обнаруживал, что делает это. У других тоже создалась такая картина?" Несколько членов группы могут согласиться с этим. "А теперь мне интересно было бы знать,
создавалась ли у Адама такая же картина его жизни. Если это так, то что для него означает ситуация, когда этим утром воровство могло взять над ним верх, но он не позволил ему сделать этого?"
Кто-то еще может добавить: "Пока вы описывали эту картину,
я задумалась, складывалась ли такая же картина у Джо и Амелии
(родителей Адама) или они уже знали, что временами Адам мог
преодолевать тягу к воровству?" '
Затем другой член группы мог бы сказать: "Мне интересно, увидели ли они в том, что случилось сегодня утром, обнадеживающий знак?" Эти вопросы побуждают Адама и его семью решить, каков смысл этого события и является ли оно предпочтительным или нет.
Если такая работа уже была выполнена в ходе терапевтической беседы и семья действительно признала это событие предпочтительным направлением развития, группа, вероятно, захочет задать вопросы, которые побудят членов семьи превратить это событие в историю. Например, один из членов группы мог бы сказать: "Пока продолжалось интервью, я снова и снова проигрывал в уме тот момент, когда Адам понял, что в это самое утро он увидел, что может взять немного денег, но не сделал этого, и обнаружил, что хватка воровства не так уж крепка, как он думал. Пока интервью продолжалось, я думал: знал ли Адам все это время, что он может победить воровство таким образом или это новое направление развития?"
Кто-то еще может включиться в обсуждение, например: "Да, мне тоже это любопытно. Интересно, были ли другие моменты, о которых он мог бы нам рассказать, когда он сам, а не воровство, брал ответственность за свою жизнь".
"А вот мне было интересно, — может добавить кто-то, — как он это сделал и что для него означает то, что он смог это сделать".
Первый человек мог бы сказать: "В связи с этим интересно, мог бы он оглянуться назад и увидеть поворотную точку, что-то, что изменило ход вещей так, что сегодня утром он был сильнее воровства, а воровство — слабее его?"
"О, я понимаю, что вы имеете в виду. Если было что-то, что вело к этому, то замечали ли Джо и Амелия какие-то различия, которые могли иметь отношение к этому?".
Пока продолжается обсуждение, члены группы стараются ориентировать свои комментарии на собственный опыт и воображение и придать своим мыслям и намерениям прозрачность. Это помогает сгладить иерархию и представить идеи как часть личного опыта,
8* 227

 а не "истины в последней инстанции". Это помогает членам семьи учиться принимать комментарии и свободно отвергать те, что им не подходят. Вопросы и комментарии, связанные с личным опытом, перемежаются и являются частью беседы.
а не "истины в последней инстанции". Это помогает членам семьи учиться принимать комментарии и свободно отвергать те, что им не подходят. Вопросы и комментарии, связанные с личным опытом, перемежаются и являются частью беседы.
Если соединить эти элементы вместе, обсуждение группы наблюдателей будет звучать примерно так.
Один из членов группы мог бы сказать: "Пока продолжалось интервью, я снова и снова проигрывал в уме тот момент, когда Адам понял, что в это самое утро он обнаружил, что может взять немного денег, и не сделал этого, и убедился, что хватка воровства не так уж крепка, как он думал. Я думал: мог ли Адам все это время обладать большим контролем над своей жизнью, чем догадывался, или это новое направление развития?"
Потом кто-то может спросить: "Почему вас это так интересует?"
"Понимаете, вчера я говорил с одним человеком, который пытается бросить курить, и это напомнило мне о моем собственном опыте. Я курил много лет. В конце концов, я бросил курить двадцать лет назад, но это была уже третья попытка. Первые две были ужасными, и все кончалось тем, что опять закурил. Когда я попробовал снова, то думал, что это будет невыносимо. Тем не менее все прошло безболезненно. Все это получилось так, как будто я делал это шаг за шагом, даже не сознавая. Услышав, как Адам отказался от денег сегодня утром, я подумал: а что если он тоже делал это шаг за шагом, не замечая? Я не знаю..."
Кто-то еще может включиться в обсуждение, сказав: "Да, мне тоже это любопытно. Интересно, были ли другие моменты, о которых он мог бы нам рассказать, когда он сам брал на себя ответственность за свою жизнь, а не воровство?".
"Что вы имеете в виду, когда спрашиваете это?" — может спросить кто-то.
"Если его опыт похож на опыт Рэнди (член группы, который бросил курить) и происходит шаг за шагом, я подумал, что полезно было бы подмечать эти шаги. Это каждому могло бы прибавить уверенности в том, что дела идут в новом направлении".
"Хорошо, — может добавить кто-то, — а вот мне интересно, как он это сделал и что для него означает, что в этот момент он перехитрил воровство, вместо того чтобы дать ему перехитрить себя".
"Почему вам интересно, как он сделал это, Мишель?"
"Одна причина заключается в том, что я работаю в школе, и для детей это отнюдь не исключительная проблема. Если бы я знала что-
то о том, как одному человеку удалось победить воровство, я, наверное, смогла бы лучше помочь им".
Первый человек мог бы сказать: "В связи с этим интересно, мог бы он оглянуться назад и увидеть поворотную точку — то, что изменило ход вещей таким образом, что сегодня утром он был сильнее воровства, а воровство — слабее его?"
"Я понимаю, что вы имеете в виду. У вас есть какие-то соображения о том, что это могло быть?"
"Нет, я действительно не знаю, но мне представляется, что могло случиться нечто, убедившее его в том, что воровство не было его другом".
Потом другой член группы мог бы сказать: "Если было что-то, что вело к этому, то замечали ли Джо и Амелия какие-то различия, которые могли иметь отношение к этому?".
Не исключено, что в этой точке беседа повернет в сторону другого предпочтительного события или возможного начала альтернативной истории. Несколько таких событий, как правило, обсуждаются в ходе размышлений группы.
После окончания размышлений семья и группа снова меняются местами так, что семья и терапевт оказываются перед зеркалом, а группа — за ним.
Затем терапевт по очереди спрашивает членов семьи об их реакциях на размышления группы. Терапевт говорит примерно следующее: "Что запомнилось вам из размышлений группы? Были ли там конкретные вопросы или идеи, которые вызвали у вас наибольший интерес?"
Иногда дети или подростки говорят, что они не помнят, о чем говорила группа. В таких случаях часто помогает краткое напоминание (Lax, 1991).
Мы обнаружили, что большинство людей действительно комментируют размышления группы и некоторые даже ссылаются на них на последующих встречах.
Когда член семьи ссылается на конкретный комментарий, терапевт может задать еще несколько вопросов, к примеру, "Чем это вас заинтересовало?", "Какие мысли и идеи возникали у вас в связи с этим?", "Вы узнали что-то о себе или ситуации или пришли к какому-то заключению, думая об этом так?", "Как вы думаете, Какую роль будут играть эти идеи в вашей жизни?" Важно, чтобы Все члены семьи получили шанс отреагировать, поэтому терапевту следует быть экономным в отношении завершающих вопросов.
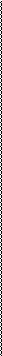 Кроме того, терапевт может прокомментировать то, что ему показалось интересным в работе группы, и упомянуть о том, что в этих комментариях привлекло его внимание.
Кроме того, терапевт может прокомментировать то, что ему показалось интересным в работе группы, и упомянуть о том, что в этих комментариях привлекло его внимание.
Отражение процесса без группы
Характерная черта нашей терапии — и, вероятно, работы большинства терапевтов, использующих нарративные идеи, — движение между прямым опытом и размышлением. Даже работая с одним человеком, мы движемся между "ландшафтом действия" (прямым опытом) и "ландшафтом сознания" (размышления над этим опытом). Это движение между прямым опытом и размышлением характерно для нашей работы независимо от того, прибегаем мы к помощи группы наблюдателей или нет.
Побуждая к откликам на мысли других *
Когда мы впервые начали заниматься семейной терапией**, мы научились организовывать беседу так, чтобы члены семьи разговаривали друг с другом напрямую, и мы могли бы либо получать информацию об их "паттернах взаимодействия" либо дать им возможность испробовать новую форму взаимодействия. Этот метод работы имел смысл, когда мы были убеждены, что сможем определить или обнаружить то, что лежит "под" проблемой, и когда делали упор на изменение поведения. Когда мы просили людей поговорить друг с другом в процессе терапии, то создавали контекст либо для сбора информации, которую использовали для оценок, направляющих интервенцию, либо для собственно интервенции, предлагая людям испробовать новые формы поведения. В ходе та-
 *У нас есть некоторые сомнения по поводу употребления таких слов, как "я" и "другой", поскольку они обычно используются как указания на эссенциалистские сущности. Мы думаем, что процессы размышления могут быть значимы и эффективны исключительно в силу множества возможностей, возникающих при взаимодействии людей Другими словами, практика отклика — это особый и мощный случай социального конструирования "я" и других.
*У нас есть некоторые сомнения по поводу употребления таких слов, как "я" и "другой", поскольку они обычно используются как указания на эссенциалистские сущности. Мы думаем, что процессы размышления могут быть значимы и эффективны исключительно в силу множества возможностей, возникающих при взаимодействии людей Другими словами, практика отклика — это особый и мощный случай социального конструирования "я" и других.
"Эти комментарии основаны на нашем прошлом опыте. Снова встречаясь с людьми, с которыми когда-то вместе проходили обучение, мы убеждались, что их идеи изменялись Джанфранко Чеччин и Луиджи Босколо, к примеру, сегодня используют группы наблюдателей-участников
кой терапии люди либо занимались активной деятельностью, либо слушали нас. Они, как правило, не имели возможности озвучить свои размышления в процессе терапии.
Изучая миланский подход, мы научились задавать им по очереди круговые вопросы, которые фокусировались на взаимодействии с другими членами семьи, вместо того чтобы просить людей поговорить друг с другом. В случае нашего первого метода работы, если ребенок отказывался ходить в школу, мы могли попросить родителей продемонстрировать, как бы они уговаривали его пойти в школу (при нашей поддержке или без нее). В русле миланского подхода мы скорее бы задали брату/сестре ребенка ряд вопросов, например: "Кого больше всего огорчает, что твой брат не хочет ходить в школу? Кого еще? Когда твоя мама огорчается оттого, что твой брат не ходит в школу, что делает твой папа?"
Круговой опрос в миланском стиле предлагает людям стать аудиторией слушателей для самих себя, своих семей и ситуаций. Слушая ответы других людей, они могут узнать, как их видят другие члены семьи; могут поразмышлять над взаимоотношениями между другими членами семьи, равно как и между ними самими и членами семьи.
В нашей текущей работе мы все еще взаимодействуем с одним человеком из семьи, тогда как другие слушают. Находясь под влиянием идеи, что мы не раскрываем то, что уже есть, а совместно творим опыт и смысл через социальное взаимодействие, мы надеемся, что наши вопросы откроют пространство для новых, предпочтительных нарративов.
Итак, имея в виду проблему, описанную выше, теперь мы можем спросить мальчика: "В те дни, когда ты ходишь в школу, как ты побеждаешь страх? Что ты сделал, чтобы подготовить себя к борьбе со страхом таким образом? Как другие члены семьи поддерживали и воодушевляли тебя на то, чтобы ты смог сделать это?"
Этот метод работы снова превращает людей в слушателей для друг друга, самих себя и их взаимоотношений, но теперь мы продвигаемся на шаг дальше. Мы просим людей поразмышлять над тем, что они услышали. Мы можем, к примеру, просто обратиться к отцу и сказать: "Какие мысли приходили вам на ум, пока ваш сын говорил?" Или можем спросить мать: "Вы были удивлены, услышав, что ваш сын делал эти приготовления, чтобы противостоять страху? Теперь, когда вы знаете это, как меняется ваше представление о нем?" Такие вопросы побуждают людей поразмышлять над новым
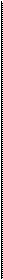 нарративом по мере его развития. Их размышления затем становятся частью нарратива, и другие члены семьи могут поразмышлять над "уплотненным" нарративом, тем самым делая его более существенным и более сложным. Этот процесс — яркий пример социального конструирования реальности.
нарративом по мере его развития. Их размышления затем становятся частью нарратива, и другие члены семьи могут поразмышлять над "уплотненным" нарративом, тем самым делая его более существенным и более сложным. Этот процесс — яркий пример социального конструирования реальности.
Работая с группами людей, мы обычно проводим довольно продолжительную беседу с каждым человеком. Мы предлагаем другим людям выслушать его с размышляющей позиции и время от времени делиться вслух своими размышлениями.
Побуждая к таким размышлениям, терапевту очень важно обеспечить, чтобы люди оставались в позиции слушателя. Иногда этого легко достичь, разговаривая и поддерживая визуальный контакт лишь с одним человеком и, если беседа требует сослаться на других присутствующих в помещении, — говоря о них в третьем лице. Такой режим беседы побуждает людей, к которым не обращаются, слушать из наблюдательной позиции.
Часто в проблемных ситуациях доминирующая история влияет на людей таким образом, что они излишне втягиваются в свои собственные восприятия, описания проблемы и окружающих ее событий. Это, в свою очередь, может подтолкнуть к использованию терапевтической беседы в качестве арены для вовлечения других в рассмотрение и принятие их версий реальности. В итоге все будут говорить и никто не будет слушать. В такой ситуации колода перетасовывается таким образом, что это затрудняет обнаружение выходов к новым возможностям, которые могли бы выстроить новые нарративы.
Кроме того, семейные обычаи, когда несколько людей говорят одновременно, или предыдущие терапевтические инструкции обращаться друг к другу напрямую, могут осложнить задачу пребывания в позиции слушателя.
Рассказав людям, каким образом хотелось бы продолжить работу, мы легко избегаем этих затруднений. Как правило, мы обращаем свои объяснения к тому человеку или людям, которые больше других хотели бы оставаться в позиции слушателя. Мы говорим примерно следующее: "Сейчас я хотел бы немного поговорить с Фредом о ситуации. Затем мне было бы интересно выслушать ваши мысли о нашей беседе с Фредом. Позже, к концу часа, я поговорю с вами, и у Фреда будет шанс поразмышлять над нашей беседой. Годится?"
Это искренний вопрос. Если у людей есть другие соображения по поводу хода беседы, нам интересно узнать о них. Например,
недавно я (Дж. К.) работал с мужчиной и женщиной, разведенными в течение нескольких лет, и их семилетним ребенком, который испытывал некоторые затруднения в школе. Скотт, отец ребенка, настаивал на отдельной встрече родителей без ребенка. На этой встрече Скотт, афро-американец, начал с заявления, что хочет сказать Бренде, англо-американке, как он пришел к пониманию того, что расизм сыграл свою роль в их разводе. Он сказал, что не разговаривал с ней об этом прежде, потому что не понимал, но, поскольку теперь они могут доверять друг другу, будучи родителями, он хочет поговорить об этом. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы он говорил со мной, а она слушала (предыдущие беседы были структурированы), но намерен обращаться с ней напрямую в контексте присутствия другого. Выполняя просьбу Скотта, я сидел в стороне и слушал, пока они вдвоем разговаривали, лишь позже добавляя свои размышления.
Однако большую часть времени люди соглашаются на структуру, в рамках которой мы разговариваем с одним из них, тогда как другие занимают позицию наблюдателя.
Даже когда люди имеют представление о предложенном формате и согласились с тем, что имеет смысл продолжать в этом режиме, верх могут взять старые привычки, заставляя их перебивать и предлагать свое описание или оценку конкретного события. Когда это случается, мы даем им понять, что заинтересованы в том, что им хочется сказать и у них будет возможность отреагировать немного позже.
Альтернатива, о которой мы узнали от Харлен Андерсон, особенно полезная, когда верх берут старые привычки, заключается в том, чтобы пригласить тех участников, которым поначалу полагается быть в позиции слушателя, слушать беседу из-за зеркала. Когда наступает момент, они могут поменяться местами с человеком, который говорил первым, и предложить свои размышления.
Подготовка структуры для беседы, по всей видимости, ослабляет хватку проблемно-доминирующих нарративов. Может быть, поскольку те, кто находится в позиции слушателя, не имеют возможности привносить в беседу доминирующие нарративы, пока другой говорит, свободнее слушают другие описания, что позволяет им придавать смысл событиям, противоречащим проблемно-доминирующей истории
Вторая важная задача терапевта, заинтересованного в поощрении откликов на других, состоит в том, чтобы задавать вопросы,
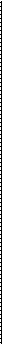
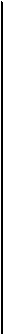
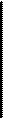 побуждающие к этому. В этом контексте мы задаем вопросы с двумя целями. Первая — просто побудить к общим комментариям к беседе. В таких комментариях люди удостоверяют реальности друг друга. Вторая цель состоит в том, чтобы вызвать размышления о специфических событиях, особенно тех, которые, по нашему мнению, могут открыть менее проблемные ответвления прожитого опыта.
побуждающие к этому. В этом контексте мы задаем вопросы с двумя целями. Первая — просто побудить к общим комментариям к беседе. В таких комментариях люди удостоверяют реальности друг друга. Вторая цель состоит в том, чтобы вызвать размышления о специфических событиях, особенно тех, которые, по нашему мнению, могут открыть менее проблемные ответвления прожитого опыта.
Чтобы побудить общие комментарии, мы обычно обращаемся к кому-то в позиции слушателя и спрашиваем нечто общее, например: "Какие мысли приходили вам на ум, пока мы с Фредом разговаривали?" Простой акт свидетельства, который этим побуждается, имеет очень глубокие последствия.
Например, я (Дж. Ф.) в настоящее время работаю с двумя женщинами, которые прожили как пара в течение четырнадцати лет. Карен довольно резко порвала с Дайан за шесть месяцев до того, как я встретилась с ними, и почти мгновенно увлеклась кем-то еще. Постепенно, по прошествии шести месяцев, все более и более мощные волны горя и смятения стали накатывать на Карен. Она начала задумываться над тем, не было ли ошибкой ее решение прекратить отношения. Она попросила Дайан поработать с ней над взаимоотношениями, чтобы понять, не смогут ли они разрешить те проблемы, которые привели Карен к разрыву.
Карен описала наиболее значительную проблему как "почти никакого секса, что сводило меня с ума, а Дайан, похоже, не проявляла никакого интереса к этому, за исключением тех моментов, когда она опасалась, что я могу уйти от нее".
Дайан переживала огромное горе с тех пор, как Карен ушла. Она была весьма заинтересована в исследовании возможности для них снова стать парой, но каждый раз, когда они начинали разговаривать, между ними вставало столько недоверия, злобы и ревности, что даже сама возможность пребывания рядом сметалась чувствами отчаяния. Это особенно проявилось тогда, когда Дайан услышала намеки на фантастическую сексуальную связь, в которую вступила Карен, пока Дайан предавалась своему горю. Все эти чувства были настолько могучими и угрожающими, что женщины искали в терапии безопасный контекст, в котором могли разговаривать.
Хотя они много раз пытались побеседовать друг с другом — как перед разрывом своих взаимоотношений, так и в последние недели, — лишь на первой терапевтической встрече Карен рассказала историю о том, как она порвала эту связь и вступила в новую. Она
описала, как Дайан желала заниматься любовью с ней в начале их отношений, но это все быстро улетучилось. Это заставило ее усомниться в чувствах Дайан к ней и почувствовать себя некрасивой, непривлекательной женщиной. Эти переживания превратили представление Карен о своем будущем в "бесцветное и бессодержательное". Она думала, что "высохнет от недостатка любви и просто постареет", хотя другие стороны их взаимоотношений были весьма удовлетворительными и замечательными. Карен много раз предпринимала попытки поговорить с Дайан об их сексуальных отношениях, но безуспешно, и в итоге она поняла: ничего нового произойти не может.
Когда другая женщина проявила романтический интерес к Карен, она увидела в этом свой последний шанс быть любимой. Она наслаждалась своей новой сексуальной связью, но по прошествии времени ей стало ясно, что больше у нее ничего не было. Карен поняла, что секс не равнозначен любви, и впервые за многие годы смогла оглянуться назад и реально осознать, что Дайан ее любила. Теперь она сожалела, что бросила ее, и надеялась, что не отбросила навечно лучшие взаимоотношения, которые когда-либо у нее были.
Находясь в позиции слушателя, Дайан плакала в течение всей беседы Карен со мной. Когда я спросила, о чем она думала, пока мы с Карен беседовали, она сказала: "Я никогда не догадывалась, что ей было так тяжело. Каждый раз, когда она пыталась рассказать, я бросала ей в лицо ее другую связь и говорила о предательстве. Я не могла перенести, что она была с кем-то еще. Я никогда не понимала, каково было ей все эти годы не быть со мной".
Карен была от всей души благодарна Дайан, что та делилась своей болью и отчаянием. Когда мы с Дайан размышляли о ее новом представлении о Карен, сама Карен, теперь уже в позиции слушателя, выглядела все более и более смягченной, расслабленной. То, что я удерживала фокус внимания на Дайан, помогло Карен выслушать наш разговор о чувствах боли и предательства, не уходя в оборонительную позицию. Этот опыт оказался настолько важным для Дайан, что придал ей решимости рассказать о сексуальном насилии, которое она пережила в детстве, и его последствиях для нее, включающих затруднения с сексуальными чувствами в зрелом возрасте. Став свидетелем истории Дайан, Карен, в свою очередь, получила возможность по-новому интерпретировать затруднения в их сексуальных отношениях
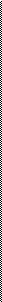
 Стараясь достичь нашей второй цели, побуждая к размышлениям, подтверждающим и развивающим начала историй или новые нарративы, мы можем начать задавать вопросы, чтобы привлечь внимание к событиям, которые противоречат проблемно-насыщенной истории. Вот некоторые примеры: "Вы были удивлены тем, что сказала Карен?" или "Что показалась вам ободряющим в нашей беседе?". Затем мы могли бы задать вопросы, чтобы развить историю или поразмышлять о смысле того, что проявилось или оказалось удивительным. Вот возможные вопросы для осмысливания: "Почему это вышло для вас на первый план?" и "Что вы узнали о Дайан, чего могли бы и не знать, если бы это событие не вышло на свет? или "Какие качества Дайан проявились, когда мы услышали, что она во многих отношениях в состоянии оставить прошлое позади?"
Стараясь достичь нашей второй цели, побуждая к размышлениям, подтверждающим и развивающим начала историй или новые нарративы, мы можем начать задавать вопросы, чтобы привлечь внимание к событиям, которые противоречат проблемно-насыщенной истории. Вот некоторые примеры: "Вы были удивлены тем, что сказала Карен?" или "Что показалась вам ободряющим в нашей беседе?". Затем мы могли бы задать вопросы, чтобы развить историю или поразмышлять о смысле того, что проявилось или оказалось удивительным. Вот возможные вопросы для осмысливания: "Почему это вышло для вас на первый план?" и "Что вы узнали о Дайан, чего могли бы и не знать, если бы это событие не вышло на свет? или "Какие качества Дайан проявились, когда мы услышали, что она во многих отношениях в состоянии оставить прошлое позади?"
Кроме постановки общих вопросов для людей в наблюдательной позиции, призванных привлечь внимание к тому, что противоречит доминирующей истории, мы можем прямо обратить внимание на возможный уникальный эпизод и сказать: "У меня создается картина, что недостаток секса определил взгляд Карен на все ваши взаимоотношения. С моей точки зрения, высказывание Карен о том, что секс неравнозначен любви, выпадает из этой картины. Что это значило для вас — услышать, что она говорит об этом?"
Если люди реагируют на подобные вопросы, мы можем расширить прозвучавшие идеи или предложить поразмышлять над другими аспектами этой беседы. Затем мы можем попросить человека, с которым говорили сначала, поразмышлять над этими размышлениями: "Карен, какое влияние оказало на вас то, что вы услышали, что Дайан признает это в вас?"
Побуждая к откликам
на нарождающиеся нарративы людей
Люди могут также размышлять над своими собственными нарождающимися нарративами — в присутствии или в отсутствие других людей на встрече. Вопросы типа "Размышляя над сегодняшней беседой, какие новые направления развития вы выявляете для себя?" или "Сравнивая, как бы обращались с этой проблемой шесть месяцев назад, с тем, что вы делаете сейчас, что вы узнаете о себе?" — стимулируют этот процесс.
Подобные вопросы побуждают людей оценивать свои переживания и процесс терапии, не отдавая оценку на откуп терапевтам. Разумеется мы не побуждаем их к самокритике. Наоборот, мы просим решить, являются ли (а если являются, то каким образом) события значимыми и ориентирует ли их эта работа в полезном направлении. Эта практика отражает баланс силы в терапии. Когда экспертная позиция терапевта деконструирована, голоса людей, с которыми мы работаем, приобретают больший вес.
Приглашая людей поразмышлять над своими собственными возникающими историями, мы, как правило, "рассеиваем" эти размышления по всему ходу беседы. Таким образом, мы побуждаем их включаться в процесс размышления над личными нарративами и выходить из него по мере того, как они разворачиваются. Для нас размышление представляется более автономным и определенным, когда люди размышляют над историями других, чем размышление над своими собственными развивающимися нарративами. Саморазмышление может включиться как реакция лишь на один вопрос, заданный в потоке множества других. При таком саморазмышлении беседа протекает между деконструкцией, началом историй, развитием истории и размышлением*. Оно движется среди этих сфер, причем ни одна из них не изолируется и не подчеркивается.
Когда люди смещаются от самой беседы к размышлению над ней, они становятся слушательской аудиторией для самих себя. Они оказываются в лучшем положении, для того чтобы представить смысл своих собственных нарождающихся нарративов.
Предлагая людям поразмышлять над их собственным опытом, мы держим в уме те же самые цели, как и в том случае, когда побуждаем их откликнуться на опыт других. То есть мы заинтересованы (1) в том, чтобы предложить им возможность сделать общие замечания о терапевтической беседе и том, что во время нее возникает, и (2) в том, чтобы услышать их идеи о возможных началах историй и того смысла, который они им придают.
"Как вы думаете, что из обсуждаемого нами является наиболее значимым?", "Оглядываясь назад и обнаруживая, как далеко вы продвинулись с тех пор, как начали бороться с этой проблемой,
 "Как вы, возможно, заметили, этот список соответствует нашему списку типов вопросов, за исключением того, что смысл заменяется на размышление. Вопросы смысла не побуждают к размышлению, как это происходит в случае других, более открытых вопросов типа "Когда вы обдумываете то, о чем мы говорили до сих пор, что выходит для вас на первый план?"
"Как вы, возможно, заметили, этот список соответствует нашему списку типов вопросов, за исключением того, что смысл заменяется на размышление. Вопросы смысла не побуждают к размышлению, как это происходит в случае других, более открытых вопросов типа "Когда вы обдумываете то, о чем мы говорили до сих пор, что выходит для вас на первый план?"
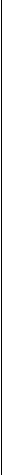
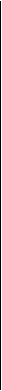
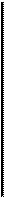 что вы замечаете в себе9" — примеры достаточно открытых вопросов, которые мы можем использовать, чтобы пробудить размышление.
что вы замечаете в себе9" — примеры достаточно открытых вопросов, которые мы можем использовать, чтобы пробудить размышление.
Более специфические вопросы могут быть такими: "Что вы узнали о себе, добившись этого?", "Вы понимаете, что для меня эта новая линия развития означает, что вы намного продвинулись вперед? Как вы думаете, что я вижу?" и "Какие качества вы проявили, достигая этого?"
Способ побудить детей к размышлениям вслух мы узнали от Мишеля Дюррана. Он состоит в том, что терапевт выражает свое мнение и потом спрашивает ребенка, думает ли он о себе так же. Например, услышав, что ребенок спал всю ночь, а не позволял страхам нарушать его сон, терапевт может прокомментировать это так: "Похоже, ты становишься смелее! Это так?"
Работая с маленькими детьми и приглашая их осмыслить развивающийся нарратив, мы задаем меньше вопросов, и эти вопросы проще. Мы больше полагаемся на тон голоса и выражение лица Кроме того, мы предоставляем им подсказки: выражаем восторг или волнение, слушая их рассказ о новых достижениях, и только потом предлагаем поделиться чувствами по этому поводу. Мы понимаем Майкла Уайта, который прославился тем, что падал со стула, акцентируя новый нарратив!
Некоторые взрослые и подростки поначалу не реагируют на вопросы, побуждающие к размышлению. Работая с ними, мы сначала делимся собственными размышлениями и только потом просим прокомментировать наши соображения. Майкл Уайт (1988а) называет это косвенными вопросами. Например: "Вы можете понять, что для меня означает то, что вы сделали большой шаг в противостоянии тревожности?" За этим вопросом следует примерно такой: "Как вы думаете, что я такого заметил, что заставило меня так
думать?"
Еще один способ справиться с кажущимся отсутствием отзывчивости на наши вопросы — предложить выбор. Например, мы можем спросить: "Как вы думаете, это достижение больше связано с вашей решимостью преодолеть проблему или с вашей творческой реакцией на то, что предлагает жизнь?" К счастью, часто люди полностью отвергают наш выбор и предлагают вместо этого свои собственные идеи!
 2015-04-30
2015-04-30 307
307








