История с невестой Гамлета, Офелией, одна из самых сложных в пьесе Шекспира. Не случайно, что и в наше время шекспироведение так и не сумело предложить хоть сколько-нибудь правдоподобное и не вызывающее возражений объяснение. Сложность тут заключается в том, что никак нельзя понять, зачем этот образ понадобился Шекспиру.
Здесь история Офелии, как и вся пьеса, оказывается разобранной на мельчайшие детали так, что, кажется, нет никакой возможности сплести это все вновь воедино. Самое главное, остается безответным вопрос: зачем понадобилось Шекспиру тянуть линию Офелии через все четыре акта, когда все могло кончиться уже во втором, и что хотел он выразить в образе Офелии? Ответ на данный вопрос и даст нам развернутую интерпретацию ее линии в пьесе.
 Еще с древнейших времен известно, что каждый цветок имеет свое значение, и комментаторы также обратили на это внимание, поэтому в примечаниях к трагедии обычно указывают, что розмарин означал верность, троицын цвет — задумчивость, укроп — лесть, водосбор — измену, рута раскаяние и печаль, маргаритки — ветреность, легкомыслие, фиалка — верную любовь. Уже из простого перечисления значений цветов видно, что она скорбит не столько по отцу, хотя об этом также говорится, но только открытым текстом, а о своей изломанной судьбе и несчастной любви к Гамлету, и скорбь эта тем невыносимей и больней, что говорить о ней открыто нельзя, ибо это та тайна, которую она должна унести с собой в могилу. Офелия раскаивается (рута) в том, что была ветрена и легкомысленна (маргаритки) и поверила лести и лирным клятвам (укроп) принца, который обманул и предал ее (водосбор), а теперь, после глубоких и тяжких раздумий (троицын цвет), она решила покончить с собой, поскольку ничего другого ей не остается. Но перед смертью Офелия хочет сказать, что всегда была верной Гамлету (розмарин) и всегда любила только его одного, поэтому она охотно подарила бы ему свою верную любовь (фиалка), однако после убийства Полония это уже становится невозможным.
Еще с древнейших времен известно, что каждый цветок имеет свое значение, и комментаторы также обратили на это внимание, поэтому в примечаниях к трагедии обычно указывают, что розмарин означал верность, троицын цвет — задумчивость, укроп — лесть, водосбор — измену, рута раскаяние и печаль, маргаритки — ветреность, легкомыслие, фиалка — верную любовь. Уже из простого перечисления значений цветов видно, что она скорбит не столько по отцу, хотя об этом также говорится, но только открытым текстом, а о своей изломанной судьбе и несчастной любви к Гамлету, и скорбь эта тем невыносимей и больней, что говорить о ней открыто нельзя, ибо это та тайна, которую она должна унести с собой в могилу. Офелия раскаивается (рута) в том, что была ветрена и легкомысленна (маргаритки) и поверила лести и лирным клятвам (укроп) принца, который обманул и предал ее (водосбор), а теперь, после глубоких и тяжких раздумий (троицын цвет), она решила покончить с собой, поскольку ничего другого ей не остается. Но перед смертью Офелия хочет сказать, что всегда была верной Гамлету (розмарин) и всегда любила только его одного, поэтому она охотно подарила бы ему свою верную любовь (фиалка), однако после убийства Полония это уже становится невозможным.
Утратив надежду найти счастье на земле, она верит, что воскреснет и обретет его на небесах после смерти. Следовательно, внутренне она уже готова к смерти и прощается с миром земным, чтобы отойти в мир иной. Перед своим окончательным уходом она поет песню о своем любимом и предсказывает его скорое воскрешение после смерти:
Веселый мой Робин мне всех милей.
И он не вернется к нам?
И он не вернется к нам?
Нет, его уж нет,
Он покинул свет,
Вовек не вернется к нам.
Его борода — как снег,
Его голова — как лен;
Он уснул в гробу,
Полно клясть судьбу;
В раю да воскреснет он!
Таким образом, она прощает Гамлету все то, что он с нею сотворил, и уходит в вечность со словами: «И все христианские души, я молю бога — Да будет с вами бог!» Здесь нам могут возразить: «Офелия поет о любимом с бородой, почему же она имеет в виду Гамлета, если у него не было бороды?» Нет, у Гамлета была борода. В одном из монологов он говорит: «Кто скажет мне: „подлец"? Пробьет башку? Клок вырвав бороды, швырнет в лицо (II, 2) Сомнений быть не может, Офелия поет о Гамлете, чтобы проститься с ним навеки. Она величественно и с достоинством принимает свою смерть, так же, как в свое время сделала это дочь Иеффая.
«О каком величии и достоинстве может идти речь, — возмутится кто-нибудь из критиков, — разве можно Офелию сравнивать с дочерью Иеффая?! Ведь Офелия, мало того, что обманывала всех, если верить вашей гипотезе, что само по себе безнравственно, она к тому же отдалась Гамлету до свадьбы, совершив грех прелюбодеяния, и вдобавок ко всему покончила с собой, что также является тягчайшим грехом. Выходит, что она просто безнравственная особа, величайшая блудница, а никакой не ангел, способный творить чудеса во имя людей. Дочь Иеффая была чиста, невинна и целомудренна, к тому же не она накладывает на себя руки, а ее отец, во исполнение обета, данного богу, приносит ее в жертву, и только то, что она не противилась этому обету, а добровольно согласилась с ним, делает ее достойной подвига отца, в силу чего все женщины Израиля оплакивают ее судьбу, скорбя об утрате невинной души. Разве то же самое мы видим и в случае с Офелией? Ничего подобного, Полоний не совершает никакого подвига, а погибает совершенно случайно от руки Гамлета, его же дочь одновременно печалится и о своем отце, и о своем возлюбленном, что также совсем непонятно. И вот из этой развратной, безнравственной женщины вы пытаетесь вылепить чуть ли не скульптуру богини, достойной всяческого поклонения?! Ничего не выйдет, это просто невозможно», — заключает наш критик.
Весь мир ополчился против Гамлета, упреки и обвинения сыплются на него со всех сторон. В пьесе нет практически ни одного персонажа, за исключением фигур второго плана — Горацио и Фортинбраса — кому бы он, волей или неволей, не причинил каких-либо страданий и бед. Мало того, что он соблазнил и обесчестил Офелию, а затем цинично издевался над ней во время спектакля, он же еще стал виновником смерти ее отца, Полония. Как черная, неприступная скала, не предвещающая ничего хорошего, стоял он на пути к счастью Гертруды и Клавдия, не давая им жить мирной и счастливой жизнью. А кто отправил на тот свет Гильденстерна и Розенкранца, причем сделал это Гамлет тогда, когда угроза его собственной жизни миновала, а ведь они когда-то вместе учились и были друзьями. А кто открыто издевался вначале нал Полонием, а затем над Озриком? Кто критикует все и вся и глумится над всем? Гамлет, Гамлет и еще раз Гамлет. Так кто же он в конце концов, — чудовище, пожирающее все, что ему попадается на глаза, и сеющее вокруг себя смерть или же все-таки герой, обреченный в одиночку сражаться с целым миром лжи, подлости и вероломства?
Основной проблемой, над которой изощряли свои умы лучшие представители философской и литературоведческой мысли, является проблема медлительности, которая базируется на двух моментах; во-первых, на вопросе, который за истекшие столетия приобрел поистине гамлетовский характер, «быть или не быть», и который до сих пор висит над трагедией как дамоклов меч, — почему Гамлет, узнав об убийстве от призрака, не убивает короля во время молитвы. Вторым моментом являются его монологи, в которых он не устает упрекать себя в медлительности.
Шекспир ввел в трагедию призрак отца и сделал Гамлета философом — мотивировка движения и задержания. Шиллер делает Валленштейна изменником почти против его воли, чтобы создать движение трагедии, и вводит астрологический элемент, которым мотивируется задержание» (26, с. 81). Но его слабость заключается в том, что он допускает возможность незнания Шекспиром всей фабулы сразу, будто поэт, приступая к созданию пьесы, не имел в голове никакого, хоть мало-мальски продуманного плана и только по ходу пьесы придумывал различные увертки, чтобы как-то спасти и сохранить целостность произведения. Это невозможно, ибо тогда необходимо отказаться от тезиса о строгой, логической последовательности, которую мы уже частично продемонстрировали. Следовательно, надо исходить не из того, что Шекспир якобы искусственно затягивает процесс отмщения и действие всей пьесы, а из того, что в самом тексте уже задана Шекспиром та причина, которая исчерпывающим образом объясняет поведение Гамлета.
 Как известно, Гамлет отказывается убивать короля во время молитвы, якобы потому, что его отец предстал пред высшим судом непомазанным и не причащенным, когда его грехи цвели как майский цвет, поэтому если бы он убил короля за молитвой, то оказал бы ему этим только услугу, следовательно, короля необходимо было так же застигнуть врасплох во время его злодеяний и уже только тогда отправить на тот свет. Такова мотивировка Гамлета, приведшая его к отказу от исполнения мести немедленно.
Как известно, Гамлет отказывается убивать короля во время молитвы, якобы потому, что его отец предстал пред высшим судом непомазанным и не причащенным, когда его грехи цвели как майский цвет, поэтому если бы он убил короля за молитвой, то оказал бы ему этим только услугу, следовательно, короля необходимо было так же застигнуть врасплох во время его злодеяний и уже только тогда отправить на тот свет. Такова мотивировка Гамлета, приведшая его к отказу от исполнения мести немедленно.
Совершив одно из самых страшных преступлений, братоубийство, о котором Призрак говорит: «Убийство гнусно по себе; но это гнуснее всех и всех бесчеловечней», Клавдий разгневал небеса, которые не прощают злодейств подобного рода. Дело в том, что Клавдий убил не просто брата, но короля, а за преступления королевской династии ответственность несет в целом весь народ, поскольку судьба трона и судьба народа связаны неразрывно. Об этом говорит сам Шекспир, вкладывая в уста Розенкранца и Лаэрта следующие слова:
Великие в желаниях не властны;
Он в подданстве у своего рождения:
Он сам себе не режет свой кусок,
Как прочие; от выбора его
Зависят жизнь и здравие всей державы,
И в нем он связан изволеньем тела,
Которому он голова.
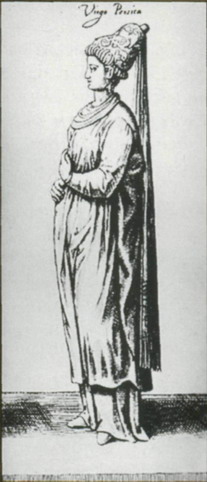 Так говорит Лаэрт о Гамлете, наставляя Офелию. Это же подтверждает и Розенкранц:
Так говорит Лаэрт о Гамлете, наставляя Офелию. Это же подтверждает и Розенкранц:
Кончина государя
Не одинока, но влечет в пучину
Все, что вблизи: то как бы колесо,
Поставленное на вершине горной,
К чьим мощным спицам тысячи предметов
Прикреплены; когда оно падет,
Малейший из придатков будет схвачен
Грозой крушенья. Искони времен
Монаршей скорби вторит общий стон.
А это значит, что небеса грозят навалиться всей своей небесной силой, всей своей мощью не на одного только Клавдия, как виновника преступления, а на всю Данию, на весь датский народ, наслав неисчислимые бедствия, войны, болезни, неурожай и голод. Черные, свинцовые тучи стали сгущаться над этой страной, грозя низвергнуть на нее все беды и ужасы преисподней.
И в самом деле, еще никто ничего не знает, не понимает, но уже все чувствуют, что в небе над Данией повисла беда, застилая его черным, зловещим покрывалом.
Столь скорая измена матери не только поражает его своим выбором, но и возмущает до глубины души. И чем больше падает в его глазах мать, тем больше растет образ отца, и тем более он сгущает краски при изображении поведения матери. Все это доказывает, что внутренне Гамлет уже был готов к тому известию, которое сообщил ему Дух; поэтому, когда товарищи отговаривали его, чтобы он не отходил с Призраком, то Гамлет отвечает им:
Мой рок взывает,
И это тело в каждой малой жилке
Полно отваги, как Немейский лев.
А когда Призрак провозглашает:
...но, знай, мой сын достойный: Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец.
Гамлет тут же восклицает: «О, вещая моя душа!»
Это значит, что он уже смутно догадывался и подозревал о том, что смерть его отца не случайна. И все-таки самое большое потрясение в Гамлете производит то обстоятельство, что отец, достойный всяческого подражания, достойный из достойнейших, оказывается за свои грехи ввергнут в пламя ада, что он переживает там дьявольские страдания, о которых даже говорить нельзя:
Когда б не тайна
Моей темницы, я бы мог поведать
Такую повесть, что малейший звук
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,
Глаза, как звезды, вырвал из орбит,
Разъял твои заплетшиеся кудри
И каждый волос водрузил стоймя,
Как иглы на взъяренном дикобразе;
Но вечное должно быть недоступно
Плотским ушам.
Так начинает свою речь тот, кто при жизни считался почти безгрешным, самым человечным и самым достойным из людей. Странно, не правда ли? Ведь по всем канонам христианских заповедей он должен был попасть в рай, а не гореть в аду, подвергаясь таким ужасным мукам. Далее вдруг выясняется, что смерть его настигла в самом расцвете грехов; вот вам и достойнейший! Каково же все это было выслушивать Гамлету, сравнивавшему отца с Фебом, а Клавдия с Сатиром, когда выяснилось, что и на солнце есть пятна, что и его отец совсем не столь безгрешен, как казалось прежде. И теперь небеса возложили на него миссию чистильщика авгиевых конюшен, в которые уже давно превратился королевский двор. Отец хоть и призывает Гамлета отомстить, но принц понимает, что Призрак лишь посланник неба, что задача не сводится к одной только мести, а значительно сложнее, что королевский двор уже давно превратился в «буйный сад, плодящий одно лишь семя: дикое и злое», что именно поэтому он обречен; в противном случае, в гневе небеса покарают всех: и Данию, и народ.
Три человека, три самых близких человека — отец, мать и родной дядя, вдруг оказались величайшими грешниками! Действительно, было от чего прийти в отчаяние и сойти с ума. «О рать небес! Земля! И что еще прибавить? Ад? — Тьфу, нет! — Стой, сердце, стой. И не дряхлейте, мышцы, но меня несите твердо», — так восклицает Гамлет после разговора с Призраком. И он клянется исполнить данный им обет. Тайна налагает на его уста замок, а он вынужден молчать и бороться в одиночку, ибо в целом мире не осталось человека (за исключением Горацио), которому он мог бы спокойно доверить свою тайну. Не может он довериться и Офелии, которую любил и продолжает любить, но сама любовь таит для него угрозу предательства, поэтому он решает прежде всего порвать любовные узы, связывавшие его с Офелией. Возложенная на него миссия требует от принца полной отдачи, полного самопожертвования.
Притворное безумие помогает ему говорить правду, но не быть понятым, а скрыть внутри себя то великое горе, которое внезапно обрушилось на него.
Офелия ничего не знала о случившемся, поэтому и не могла понять то состояние, которое переживал Гамлет, и те душевные муки, которые он испытывал. В силу чего она тут же решила, что Гамлет сошел с ума, в то время как на самом деле он пришел к ней, чтобы проститься навсегда, запечатлеть ее образ в своем сердце и стать неприступным, как скала, для своих чувств.
Уже в разговоре с Полонием он ясно дает понять о происшедших в нем переменах. Гамлет говорит ему: «Быть честным при том, каков этот мир, — это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч». Затем он говорит о солнце, плодящем червей в дохлом псе, и вдруг спрашивает его: «Есть у вас дочь?» На что Полоний, естественно, отвечает: «Есть, принц». И тогда Гамлет неожиданно прибавляет: «Не давайте ей гулять на солнце; всякий плод — благословение; но не такой, какой может быть у вашей дочери. Друг, берегитесь». Естественно, что Полоний никак не понимает, на что намекает Гамлет, и что он имеет в виду. Но если вспомнить, что отца он сравнивает с Фебом, то есть с солнцем, а сам он его сын, сын солнца, то само собой вытекает, что Гамлет имеет в виду своего будущего ребенка, но ребенка, унаследовавшего проклятие и все грехи королевского рода, который не должен быть рожден, ибо такова воля неба. Теперь становится понятным, почему при следующей встрече с Офелией он задает ей этот вопрос: «Зачем тебе плодить грешников?», ибо сам Гамлет считает себя не только наследником королевского рода, но и всех грехов, буйно расплодившихся в нем: «…потому что, сколько ни прививать добродетель к нашему старому стволу, он все-таки в нас будет сказываться», — считает он.
Весь мир рухнул прямо на его глазах. Погибло все, что ему было мило, дорого и что он любил сильней всего на свете. Черным пеплом посыпало горе его душу. Весь мир превратился в тюрьму, а Дания в наилучшую из них, со множеством затворов, темниц и подземелий. Он остался один, без права на надежду, на любовь, на жизнь. Ему ничего другого не остается, как только исполнить то, что на него возложено свыше. Но как это исполнить, он не знает. Исполнение возложенной на него миссии требует колоссального напряжения сил и огромной воли, а самое главное — необходимо действовать.
 Результатом разразившейся трагедии явилось то, что Гамлет как бы заново рождается: тот, светлый, радужный мир, мир надежд и мечтания окончательно рухнул, и теперь в мучительных родах возникает мрачный блик нового мира, погрязшего в грехах и преступлениях. Мир предстал перед ним в истинном свете, и это ужаснуло его. Клавдий повинен в смерти королевы, потому что изначально использовал ее любовь в своих корыстных интересах, потому что она открыла ему дорогу для братоубийства. Повинен в смерти Розенкранца и Гильденстерна, ибо когда они приехали в Англию и подали пакет, в котором говорилось о том, чтобы схватить и казнить подателей сего письма, а их тут же арестовали, то они, ошеломленные, возопили: «За что? По чьему приказу?!» И услышали в ответ: «Именем датского короля Клавдия». Тогда они поняли, что их жестоко, вероломно обманули. «Будь ты проклят, Клавдий!» — таковы были их последние слова. Король повинен в смерти Полония, ибо тот, подслушивая за ковром, также исполнял его приказание. Кого винят в том, что войско, в несколько раз превышающее численностью противника, вдруг проигрывает сражение? Полководца, на нем лежит главная ответственность за поражение и бездарное руководство. Так руками Гамлета небесные силы свершают правосудие, а он исполняет данный им обет: отравить Клавдия в ад, когда его грехи переполнят чашу злодеяний, и он предстанет перед высшим судом со всеми преступлениями на шее.
Результатом разразившейся трагедии явилось то, что Гамлет как бы заново рождается: тот, светлый, радужный мир, мир надежд и мечтания окончательно рухнул, и теперь в мучительных родах возникает мрачный блик нового мира, погрязшего в грехах и преступлениях. Мир предстал перед ним в истинном свете, и это ужаснуло его. Клавдий повинен в смерти королевы, потому что изначально использовал ее любовь в своих корыстных интересах, потому что она открыла ему дорогу для братоубийства. Повинен в смерти Розенкранца и Гильденстерна, ибо когда они приехали в Англию и подали пакет, в котором говорилось о том, чтобы схватить и казнить подателей сего письма, а их тут же арестовали, то они, ошеломленные, возопили: «За что? По чьему приказу?!» И услышали в ответ: «Именем датского короля Клавдия». Тогда они поняли, что их жестоко, вероломно обманули. «Будь ты проклят, Клавдий!» — таковы были их последние слова. Король повинен в смерти Полония, ибо тот, подслушивая за ковром, также исполнял его приказание. Кого винят в том, что войско, в несколько раз превышающее численностью противника, вдруг проигрывает сражение? Полководца, на нем лежит главная ответственность за поражение и бездарное руководство. Так руками Гамлета небесные силы свершают правосудие, а он исполняет данный им обет: отравить Клавдия в ад, когда его грехи переполнят чашу злодеяний, и он предстанет перед высшим судом со всеми преступлениями на шее.
Поняв, в чем дело, Гамлет сначала поражает короля клинком, а потом заставляет его выпить приготовленное им же пойло:
Вот, блудодей, убийца окаянный,
Пей свой напиток! Вот тебе твой жемчуг!
Ступай за матерью моей!
Таким образом, король и королева умирают, испив до дна чашу собственных злодеяний. А Лаэрт, осознав, что он жестоко ошибся, доверившись королю, признается:
Расплата заслужена; он сам готовил яд.
Простим друг другу, благородный Гамлет.
Да будешь ты в моей безвинен смерти
И моего отца, как я в твоей!
Этими словами с Гамлета снимается вина за убийство Полония, а перед Офелией он был безвинен и ей не изменил, потому что никогда и никого, кроме нее, не любил. Гамлет погибает. И мы можем сказать вместе с Офелией:
О, что за гордый ум сражен! Вельможи,
Бойца, ученого — взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы,
Чекан изящества, зерцало вкуса,
Пример примерных — пал, пал до конца!
Да, Гамлет погиб, но не погибло то, за что он сражался, — будущее Дании. Своей смертью он искупил грехи королевского рода и оставил Фортинбрасу чистый трон, хотя сам и не был в чем-либо виновен. Он сдержал клятву, данную отцу, и с честью выполнил возложенную на него миссию. Он погиб, но совершив при этом величайший подвиг, подвиг Иисуса Христа, приняв на себя все грехи, спасая своей смертью родную Данию и датский народ. Этой цели он отдал все, что мог: свою любовь, своего будущего ребенка и достойную его Офелию, так же сознательно принявшую на себя миссию жертвенного подвига, как дочь Иеффая; свою надежду на будущее царство и, наконец, свою жизнь. Только подлинно великий человек способен на это.
На датский престол восходит новая королевская династия, а вместе с нею восходит надежда на новую жизнь. А то, что Фортинбрас занимает трон не только по крови, но и с согласия самого Гамлета, свидетельствует о том, что на престол восходит достойный король. Конечно, Фортинбрас еще молод, горяч и способен на безрассудные поступки, но он благороден и чист душой, а руки его не обагрены кровью и над ним не тяготеет проклятье королевского рода. Что стало возможным только благодаря подвигу Гамлета.

 2015-05-06
2015-05-06 3011
3011
