Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.

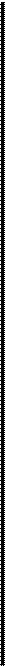 об ответственном поручительстве, неотъемлемо присущем доверительным отношениям47. Поскольку Барбер является одним из наиболее часто цитируемых современных авторов по проблеме доверия, то, наверное, нелишне привести из него обширную цитату, чтобы ярче засвидетельствовать эту неразрывную связь между доверием и тем, Что я определяю как уверенность в систематически определенных ролевых ожиданиях:
об ответственном поручительстве, неотъемлемо присущем доверительным отношениям47. Поскольку Барбер является одним из наиболее часто цитируемых современных авторов по проблеме доверия, то, наверное, нелишне привести из него обширную цитату, чтобы ярче засвидетельствовать эту неразрывную связь между доверием и тем, Что я определяю как уверенность в систематически определенных ролевых ожиданиях:
«Имеем ли мы в виду ожидания устойчивости морального социального
порядка, или ожидания технически компетентной работы, или ожидания
ответственного поручительства, мы всегда должны уточнять социальное
ъ отношение или социальную систему, которые мы рассматриваем. То,
di. что считается компетентностью или ответственным поручительством
среди друзей, может отличаться от доверия в семейной группе, а вместе
г:,. они, возможно, отличаются от таковых на производстве или в обществе
. ^ в целом. Может произойти путаница, если упустить из виду этот момент,
особенно если дело касается противоречивых ожиданий различных
- j, социальных систем одного и того же или разных уровней общности...
i Более того, ожидания доверия внутри одного отношения, группы или
системы могут явным образом исключать компетентность в работе или
ответственное поведение в какой-то иной сфере».48
Здесь мы видим, как Барбер указывает на связь доверия с тем, что в сущности является исполнением роли, и одновременно допускает возможность возникновения конфликта в случае, если различные роли реализуются в рамках единого статуса личности. Но представить себе доверие как нечто такое, что возникает в данных межролевых пространствах, он не может, что и неудивительно: ведь доверие определяется им главным образом как уверенность — в принятом нами понимании этого термина. А это, в свою очередь, говорит о том, что любые попытки теоретически определять доверие исключительно через уверенность влекут за собой нешуточные проблемы.
И наконец, следует отметить, что большинство появляющихся ныне исследований феномена доверия сосредоточены на анализе того, как ведет себя рациональный актор в условиях многократного повторения игры «Дилемма узника»49. Здесь также само повторение интеракций указывает на то, что имеется в виду процесс структурирования предпочтений на основе определенных ожиданий, которые с развитием игры начинают приписывать друг другу ее участники (и это несмотря на то, что оценка данных ожиданий осуществляется исключительно с позиций рационального выбора и максимизации полезности). Так, например, Парта Дасгупта отмечает: «Прежде чем между индивидами установится доверие, они должны неоднократно встречаться друг с другом, они должны обрести определенные воспоминания о предыдущих встречах. Кроме того, если мы хотим, чтобы понятие честности об-
' Доверие, сегментация... 23
тлило весом (то есть могло бы служить основанием нормативно заданных ролевых ожиданий), нужно, чтобы честное поведение имело определенную нему. И наконец, доверие связано с репутацией, а репутацию еще надо со-1Щ1Т1»»50. Сам процесс повторения, память о предыдущих встречах, создание репутации — все это функциональные эквиваленты того, что мы называем умеренностью в системе (достигаемой, помимо всего прочего, повторением интеракции).51
Между тем, в нашем понимании не только доверие не аналогично вере, ||и(ю уверенности, но и недоверие есть нечто весьма отличное от простого отсутствия уверенности. Подобным утверждением я провожу различие меж-HV. с одной стороны, отсутствием уверенности, проявляющимся (а) в любой конкретной системе, в любом наборе институциональных ожиданий или (б) в i пособности данного носителя ролей выполнять свою роль в соответствии с принятыми стандартами ролевых ожиданий (разделяя мнение Дарендорфа о i ом, что интерпретации принятых стандартов могут быть очень разными), а с цругой, (в) феноменом недоверия к индивиду, не зависящим от того, как он или она выполняет свою роль. Например, я могу обладать, либо не обладать умеренностью в общепрагматическом характере американской медицины (скажем, я могу полагать, что она исходит из ошибочных эпистемологических посылок и пойду к знахарю, либо отправлюсь в Лурд*, либо «доверю» лечение своих недугов гомеопатам). Аналогичным образом, я могу быть уверенным в правильности общих посылок американской медицины (думаю, именно об этой уверенности говорит Гидденс, рассматривая абстрактные системы), но не чувствовать уверенности относительно конкретного курса лечения, проходимого мной в конкретной клинике или под руководством конкретного врача. В обоих случаях мы уверены в самой «системе» и\или в ее конкретных институциональных воплощениях. Ни в одном из названных случаев мы не имеем дела с феноменом недоверия, хотя зачастую готовы утверждать, что «не доверяем» такому-то доктору, дантисту или университетскому администратору. Если предыдущий анализ верен, мы должны признать, что в подобном случае термин «доверие» употребляется неправильно. Ибо если доверие отличается от уверенности, то и недоверие должно быть чем-то иным, нежели просто отсутствием доверия. Предположим, нам еще не известно, что представляет собой доверие, предположим, что мы лишь приблизительно знаем, в каких ситуациях возможно говорить о его появлении; но давайте продвигаться вперед не спеша, заботясь о том, чтобы дать надежное обоснование каждому нашему шагу.
В этом случае можно будет предположить, что доверие зарождается на границе системы, в тех ее зазорах, в том метафорическом пространстве меж-
 * Город Лурд, расположенный на Юге Франции, является бальнеологическим курортом, а
* Город Лурд, расположенный на Юге Франции, является бальнеологическим курортом, а
также объектом паломничества католиков. — Прим. перев..
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.

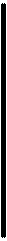 ду ролями, в той сфере, где роли подвергаются рассмотрению и интерпретации. Данный тезис в интересном свете преподносится в кратком обзоре исследований такой народности, как живущие в Гане фрафасы, автором которого является антрополог Кейт Харт. Различные племена, входящие в данную группу мигрантов, оказались, как явствует из блестящего описания Харта, в пространстве между двумя разными типами систем -— традиционной формой социальной организации, построенной на родственных связях, и более современной формой, основанной на рыночных, договорных отношениях. Оказавшись перед необходимостью «построения экономических отношений (читай: отношений обмена) фактически на пустом месте — в мире, лишенном как устанавливаемых государством надлежащих правил, так и сегментарных политических структур привычного для них общества» — фрафасы были буквально обречены на то, чтобы найти некий третий способ установления социальных отношений, способ, определяемый тем, что Харт именует доверием (хотя для него данный термин является синонимом дружбы — типа связи, обсудить который нам представится возможность в дальнейшем при рассмотрении философии шотландских моралистов XVIII века).52 «Доверие, — говорит Харт, — обитает в той «полосе отчуждения», которая пролегает между статусом и договором».53 Это то «последнее прибежище», которым пользуются в случае, если нет уверенности ни в освященных временем (а ныне поколебленных) родственных связях, ни в нарождающихся (но еще не институционализированных) договорных отношениях.54 Таким образом, данная сформировавшаяся в конце 1960-х годов волна мигрантов в Гане оказалась в ситуации, когда «системы» фактически не существовало, а значит не существовало и оснований для того чтобы полагаться на (или чувствовать уверенность в) систему ограничений, не существовало фундамента для каких-либо ролевых ожиданий или стереотипов. Все, что им оставалось, это довериться «десятому характеру» окружающих.
ду ролями, в той сфере, где роли подвергаются рассмотрению и интерпретации. Данный тезис в интересном свете преподносится в кратком обзоре исследований такой народности, как живущие в Гане фрафасы, автором которого является антрополог Кейт Харт. Различные племена, входящие в данную группу мигрантов, оказались, как явствует из блестящего описания Харта, в пространстве между двумя разными типами систем -— традиционной формой социальной организации, построенной на родственных связях, и более современной формой, основанной на рыночных, договорных отношениях. Оказавшись перед необходимостью «построения экономических отношений (читай: отношений обмена) фактически на пустом месте — в мире, лишенном как устанавливаемых государством надлежащих правил, так и сегментарных политических структур привычного для них общества» — фрафасы были буквально обречены на то, чтобы найти некий третий способ установления социальных отношений, способ, определяемый тем, что Харт именует доверием (хотя для него данный термин является синонимом дружбы — типа связи, обсудить который нам представится возможность в дальнейшем при рассмотрении философии шотландских моралистов XVIII века).52 «Доверие, — говорит Харт, — обитает в той «полосе отчуждения», которая пролегает между статусом и договором».53 Это то «последнее прибежище», которым пользуются в случае, если нет уверенности ни в освященных временем (а ныне поколебленных) родственных связях, ни в нарождающихся (но еще не институционализированных) договорных отношениях.54 Таким образом, данная сформировавшаяся в конце 1960-х годов волна мигрантов в Гане оказалась в ситуации, когда «системы» фактически не существовало, а значит не существовало и оснований для того чтобы полагаться на (или чувствовать уверенность в) систему ограничений, не существовало фундамента для каких-либо ролевых ожиданий или стереотипов. Все, что им оставалось, это довериться «десятому характеру» окружающих.
Рассуждая в этом ключе, было бы интересно — прежде чем обратиться к более аналитически заостренному рассмотрению отношений между системой и ее ограничениями (с целью сближения ее с нашим пониманием доверия) — отметить соответствие данного представления о доверии как о чем-то возникающем на границах системы историческому возникновению трансцендентальных или «осевых» религий, тех великих мировых религий, которые изменили направление развития цивилизаций. Если следовать предложенной Эриком Вогелином концепции возникновения монотеизма, мы увидим, что эта новая «вера» зародилась, как он говорит, во «времена невзгод», времена «космологического распада».55 Это относится не только к монотеизму израильтян, но и к другим разновидностям «осевых» религий — например, к исламу, зародившемуся и укоренившемуся в Мекке и Медине в VII веке, в период перехода от полукочевого и скотоводческого социального уклада к развитию торговых центров, ставших свидетелями возникновения новых форм со-
у i: Доверие, сегментация... 25
цнальной организации, новых ролей и переосмысления дотоле существовавших ролей — все это отчасти за счет сохраняющейся племенной солидарности.'"' Появление этих осевых цивилизаций, конечно, было связано с усилением дифференциации между отдельными составляющими общества, порожденной «распадом племенных обществ и преобразованием их в более широкие объединения, зачастую связанные с появлением в эпоху, предшествующую появлению письменности, ранних государств».57
Здесь налицо аналогия с исследованием Харта, посвященном Гане. Подобно тому, как у фрафасов доверие возникло в ситуации, характеризующейся распадом социальных систем, вера, являвшаяся, согласно описанию Воге-лниа, фактически новой формой социальной организации, возникла в период космологического распада. Эти разнообразные формы системы, достигнув предела собственного развития, вызывают к жизни различные формы социальной организации и ассоциаций. Здесь следует особо выделить мысль о различных гипах системных ограничений и прояснить их связь с ролями и ролевым поведением. Ибо если ограничиться исключительно работами Харта (или Вогели-на), то доверие представится нам исключительно редким явлением, возникно-исние которого можно объяснить лишь переходным периодом, крахом системы или недееспособностью институтов. Но подобное в корне противоречит нашим интуитивным представлениям, так как мы считаем (или, возможно, хотели бы считать) доверие существенной составной частью нашей повседневной жизни и наших социальных отношений. (Фактически, я намерен представить доказательства того, что доверие — или даже недоверие — есть некое пограничное и далеко не столь распространенное явление, как нам хотелось бы думать; но доказывать это я буду, исходя из несколько иных причин).
Ведь если доверие (заметим, что нам еще не известно, что это такое) —:>то нечто возникающее на границах системы, вне общей схемы ожиданий, относящихся к ролевому поведению, то из этого должен последовать ряд дальнейших разграничений и конкретизации. Важнее всего уточнить природу указанных пределов.
Данную задачу можно разбить на ряд частных вопросов, проясняющих (а) связи между различными типами систем, сосуществующих в пределах единой территории, и ограничения, налагаемые на каждую из систем подобным дуализмом (а значит, прояснить и природу доверия, способного возникнуть в данном контексте). Здесь основное внимание должно быть сосредоточено на конкретном содержании различных систем. В качестве примера можно привести сосуществование в Южном Судане христианства, анимизма и (в меньших масштабах) ислама, а также сосуществование христианства и буддизма в некоторых районах Юго-Восточной Азии; примером может служить даже образ жизни заключенных в Америке, при котором формальные определения ролей и природы обмена существуют параллельно с менее формальными правилами обмена (а, следовательно, и доверия — взять хотя бы обмен
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
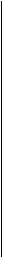 сигаретами между заключенными); (б) природу системных ограничений, структурируемых различными типами сосуществующих в любой конкурентной системе ролей. Так, например, статус профессора университета конца XX века включает в себя ролевые компоненты совсем иного типа, чем статус ирландского священника в XIX веке. Очень различными по типу должны быть поэтому и ограничения для каждого набора порождающих доверие интеракций. Природа уверенности в осуществлении ролевых ожиданий также должна быть различной, хотя и в несколько ином смысле, ибо «система» ролевых ожиданий (ее нормативные ожидания, цели, природа интеграции, координационных механизмов и прочих составляющих парадигмы Парсонса) различна в каждом конкретном случае. Столь же различными поэтому должны быть и любые виды общности (mutuality) и ассоциации, существующие за рамками данных ожиданий, позволяющих попросту полагаться на надлежащую реализацию ожиданий со стороны носителей ролей.
сигаретами между заключенными); (б) природу системных ограничений, структурируемых различными типами сосуществующих в любой конкурентной системе ролей. Так, например, статус профессора университета конца XX века включает в себя ролевые компоненты совсем иного типа, чем статус ирландского священника в XIX веке. Очень различными по типу должны быть поэтому и ограничения для каждого набора порождающих доверие интеракций. Природа уверенности в осуществлении ролевых ожиданий также должна быть различной, хотя и в несколько ином смысле, ибо «система» ролевых ожиданий (ее нормативные ожидания, цели, природа интеграции, координационных механизмов и прочих составляющих парадигмы Парсонса) различна в каждом конкретном случае. Столь же различными поэтому должны быть и любые виды общности (mutuality) и ассоциации, существующие за рамками данных ожиданий, позволяющих попросту полагаться на надлежащую реализацию ожиданий со стороны носителей ролей.
Однако, мы наконец подходим к самому важному аспекту рассматриваемых ограничений: (в) к появлению того типа структурных условий, который служит пределом для реализации ролей и уверенности в них. Здесь лучше всего будет обратиться к знаменитому рассмотрению Робертом Мертоном референтных групп и к его анализу механизмов выявления ролей в рамках системы ролей. Я утверждаю, что именно в этих механизмах можем мы найти соответствующие структурные переменные, порождающие тот тип «ограничений», о которых я веду речь. В числе таких механизмов — различная степень вовлеченности носителей данной системы ролей в ролевое поведение, различия участников данной системы ролей с точки зрения их властных характеристик, а также возможность сделать определенные виды или аспекты ролевой деятельности недоступными для наблюдения со стороны различных участников системы ролей.58
Во всех этих случаях разнообразные структурно заданные ожидания различных участников системы ролей и\или способность выдавать один из них за другие приводит к тому явлению, которое было бы правильней всего назвать структурно определенным ограничением способности испытывать уверенность в нормативном осуществлении ролевых ожиданий и способности полагаться на это нормативное осуществление. Из данных (также структурно определенных) переменных величин важнейшими являются различия в степени наделенности властью среди членов данной статусной системы; последние, выдвигая разнообразные противоречащие друг другу требования, создают ситуацию, при которой распределение ролей делает определенные типы поведения более или менее явленными для различных членов статусной системы. Каждый из названных случаев демонстрирует, что любая система налагает структурные ограничения на нормативно предписанный тип ролевого поведения, независимо от конкретного содержания самих этих ролей. Кроме того, данные ограничения должны существовать в рамках любой системы,
• Доверие, сегментация... 27
каким бы уровнем дифференциации она ни обладала. Конечно, существует немало трудов в области антропологии, посвященных ролям и межролевым конфликтам в первобытных обществах.59 Достаточно вспомнить трагедию Антигоны и Ореста (да и само определение трагедии в древнегреческом обществе) для того чтобы убедиться в том, что и в подобных обществах существовали ролевые конфликты и конфликты требований, исходящих от носителей различных ролей. Уровень социальной дифференциации и диверсификации сам по себе должен влиять на то, насколько распространенными и чистыми являются подобные ролевые конфликты, а следовательно он должен влиять и на возможность появления доверия (к этому вопросу мы еще иернемся).
Параллельно с рассмотрением (по большей части структурным) тех ограничений, в рамках которых существует системная уверенность, следует проанализировать еще один вопрос: каким образом возникает вероятность того, что самые непреднамеренные последствия удовлетворения и исполнения роле-ных ожиданий обусловливают такие типы поведения", которые уже не являются частью существующих ролевых ожиданий (или не санкционируются ими — термин «санкция» употребляется здесь в традиционном смысле и лишен современных негативных ассоциаций). Для прояснения этого вопроса мы должны представить себе ряд ролевых отношений изъятыми из контекста нашей по-нседневной жизни. Вообразим себе, например, ролевые отношения родителя и ребенка, доктора и пациента, преподавателя и студента. В каждом из случаев надлежащее (или успешное) выполнение ролевых ожиданий означает трансформацию (а в некоторых случаях — конец) личных взаимоотношений. И хотя здесь вполне допустима и возможность зарождения нового соотношения ролей между доктором и пациентом (они могут стать друзьями или любовниками) или между учителем и учеником (они станут коллегами), а роли родителя и ребенка все время наполняются новым содержанием — между примордиальными и последующими ролевыми отношениями существует определенный временной (пространственный) промежуток (он и вмещает в себя процесс взросления ребенка), во время которого ожидания пересматриваются, так как прошлые ожидания уже не имеют силы, а новые еще не институционализированы.60 Для того чтобы данный пересмотр был успешным, необходимо, чтобы продолжение интеракции обеспечивалось появлением определенных элементов доверия (в отношении того, что неизвестно, того, что еще будет).
Помимо этих перспектив, относящихся скорее к микроуровню, к уровню интеракции, существует еще и макроуровень — сравнительное исследование различных типов социальной организации, на которых подобные «ограничения» возникают с большей, либо меньшей частотой. Ибо, как отмечалось выше, различные типы системы — существование на различных уровнях дифференциации — должны с различной частотой порождать рассмотренный выше
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
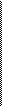 тип «мертоновских»* переменных. Чем в большем числе ролевых систем участвует человек, тем больше существует возможностей для возникновения между членами разных статусных групп структурно заданных диссонансов и конфликтов.
тип «мертоновских»* переменных. Чем в большем числе ролевых систем участвует человек, тем больше существует возможностей для возникновения между членами разных статусных групп структурно заданных диссонансов и конфликтов.
Доверие, дружба и особенности современного становления ролей
Поскольку нас интересуют современные проблемы формирования структур генерализованного доверия в демократических обществах Запада (и порожденная этими проблемами дискуссия вокруг гражданского общества), именно на очерченном круге проблем сосредоточим мы свое внимание. Анализ значения, приписываемого понятию доверия в современных обществах, изучение его специфики как с точки зрения раннесовременных (читай: классических современных или классических либеральных) социальных форм организации мог бы, следовательно, послужить подходящим способом выявления возможных применений выше сформулированных нами определений доверия и позволил бы нам концептуализировать ту проблему, которую все чаще преподносят в качестве главной проблемы современности.
Приступая к подобному исследованию, мы должны спросить себя, действительно ли досовременная и современная социальные формации различаются между собой с точки зрения природы социального доверия, присущего каждой из них. В конце концов, если доверие — это то, что существует на границе системы, то, как мы знаем, границы есть у всех систем, а значит все системы обладают потенциалом для формирования доверия в той или иной форме. Если бы мы удовольствовались подобным умозаключением, задачу нашу можно было бы считать более или менее решенной. В этом случае мы засели бы за детальную разработку вопроса об упомянутых структурно обусловленных пределах применительно к различным социальным контекстам, нацеливающим наше исследование на изучение топологии присущих различным системам различных типов ограничений и порождаемых этими системами различных форм доверия (сравнив, например, университетских профессоров с ирландскими священниками). Вместе с тем, сохраняется сознание того, что доверие или, по крайней мере, его восприятие есть нечто сугубо современное. Данное понятие было впервые сформулировано в раннесовременной политической теории как сторонниками современного естественного права (Гроцием, Пуфендорфом, Локком), так и его противниками (Юмом, Смитом). В качестве термина доверие впервые возникает, например, во французском языке в XVI веке — как различение между confiance и confidence. В противовес этому, ряд обществ, поздно вступивших в современную эпоху, все еще
* Т.е. предложенных Р. Мертоном. — Прим. перев.
• ' "■■->' -ч Доверие, сегментация... 29
сохраняют в языковых обозначениях доверия связь с верой (таково, например, слово emunah в иврите).
Что еще важнее, сама манера выражения, которой пользуются шотландские моралисты XVIII века (Шефтсбери, Миллар, Фергюсон, Блэр и даже Смит), суть та же манера, в которой изложена теория гражданского общества, столь чисто цитируемая в современных дискуссиях; используемый шотландскими моралистами язык есть язык доверия, стремления к установлению в обществе новых связей и отношений, стремления к образованию такой ассоциации, кото-рия положила бы в свою основу идею доверия как одного из условий цивилизованного общества. Данные мыслители определяли доверие как «естественную симпатию», «естественную благожелательность» — понятия почти что «прото-исихологического» толка, они находились у самых истоков социальности (фактически, гражданского общества) и обусловливали возможность социальной жизни как таковой. Объединенные этими «моральными чувствами», шотландские мыслители XVIII века ставили само существование общества в зависимость от понятия, весьма близкого нашему определению доверия (хотя в изданном в XVIII веке словаре Сэмюэля Джонсона и не существует четкого разграничения между доверием и уверенностью, фактически рассматриваемых автором словаря в качестве синонимов).61 Как напоминает нам Адам Фергюсон:
«Все, что исходит от соплеменника, воспринимается нами с особым вниманием; в любом языке мы найдем сколько угодно выражений, содержащих оценку человеческих взаимодействий отнюдь не с точки
i'r v зрения успеха или неуспеха. Душа согревается от общения с себе подобными, даже если в плане осуществления конкретных интересов это общение ровным счетом ничего не несет; любой пустяк способен
>: возыметь большое значение, если через него высвечиваются намерения и характеры людей... Различные блага утрачивают свою ценность в
• сравнении с возникающими меж людьми добрыми чувствами; значение же слова несчастье тускнеет перед такими словами, как оскорбление или обида».62
То, что оскорбление и обида рассматриваются здесь как нечто несовместимое с корыстью, показывает, что в данном контексте подразумевается такая модель общества, ассоциации людей, в основе которой лежит доверие (к тому, что именуется здесь «намерениями и характерами людей»).
В связи с этой оценкой (или, если угодно, поиском) новых моделей ассоциации следует отметить появление в указанный период дружбы как особой современной формы социальных отношений. Центральную роль дружбы в социальной философии шотландского просвещения (а также то, что само распространение в капиталистическом обще ствеХVIII века рыночных отношений породило, как ни странно, сферу социальной интеракции, существую-
 30 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
30 Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.
щую отдельно и независимо от корыстных расчетов и рыночных законов) более, пожалуй, чем кто бы то ни было, подчеркивает в своих работах Алан Сильвер. Так, он отмечает, что хотя «способность идеалов дружбы выражать некоторые из «благороднейших» потенций, заложенных в человеческой ассоциации, не является чем-то, присущим только современному обществу,... наше время отличает то, что характерная для него идея дружбы столь явно противоположна доминирующим в обществе в целом формам ассоциации.»63 Дружба, поясняет далее Сильвер, появилась в раннесовременную эпоху как сфера интеракции, чуждая мотивам личной корысти и рационального расчета. В частности, она появилась как противоположность и открытое отрицание тех типов поведения, что отождествляются с аристократическим придворным обществом, в котором для достижения успеха необходимо было рассчитывать каждое слово и каждый жест (заметим, что таким образом достигалось соответствие наиболее строгим критериям ролевого поведения). В приводимой ниже цитате Норберт Элиас, пожалуй, с предельной наглядностью дает нам представление о том типе поведения, который в философии шотландских моралистов был заменен идеями доверия и общности:
«Двор представляет собой разновидность биржи; как в любом
благовоспитанном обществе, в нем постоянно формируется мнение о
«ценности» каждого из индивидов. Но здесь действительным основанием
для определения ценности индивида является не только его богатство и
даже не только достижения, отражающие способности индивида, но и
благосклонность короля, вес, которым он обладает среди других власть
имущих, а также характер участия его в придворных кликах. Все это:
> благосклонность, влияние, вес — вся эта сложная и опасная игра, в
1 которой запрещено применение физической силы и открытые вспышки
■ ■!■: эмоций, игра, владеть которой — требует от каждого из ее участников,
если тот желает выжить; постоянного предвидения будущего развития событий, точной оценки окружающих (равно как и оценки себя самого, своей ценности по шкале мнений двора); все это означает настоятельное требование приспособления собственного поведения к данной оценке. Каждая ошибка, каждый бездумный поступок снижает ценность
■ совершившего их человека в глазах двора; а это грозит ему полной
утратой того положения, которое он занимает при дворе.»64 ;
В отличие от подобного типа поведения, новое представление о дружбе понималось как нечто способное озарить все бытие человека новым этическим смыслом. Как замечает Адам Фергюсон:
«Предрасположение к дружелюбию светится удовлетворением в часы покоя, оно привлекательно не только в триумфе, но и в скорби. Оно
Доверие, сегментация... 31
создает вокруг себя атмосферу милосердия и, отражаясь на внешности человека, скрашивает его некрасивость, придавая этой внешности такое обаяние, с которым не может сравниться никакая свежесть или правильность черт. Из этого источника и черпает человеческая жизнь главное свое счастье, повторенное поэзией — главным ее украшением. Ни описания природы, ни даже образцы энергичного и мужественного поведения на способны взволновать сердце, если к ним не примешиваются изъявления благородных чувств и пафос, характеризующий боренье, взлеты и падения, свойственные проявлениям истинного чувства».65
Аналогичного рода замечание, имеющее, пожалуй, еще большее значение, сиедует сделать на тот счет, что подобная оценка дружбы разделялась даже i икими «столпами» развиваемого в то время понимания человеческой природы (исходящего из теории максимизации пользы), как Адам Смит и Давид Юм. Медь как подчеркивает Сильвер, в социологии Смита «естественная симпатия» шрала роль нравственной основы организации общества. Как поясняет Сильвер:
«Основу коммерческого общества Смит усматривает в ассоциациях
частных лиц, собирающихся в общественных местах и не определяемых
никакими институциональными ограничениями. Возникающий
вследствие сложного функционирования механизмов взаимодействия
и рефлексии контроль за поведением друг друга является одновременно
и источником морального поведения и его прототипом. Симпатия
придает умеренность идеям и манерам и обусловливает развитие в
высшей степени демократического чувства братства. Разрушаются все
т. носящие исключительный характер связи, обусловленные обычаями,
/.;•■ корпоративизмом, сословно-классовой принадлежностью. Симпатия
• обеспечивает все общество чем-то вроде социальной «смазки» и дает
ключ к установлению деинституционализированного морального
порядка, свободного от авторитарных подпорок, коими служили
! религиозные, экономические или политические институты».66
Данное акцентирование идеи дружбы в работах философов-моралистов XVIII века, несомненно, привносит важные смысловые коррективы в наши представления о возникновении частной сферы и о столь существенном для современности различении между частной и публичной сферами (ведь на синтезе того и другого зиждется так много выносимых ныне нормативных суждений относительно ценности гражданского общества). Как таковая тема важности дружбы вновь появится в нашем исследовании при рассмотрении проблемы публичного и частного в современную эпоху (забегая вперед,
Адам Б. Селигмен. Проблема доверия.


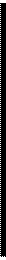 скажем, что она будет связана с анализом соотношения между нашим пониманием доверия и находящейся в процессе становления идеей частной сферы как чего-то существующего за пределом системных определений ролей). Здесь же мы упоминаем об этой теме по иной причине: дабы вновь подчеркнуть растущее осознание того, что доверие (которое, как мы сказали выступало в виде дружбы) является самостоятельной формой социальных отношений в современную эпоху. Напрашивается предположение, что столь разные мыслители, как Фергюсон и Юм, Шефтсбери и Смит, в равной мере отреагировали на изменение характера социальных отношений, сказавшееся на их собственной жизни, и в то же время постарались представить в качестве определяющего для нового социального устройства лишь один из аспектов этого изменения — тот, что существовал независимо от формальных, установленных правил «договоров, рыночного обмена,... разделения труда и обезличенных институтов».67
скажем, что она будет связана с анализом соотношения между нашим пониманием доверия и находящейся в процессе становления идеей частной сферы как чего-то существующего за пределом системных определений ролей). Здесь же мы упоминаем об этой теме по иной причине: дабы вновь подчеркнуть растущее осознание того, что доверие (которое, как мы сказали выступало в виде дружбы) является самостоятельной формой социальных отношений в современную эпоху. Напрашивается предположение, что столь разные мыслители, как Фергюсон и Юм, Шефтсбери и Смит, в равной мере отреагировали на изменение характера социальных отношений, сказавшееся на их собственной жизни, и в то же время постарались представить в качестве определяющего для нового социального устройства лишь один из аспектов этого изменения — тот, что существовал независимо от формальных, установленных правил «договоров, рыночного обмена,... разделения труда и обезличенных институтов».67
 2015-05-15
2015-05-15 284
284








