Развитие теории и практики маркетинга неразрывно связано с возрастанием значения коммуникативного фактора. Это связано, прежде всего, с процессом перехода от индустриального общества к обществу главенства коммуникаций. Среди ключевых характеристик этого процесса можно назвать, в частности, такие как: возрастание роли инновационных факторов в управлении предприятием, активное участие потребителей в формировании рынков, увеличение взаимозависимости рыночных субъектов и появление философии «сетевого» взаимодействия, результатом чего является создание всевозможных альянсов, ассоциаций, торговых и промышленных сетей, возрастанием роли информационного фактора во всех сферах жизнедеятельности человека.
С этих позиций можно сказать, что роль коммуникаций заключается в том, что они представляют собой необходимые и фундаментальные условия, поддерживающие существование и развитие современных экономических систем. Более того, сегодня на коммуникации уже нельзя смотреть даже как на важнейшую, но лишь обеспечивающую основной бизнес компоненту производственной системы, сегодня вполне правомерно и необходимо рассматривать их также в качестве основного и даже объективно ведущего фактора современной экономики.
|
|
|
В этой связи необходимо выделить две ключевые предпосылки, которые, в конечном счете, и определяют их значимость. Первая из них связана с неуклонно возрастающей ролью коммуникаций в современной активно глобализирующейся экономике. И дело здесь не только в гигантском технологическом прорыве в области создания, производства и всеохватного распространения систем и средств связи, но и в возрастании значимости и масштабов коммуникаций между людьми, являющимися главными элементами любой экономической системы.
Коммуникации являются сегодня и главным источником нового постиндустриального экономического развития, и главной проблемой, особенно остро ощущаемой специалистами в области маркетинга и управления, так как можно сказать, что насколько эффективны коммуникации, настолько эффективными являются и маркетинг, и управление, а в более широком плане и сама экономика в целом. Такое положение вещей достаточно красноречиво характеризуют данные опроса[47], в соответствии с которым 73% американских, 63% английских и 85% японских руководителей именно коммуникации считают главным препятствием на пути достижения эффективности их организациями, а это означает, что любое продвижение в направлении раскрытия потенциала коммуникаций создает дополнительный ресурс, обеспечивающий предприятию возможность экономического развития. Согласно еще одному опросу, результаты которого приведены в том же источнике, примерно 250 тысяч работников 2000 тысяч самых разных компаний считают, что обмен информацией представляет одну из самых сложных проблем в организациях и что неэффективные коммуникации – один из главных источников возникновения проблем. Там же отмечается, что в среднем руководитель предприятия или организации от 50 до 90% всего рабочего времени тратит на коммуникации.
|
|
|
Вторая предпосылка связана с возрастанием значения субъектного начала в современной экономической деятельности, причем здесь можно выделить два аспекта субъектности.
С одной стороны, субъектность, рассматривается как качественный атрибут, являющийся естественным проявлением сущностных свойств субъекта, где субъект экономической системы – это физическое или юридическое лицо, предприятие, фирма организация, различные типы и формы их объединений, выступающие в качестве главных агентов современного рынка. С другой стороны, фактор субъектности выражаетсяв возможности предприятий, организаций, физических лиц проявлять независимое экономическое поведение. Такая возможность в настоящее время усиливается широко доступной и уникальной в плане эффективности техно-технологической и информационной инфраструктурой.
В этой связи важно на этапе аналитического рассмотрения проблемы коммуникаций с точки зрения системно-процессного подхода разделить коммуникации на основные типа в зависимости от субъект-объектного и ролевого статуса системных элементов в цепочке взаимодействия: источник – канал передачи – приемник.
Выделяются следующие классические типы коммуникационных взаимодействий:
1) Субъект-субъектные коммуникации, примером которых может являться, например, общение людей на межличностном уровне вне зависимости от того, происходит ли оно посредством использования технических средств или имеет место «живое» общение;
2) Объект-объектные коммуникации – это коммуникации на уровне взаимодействия между техническими системами, устройствами и комплексами, работающими в автономном режиме под управлением некоторой программной операционно-администрирующей системы;
3) Субъект-объектные коммуникации, протекающие в условиях доминантной роли субъекта по отношению ко второму элементу системы информационного взаимодействия, в качестве которого выступает объект, наделенный системой восприятия и обработки информации и способностью к реагированию на сигналы, идущие от субъекта коммуникации. Типичным примером такого взаимодействия является взаимодействие человека и компьютера, используемого человеком в качестве своего рабочего инструмента;
4) Объект-субъектные коммуникации, напротив, предполагают ситуативно обусловленную доминантность объекта по отношению к субъекту; здесь в качестве примера можно привести ситуацию отработки человеком некоторых профессиональных навыков с помощью программ-тренажеров; в этом случае человек, субъектный статус которого, казалось бы, не подлежит сомнению, может выступать, тем не менее, во временной роли объекта, пассивно реагирующего на инициативы программной системы, которая по своему реальному субъект-объектному статусу, безусловно, относится к классу объектов, хотя и может условно восприниматься как субъект – инициатор коммуникации в системе взаимодействия человек – компьютер.
Приведенная выше классификация используется для выделения ситуационно-ролевых типов коммуникации, а с точки зрения статусной классификации достаточно оставить в общем классификационном списке лишь три базовых типа: субъект-субъектные, субъект-объектные и объект-объектные коммуникации.
|
|
|
С учетом ситуативно обусловленной ролевой разграниченности участниковкоммуникативного действия, а также с учетом возрастающей роли в современном управлении и маркетинге высокоинтеллектуализированных программных управляющих и экспертных систем, принимаются во внимание и контекстно учитываются все приведенные выше классификационные схемы.
В таком контексте межсубъектные маркетинговые коммуникации, характеризующие все существующие и вновь возникающие связи и отношения между субъектами рынка в процессе их деятельности, определяются, как совокупность процессов взаимодействия субъектов маркетинговой системы, которые проявляются во взаимоотношениях сторон через обмен товарами, услугами, информацией, знаниями, через оценку сторонами друг друга с учетом когнитивных карт индивидуального восприятия и возможностей взаимовлияния.
Межсубъектные коммуникации могут включать в себя производственные, технологические, информационные связи, деловые и личные контакты между персоналом как внутри фирмы, являющейся субъектом маркетинговой системы, так и между фирмами - субъектами маркетинговой системы в рамках всей рыночной сети. Фирмы, входящие в рыночные сети, также рассматриваются как субъекты коммуникаций как в силу субъектного статуса самих фирм и предприятий (в экономическом понимании этого термина), так и в силу того, что коммуникации в них осуществляют конкретные сотрудники – личности, являющиеся носителями индивидуальной субъектности, которым делегирована эта функция.
При этом категория «субъект» представляется непосредственно связанной с идеей активного, действующего, инициирующего начала, а фактор субъектности может, таким образом, служить прочной системной основой самой концепции межсубъектных коммуникаций. Субъект, таким образом, это, прежде всего носитель фактора субъектности. При таком расширенном понимании субъекта и субъектности, когда она может проявляться в рассмотренных выше статусных и ролевых формах, субъектом системы маркетинговых взаимодействий является и само предприятие, и отдельные его структуры и подразделения, и отдельные личности, являющиеся субъектно значимыми элементами в системе маркетинга, и отдельные подсистемы, структурной основой которых являются человеко-машинные комплексы (например, человек, принимающий решения в рамках интерактивного взаимодействия с советующей экспертной системой), и, в отдельных случаях, интеллектуализированные программные комплексы, способные автономно реагировать и принимать маркетинговые решения (как это имеет место, например, на современных фондовых рынках и рынках ценных бумаг), и даже такие сугубо нематериальные образования как, например, бренд компании, поскольку он может непосредственно вступать в коммуникативные отношения с другими субъектами рынка. Подобное понимание проблемы межсубъектности позволяет комплексно и эффективно использовать в маркетинговой теории и практике богатейший инструментарий, наработанный в рамках системного подхода, что, в свою очередь, открывает широкие возможности для более глубокого раскрытия потенциала современных маркетинговых коммуникаций.
|
|
|
Для более глубокого осмысления современной проблематики рыночно ориентированных межсубъектных коммуникаций представляется целесообразным особо выделить помимо субъектной специфики также и специфику сетевую, понимание ключевой роли которой во многом обеспечивает как адекватность современной маркетинговой философии, так и эффективность локальных и глобальных рыночных операций.
Сеть сегодня рассматривается не только как важнейшая инфраструктурная составляющая современной экономики, но и как в значительной степени самодовлеющий принцип, лежащий в основе самоорганизации и самовоспроизводства современных экономических и социальных корпоративных систем.
Сети рыночного типа управляют коммуникациями и экономикой в пределах компаний и проникают сквозь их границы. Сети становятся основой теории и практики организации в новой экономике, создавая новые уровни связей между фирмами, производителями, потребителями и поставщиками, а также между сотрудниками внутри фирмы и людьми, работающими в разных организациях.
Оценивая в целом системные возможности сетевых структур с точки зрения реальной маркетинговой практики, следует отметить, что современным российским маркетингом сетевой потенциал и связанные с ним широкие перспективы для предприятий, работающих в самых различных сферах деятельности, еще не достаточно раскрыты. Даже активно развивающиеся сегодня в России сети торговых предприятий используют сетевые возможности в основном для оптимизации логистических операций и расширения сферы территориального влияния и гораздо реже в целях развития управленческой и ресурсной динамики, которая могла бы обеспечить быструю перестройку бизнеса с учетом активно меняющейся рыночной конъюнктуры.
Говоря о применении маркетинговых принципов в использовании и развитии сетей межсубъектных взаимодействий, следует, прежде всего, отметить, что именно сеть и сетевой подход потенциально способны обеспечить максимальную степень адаптированности фирмы к своему потребителю как с помощью «традиционных», так и инновационных технологий.
Потребитель, эффективно интегрированный в сетевую структуру производящей компании за счет резко возрастающей интенсивности интерактивных межсубъектных взаимодействий, становится в таком случае необходимой частью производственного процесса, замыкая маркетинговый цикл и перестает быть анонимным «объектом продаж», являясь для фирмы поставщиком заказов и информации, приобретает подлинную субъектность в системе, где он до сих пор был хотя и «священным» для маркетинга, но все же по большей части пассивным элементом.
В данной схеме может даже произойти своеобразная ролевая инверсия, когда не фирма выступает производителем товаров и услуг, а потребитель выступает в роли производителя заказов для фирмы.
В результате перехода на такую модель взаимодействий возникает эффект автовоспроизводящей силы и порождаемый ею самоподдерживающийся процесс: потребитель в такой же степени заинтересован в продукции, поставляемой на рынок производителем, в какой сам производитель заинтересован в «производстве заказов», источником которых является потребитель. Сама маркетинговая философия компании должна при этом пройти радикальную трансформацию: отныне приобретение заказов, а не продажа становится ведущим маркетинговым императивом.
Такая организация компонентов сетевой маркетинговой среды является уже не просто новой оптимизированной формой выстраивания стандартных бизнес-процессов и маркетинговых взаимодействий на принципе рыночной автокоординации, она создает новое качество, которое условно можно назвать системной суперсубъектностью, и которое фактически выводит выстроенную таким образом сеть маркетинговых взаимодействий на уровень сложности биологических систем, то есть систем, способных как бы «по своему усмотрению» адаптивно менять не только характер экономического процесса, но и самостоятельно создавать и поддерживать собственную «энергетику».
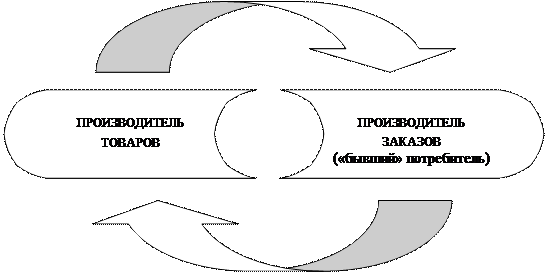 |
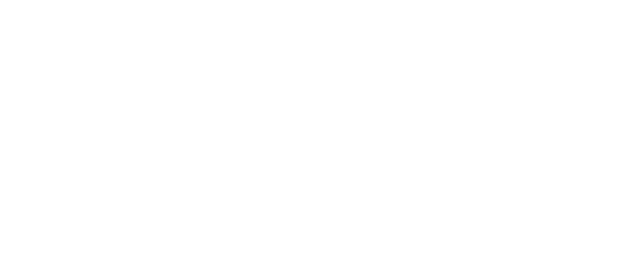
Рисунок 1 –Интерсубъектная модель рыночных взаимодействий между
производителем и потребителем, частично устраняющая асимметрию отношений
Учитывая изложенные выше концептуальные положения и системный контекст, в рамках которого проявляются маркетинговые взаимодействия, к коммуникациям целесообразно подходить как к системной «конструкции», органически и тотально «вплетенной» в процесс экономической деятельности любого предприятия, любой фирмы, любой организации, любого экономического субъекта до отдельного человека включительно. При этом данная «конструкция» очевидным образом включает в себя как материальные элементы (источник, приемник, канал или среда передачи), так и идеальные понятия (отношения, взаимодействия, переносимая информация). Кроме того, в силу чрезвычайно сложной и диалектической по характеру природы этого явления подходить к его изучению необходимо не только с точки зрения исследования его структуры, но и с точки зрения его процессной динамики.
Наиболее общее представление о коммуникации дает ее классическая системно-кибернетическая модель, которая рассматривает коммуникацию в виде внешне очень простой структурной комбинации трех элементов (источник, приемник, канал или среда передачи). Однако даже в случае самых простых мысленных экспериментов, целью которых является проведение «опытной эксплуатации» этой простейшей конструкции, все оказывается уже далеко не так просто.
Так, например, если по радиоканалу прозвучало сообщение, предупреждающее об опасности, то слушатель, понимающий язык, на котором прозвучало сообщение и знающий, какие действия необходимо при этом предпринять, отреагирует на это соответствующим разумным образом, в то время как человек, не способный понять смысл сообщения не незнакомом или плохо знакомом ему языке, скорее всего, никак не отреагирует на это сообщение. В том и другом случае коммуникативная ситуация налицо – источник, несущий сообщение – канал передачи – приемник, однако относительно первого случая мы уверенно говорим, что имела место коммуникация, относительно же второго случая, скорее всего, сделаем вывод, что коммуникация не состоялась, хотя для внешнего наблюдателя обе коммуникативные ситуации структурно идентичны, так как в обоих случаях имела место передача по одному и тому же каналу в одно и то же время одной и той же информации, выраженной в одной и той же звуковой форме для двух индивидов, обладающих практически одинаковыми (с системно-кибернетической точки зрения) системами восприятия. Для разрешения этого «парадокса» необходимо хотя бы в общих чертах рассмотреть, как осуществляется полный цикл единичного коммуникативного акта (информационного взаимодействия). В отечественной научной литературе достаточно четкое, хотя и краткое алгоритмическое описание этого цикла можно найти, в частности, в исследовании Р.И. Полонникова[48]. Вместе с тем современная роль коммуникаций в деятельности фирмы требует существенно расширенную, уточненную и дополненную интерпретация этого алгоритма[49].
На первом шаге у инициатора послания происходит рождение замысла сообщения, включающего в себя образ будущих возможных действий получателя этого послания, ожидаемых инициатором (отправителем) в качестве разумной реакции получателя в рамках определенного согласованного контекста. Рождение подобного замысла, наделенного смыслом, есть, по выражению Полонникова, «акт творения, происходящий в психической среде»[50]. Собственно зарождение мысли происходит посредством взаимодействия с так называемым семантическим континуумом, который, по мнению Полонникова и многих других исследователей в области теории информации и психологии, представляет собой пространство как бы заранее отчасти предустановленных смыслов, имеющих невербальный и доязыковой характер и представленных в виде образно чувственных структур, являющихся отражениями действительности и хранящихся в сознании или подсознании человека.
На втором шаге выбранный семантический инвариант (неязыковая когнитивная структура) преобразуется посредством обращения к какому-либо языку в достаточно четко выраженную семантическую структуру, уже имеющую внутреннюю языковую форму. Это мысленное формулирование смысла мы предлагаем назвать речевым препроцессингом, так как само по себе это выражение смысла, хотя оно уже имеет вербальную природу, все же еще не является внешним словесным выражением выбранного образа – носителя смысла, а лишь его внутренней моделью.
Третий шаг – это уже собственно речевой процессинг, то есть вербальная передача смысла на выбранном языке. (В кибернетике и других технических дисциплинах этот этап часто называют кодированием). С технической точки зрения речевой процессинг представляет собой генерацию последовательности синтагм, совокупности которых образуют определенные синтаксические конструкции – отдельные предложения или их совокупности, каждая из которых передает определенную смысловую целостность и которые выстраиваются по определенным правилам, свойственным данному языку. В случае передачи смысла посредством письменной речи используется иной (кинематический по своей природе) инструмент выражения, и имеет место генерация текста, представляющего собой последовательность слов, также выстраиваемых по правилам выбранного языка в синтаксически правильную конструкцию – предложение. Существенным отличием этих двух типов речевого процессинга (кодирования) является то, что в случае звучащей речи выстраиваемая синтаксическая конструкция представляет собой структуру, развертывающуюся во времени, а в случае письменной передачи – пространственную структуру. С точки зрения специфики этого этапа коммуникативного акта важно отметить, что именно на этом шаге происходит трансформация идеального (смысла) в сугубо материальную структуру, представленную в виде звуковых колебаний или текста в случае, если информация передается посредством письменной речи.
На четвертом шаге имеет место генерация последовательности сигналов, которая образует структуру, являющуюся физическим носителем их синтагматического (лингво-синтактического прообраза), и, в случае передачи этой последовательности посредством технического устройства – модуляция генерируемого сигнального ряда (амплитудная, частотная, фазовая, импульсная, широтная или комбинированная – в зависимости от типа или технических характеристик передающего устройства).
Пятый шаг – это прохождение генерированных и модулированных сигналов через канал или среду передачи и формирование на выходном канальном устройстве физической пространственно-временной структуры, практически идентичной (в случае отсутствия значительных искажений) структуре сигнального ряда на входе в канал.
На шестом шаге происходит обратное (симметричное по отношению к четвертому шагу данного алгоритма) преобразование модулированного сигнального ряда в физическую структуру, способную быть воспринятой соответствующим сенсорным анализатором приемника (слуховым в случае восприятия звучащей речи и зрительным при восприятии текста или изображения). Результатом такого обратного преобразования является первичная рецепция демодулированного сигнального ряда соответствующим сенсорным анализатором приемника (реципиента).
На седьмом шаге (который является зеркально симметричным по отношению к третьему шагу настоящего алгоритма) осуществляется процедура обратной сборки синтаксической конструкции, производимой по правилам используемого языка; эту процедуру можно назвать также обратным речевым процессингом или декодированием, результатом которого является восстановление исходной синтагматической[51] или синтаксической структуры на уровне внутреннего восприятия приемника. Это означает, что на данном этапе имеет место восприятие реципиентом знаковых сочетаний с точки зрения их соответствия принципам и правилам образования символических конструкций, свойственных языку, на котором осуществляется коммуникация. Этот процесс можно назвать также прослушиванием сообщения или чтением в случае, если имеет место передача текстового сообщения. Следует отметить, что само по себе прослушивание или чтение не обязательно связано с восприятием смысла сообщения: так, например, человек может слушать текст на иностранном языке и по синтагматическим, интонационно-фонетическим, тонально-мелодическим и иным особенностям может довольно точно идентифицировать используемый язык, хотя при этом не понимать смысла услышанного. Еще более типична ситуация чтения текста без понимания смысла написанного, что характерно, например, при прочитывании неспециалистом сложных, ориентированных на сугубо профессиональную аудиторию текстов или при чтении текстов на недостаточно знакомом иностранном языке.
Восьмой шаг – (являющийся симметричным по отношению ко второму шагу настоящего алгоритма) это интерпретация сообщения, постижение его смысла, это индуцированное речью или текстом переживание реципиентом семантического инварианта, соответствующего полученному сообщению. Последнее означает, что имеет место восстановление более или менее подобной смысловой структуры, изначально присутствовавшей лишь в сознании отправителя, также и в сознании получателя сообщения. Интересно отметить, что здесь происходит процесс обратной трансформации: материальная структура (звучащая речь или текст) вновь превращается в структуру нематериальную – смысл.
Наконец, девятый шаг связан с формированием реакции на принятое сообщение или выбором получателем одного из возможных образов действий, соответствующих контексту ситуации.
Анализируя отдельные шаги описанного выше процесса передачи информационного сообщения, представляется целесообразным выделить четыре уровня коммуникации, полное прохождение которых обоими участниками общения (но в зеркально-симметричной, то есть противоположно направленной последовательности) обеспечивает ситуацию, которую обычно определяют как состоявшаяся коммуникация. Графическая интерпретация уровневой разграниченности отдельных шагов описанного выше алгоритма единичного коммуникативного акта дана на рисунке 2.
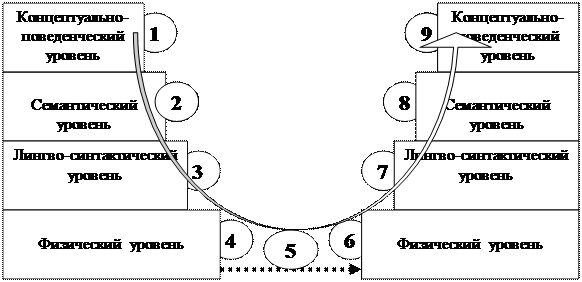
Рисунок 2 – Уровневая разграниченность последовательности шагов единичного коммуникативного акта (цифрами обозначена последовательность шагов алгоритма информационного обмена)
Концептуально-поведенческий уровень обеспечивает достижение конечной цели коммуникации, то есть реализацию замысла, концепции, первоначально содержащихся лишь в сознании отправителя сообщения, относительно адресата. Критерием достижения этой цели (или целей) с точки зрения отправителя сообщения является полученная отправителем по каналу обратной связи (на рисунке эта связь не показана) и соответствующая в большей или меньшей степени ожиданиям отправителя поведенческая (деятельностная) или ментально-эмоциональная реакция со стороны реципиента на принятое сообщение. Если в результате коммуникации со стороны реципиента и не последовало сразу никаких действий, кроме выраженной в какой-либо форме ментально-эмоциональной реакции, то все же можно считать, что восприятие возможного образа действий получателем (концептуальная реакция) является лишь отсроченной формой деятельностной (поведенческой) реакции.
На семантическом уровне отправителем сообщения осуществляется выбор из семантического континуума определенной смысловой структуры, соответствующей возможному ожидаемому от получателя образу действий или характеру реагирования. Для получателя сообщения на этом уровне происходит восстановление смысловой структуры, содержащейся в концепции послания. Здесь важно отметить следующее обстоятельство. Так как оба симметричных процесса (в сознании отправителя и в сознании получателя) происходят во внутренней психической сфере участников коммуникации, то обратная связь между коммуникантами на этом уровне может быть проявлена лишь на поведенческом уровне, а не непосредственно.
На лингво-синтактическом уровне имеет место кодирование сообщения его отправителем на выбранном им языке; для получателя сообщения на этом уровне имеет место симметричный процесс декодирования. Что касается действия обратной связи на этом уровне, то здесь возможны ситуации информационного обмена между участниками коммуникации синтаксически правильными с точки зрения языка конструкциями, либо не являющимися носителями смысла (со стороны отправителя сообщения), либо конструкциями, смысловая структура которых по тем или иным причинам не может быть восстановлена реципиентом, либо имеет место и то и другое. Последнюю ситуацию можно считать некой разновидностью синтаксической игры, которую можно иногда наблюдать у детей, когда они пытаются имитировать непонятные им разговоры взрослых или разговор на услышанном ими, но непонятном им иностранном языке.
Наконец, на физическом уровне (шаги 4, 5, 6 алгоритма) осуществляется генерация сигнального ряда, его модуляция, прохождение через канал или среду передачи данных, демодуляция и первичная рецепция одним или несколькими сенсорными анализаторами приемника.
Описанная выше процессная схема единичного и однонаправленного акта может быть естественным образом расширена и распространена также и на случай двустороннего и многократно воспроизводимого коммуникативного цикла.
Учитывая чрезвычайно сложную природу процесса коммуникации, значительно упрощенное и схематизированное описание которого приведено выше, целесообразно определить для каждого выделенного уровня хотя бы минимально необходимые условия, которые должны обеспечить нормальное прохождение процесса, результатом которого является ситуация состоявшейся коммуникации. В таблице 1 в краткой форме приведены условия осуществимости коммуникативного процесса по четырем выделенным выше уровням. Очевидно, что коммуникация может считаться нормально завершенной или состоявшейся лишь при одновременном выполнении всех определенных в таблице условий.
Таблица 1 – Условия осуществимости коммуникации по отдельным уровням коммуникативного процесса
| Уровень коммуникации | Условия осуществимости |
| Физический уровень | Уровень сигналаисточника должен быть выше порога чувствительности приемника |
| Лингво-синтактический уровень | Приемник и передатчик должны быть совместимы по системе кодирования |
| Семантический уровень | Приемник и передатчик должны обладать совместимыми информационными базами |
| Концептуально-поведенческий уровень | Совместимость процессов образования внутренних когнитивных структур, являющихся информационно-ориентировочной основой поведения |
Серьезной общей для всех уровней коммуникации проблемой, препятствующей нормальному прохождению цикла информационного взаимодействия, является проблема помехозащищенности. В силу этого дополнительно к четырем обозначенным выше условиям, привязанным к определенному уровню, можно выделить еще одно универсальное условие осуществимости акта коммуникации – условие, в соответствии с которым на всех участках коммуникационной цепи должен быть обеспечен также определенный уровень помехоустойчивости, причем на каждом уровне коммуникации и сами помехи, и средства их идентификации, и средства борьбы с ними обладают весьма выраженной спецификой.
Прежде всего, говоря о помехах, представляется целесообразным разделить их на два типа в соответствии с тем, имеет ли конкретная помеха чисто внутреннюю природу или внутренний источник, коренящийся во внутри уровневых подструктурах коммуникационного комплекса: отправитель сообщения – канал передачи – получатель (такие помехи можно определить как эндогенные, то есть обусловленные внутренними причинами), или же источником помех является внешняя по отношению к коммуникационному комплексу среда, другие параллельно работающие коммуникационные источники, конкурирующие за право доступа к системе восприятия получателя информации, и, как следствие, за право «загрузки» его операционных ресурсов параллельными потоками сигналов, которые, в силу автоматической природы процесса декодирования, порождают параллельные синтактические структуры (экзогенные помехи).
На физическом уровне помехи чисто физической природы (электромагнитные наводки и излучения, атмосферные помехи, дефекты в системах генерации речи или текста, дефекты сенсорных анализаторов) и т.п. преодолеваются, как правило, на основе разумной комбинации технических и организационных решений. К числу первых можно отнести использование различного рода фильтров, усилителей, адаптеров, контроллеров, функционально специализированных чипов, детекторов, имплантантов и т.п. широчайшей номенклатуры устройств и систем. К числу вторых можно отнести применение принципов множественного обеспечения надежности приема-передачи, в частности, дублирование передаваемого сигнального ряда, использование параллельных и резервных каналов передачи и передающих сред, резервирование обеспечивающих коммуникацию функциональных устройств, резервирование операций и т.п. мероприятия.
Что касается экзогенных, то есть внешних помех, сознательно продуцируемых конкурирующими коммуникационными источниками, то в силу принципиальной рыночной открытости маркетинговых систем борьба с такими помехами может эффективно проводиться лишь на уровне конкуренции смыслов, образов и концепций. В этом состоит принципиальное отличие современных маркетинговых коммуникаций от систем коммуникаций других сфер деятельности: военной, политической, административной и т.п., где возможно использование закрытых для конкурентов каналов и экранированных систем приема-передачи.
На лингво-синтактическом уровне главным источником эндогенных помех является нарушение участниками коммуникации правил рече- и текстообразования. При этом главная опасность таких помех со стороны отправителя сообщения заключается в неадекватной передаче смысла; со стороны, приемника, соответственно, в неадекватном его восприятии. Очевидно, что подобная неадекватность может иметь весьма далеко идущие последствия, приводящие, в том числе, и к значительному экономическому ущербу. Однако и само по себе точное соблюдение правил языкового кодирования мыслей, использование ситуативно уместных стилей и форм речевого или текстового выражения смыслов является относительно самодостаточной ценностью и, перенося этот принцип в сферу практического управления и маркетинга, можно утверждать, что адекватный языковой стиль может стать серьезным конкурентным преимуществом в современной гиперкоммуникативной экономической среде. Кроме того, можно вполне согласиться со специалистами по нейролингвистике, которые на основе глубокого изучения природы языка и его роли в жизнеобеспечении и жизнедеятельности человека пришли к труднопонимаемому для многих, но, тем не менее, вполне практически и теоретически обоснованному выводу о том, что использование правильного языка в буквальном смысле заставляет мозг делать правильные вещи.
Что касается проблемы и возможности преодоления помех на этом уровне, то здесь следует отметить, что все развитые языки человеческого общения обладают определенной мерой структурной избыточности, однако именно эта избыточность (которая была в свое время предметом незаслуженной критики со стороны технических специалистов – разработчиков первых поколений систем искусственного интеллекта) и обеспечивает надежность коммуникации на этом уровне. Иными словами, избыточность синтактических структур является вполне функциональной в плане общего обеспечения надежности коммуникации. В технических системах надежность генерируемого языкового кода обеспечивается посредством использования специальных программных и программно-аппаратных систем: трансляторов, интерпретаторов, автокорректоров, специальных схем защиты и восстановления кода и т.п.
Относительно помех экзогенного характера, то, как это уже было выше отмечено, в силу автоматического характера декодирования рече- и текстонесущих сигналов (это касается и человека и многих кибернетических и компьютеризированных систем, ориентированных на передачу данных для человека) подавление помех на этом уровне весьма затруднительно, хотя и существуют отдельные чисто технические решения этой проблемы. В качестве примера можно привести работающие уже сегодня и достаточно эффективные программы, автоматически отсекающие ненужную входящую электронную корреспонденцию, или так называемый «спам» (от англ. «spam», являющегося языковым новообразованием).
На семантическом уровне проблема помех – это, прежде всего проблема неоднозначности результатов восстановления смысловых структур, содержащихся в концепции послания, получателем сообщения, или, говоря математическим языком, главной причиной помех на этом уровне является гомоморфный характер отображения элементов смыслового пространства отправителя в пространство смыслов получателя сообщений. Преодоление этих неоднозначностей в большинстве случаев эффективно разрешается за счет правильно организованного информационного взаимодействия и, как правило, носит временный и относительно непринципиальный характер при хорошем уровне совместимости информационных баз и баз знаний участников коммуникации (см. таблицу 1). Однако помехи экзогенной природы приводят на этом уровне к весьма специфическим проблемам, одну из которых можно обозначить как конкуренцию смыслов и значений. Другим негативным результатом вторжения извне в систему смыслообразования на этом уровне может быть эффект семантической интерференции, то есть смешения смыслов, относящихся к заведомо различным смысловым последовательностям. Очевидно, что и первый, и второй варианты воздействия экзогенных помех могут существенно снизить эффективность выработки реципиентом адекватной поведенческой или концептуальной реакции, если вообще не привести к срыву коммуникационного акта, то есть к ситуации, которая ранее уже была обозначена как несостоявшаяся коммуникация.
Из описанного выше очевидно, что на концептуально-поведенческом уровне проблема помех может концентрироваться вокруг реальной возможности или способности реципиента выполнить те или иные действия, вытекающие из смысла полученного послания. Из этого же обстоятельства вытекают и возможные решения проблемы помехоустойчивости коммуникации и, таким образом, полной завершенности коммуникативного акта.
Резюмируя описанный выше процесс коммуникации с точки зрения последовательности структурно-уровневых преобразований можно отметить следующее обстоятельство: коммуникация представляет собой по существу процесс отображения структуры, содержащейся в одном объекте в другой или на другой объект, обладающий способностью эту структуру принять, внедрить в себя, запечатлеть в себе или каким-либо иным образом ее воспринять. Данное обстоятельство является особенно важным при формировании технологий и инструментария коммуникаций.
 2015-05-18
2015-05-18 2359
2359
