Круг восьмой – Девятый ров (окончание) – Десятый ров – Поддельщики металлов
Вид этих толп и этого терзанья
Так упоил мои глаза, что мне
Хотелось плакать, не тая страданья.
«Зачем твой взор прикован к глубине?
Чего ты ищешь, – мне сказал Вергилий, –
Среди калек на этом скорбном дне?
Другие рвы тебя не так манили;
Знай, если душам ты подводишь счет,
Что путь их – в двадцать две окружных мили.
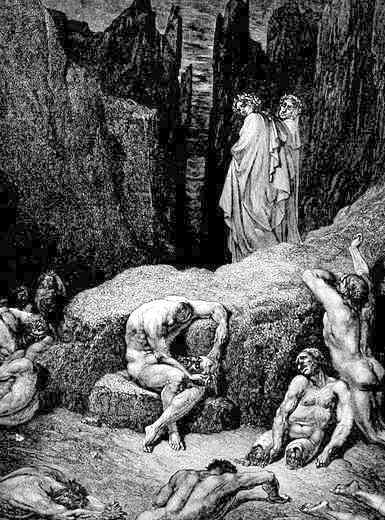
Уже луна у наших ног плывет;
Недолгий срок осталось нам скитаться,
И впереди тебя другое ждет».
Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,
Что я хотел увидеть, ты и сам
Велел бы мне, быть может, задержаться».
Так говоря в ответ его словам,
Уже я шел, а впереди вожатый,
И я добавил: «В этой яме, там,
Куда я взор стремил, тоской объятый,
Один мой родич[411] должен искупать
Свою вину, платя столь тяжкой платой».
И вождь: «Раздумий на него не трать;
Что ты его не встретил, – нет потери,
И не о нем ты должен помышлять.
Я видел с моста: гневен в высшей мере,
Он на тебя указывал перстом;
Его, я слышал, кто-то назвал Джери.
Ты в это время думал о другом,
Готфорского приметив властелина,[412]
И не видал; а он ушел потом».
И я: «Мой вождь, насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье, – вот причина
Его негодованья; оттого
Он и ушел, со мною нелюдимый;
И мне тем больше стало жаль его».
Так говоря, на новый свод взошли мы,
Над следующим рвом, и, будь светлей,
Нам были бы до самой глуби зримы
Последняя обитель Злых Щелей[413]
И вся ее бесчисленная братья;
Когда мы стали, в вышине, над ней,
В меня вонзились вопли и проклятья,
Как стрелы, заостренные тоской;
От боли уши должен был зажать я.
Какой бы стон был, если б в летний зной
Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,
Мареммы и Сардиньи[414] и в одной
Сгрудить дыре, – так этот ров поганый
Вопил внизу, и смрад над ним стоял,
Каким смердят гноящиеся раны.
Мой вождь и я сошли на крайний вал,
Свернув, как прежде, влево от отрога,
И здесь мой взгляд живее проникал
До глуби, где, служительница бога,
Суровая карает Правота
Поддельщиков, которых числит строго.
Едва ли горше мука разлита
Была над вымирающей Эгиной[415],
Когда зараза стала так люта,
Что все живые твари до единой
Побило мором, и былой народ
Воссоздан был породой муравьиной,
Как из певцов иной передает, –
Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому
То кучами томились, то вразброд.
Кто на живот, кто на плечи другому
Упав, лежал, а кто ползком, в пыли,
По скорбному передвигался дому.
За шагом шаг, мы молчаливо шли,
Склоняя взор и слух к толпе болевших,
Бессильных приподняться от земли.
Я видел двух, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх огня,
И от ступней по темя острупевших.
Поспешней конюх не скребет коня,
Когда он знает – господин заждался,
Иль утомившись на исходе дня,
Чем тот и этот сам в себя вгрызался
Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,
Который только этим облегчался.
Их ногти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.
«О ты, чьи все растерзаны изгибы,
А пальцы, словно клещи, мясо рвут, –
Вождь одному промолвил, – не могли бы
Мы от тебя услышать, нет ли тут
Каких латинян? Да не обломаешь
Вовек ногтей, несущих этот труд!»
Он всхлипнул так: «Ты и сейчас взираешь
На двух латинян и на их беду.
Но кто ты сам, который вопрошаешь?»
И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду
Из круга в круг по темному простору,
Чтоб он увидел все, что есть в Аду».
Тогда, сломав взаимную опору,
Они, дрожа, взглянули на меня,
И все, кто был свидетель разговору.
Учитель, ясный взор ко мне склоня,
Сказал: «Скажи им, что тебе угодно».
И я, охотно волю подчиня:
«Пусть память ваша не прейдет бесплодно
В том первом мире, где вы рождены,
Но много солнц продлится всенародно!
Скажите, кто вы, из какой страны;
Вы ваших омерзительных мучений
Передо мной стыдиться не должны».
«Я из Ареццо; и Альберо в Сьене, –
Ответил дух, – спалил меня, хотя
И не за то, за что я в царстве теней.
Я, правда, раз ему сказал, шутя:
«Я и полет по воздуху изведал»;
А он, живой и глупый, как дитя,
Просил его наставить; так как Дедал
Не вышел из него, то тот, кому
Он был как сын, меня сожженью предал.
Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».[416]
И я поэту: «Где еще найдется
Народ беспутней сьенцев? И самим
Французам с ними нелегко бороться!»
Тогда другой лишавый,[417] рядом с ним,
Откликнулся: «За исключеньем Стрикки,
Умевшего в расходах быть скупым;[418]
И Никколо, любителя гвоздики,
Которую он первый насадил
В саду, принесшем урожай великий;[419]
И дружества[420], в котором прокутил
Ашанский Качча[421] и сады, и чащи,
А Аббальято[422] разум истощил.
И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий
Над сьенцами, всмотрись в мои черты
И убедись, что этот дух скорбящий –
Капоккьо, тот, что в мире суеты
Алхимией подделывал металлы;
Я, как ты помнишь, если это ты,
Искусник в обезьянстве был немалый».[423]
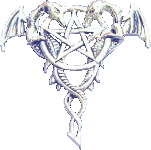
 2015-06-16
2015-06-16 182
182








