РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
Глава 6
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Итак, исходный пункт формирования культуры — и логически, и исторически — человек. Необходимо поэтому выяснить, какими качествами он должен обладать для того, чтобы осуществить эту культурологическую функцию, чтобы быть способным творить культуру?
Как явствует из всего вышеизложенного, такими качествами являются способности человека быть субъектом деятельности, т. е. подняться от тех форм жизнеобеспечивающей активности, которые свойственны его животным предкам, к недоступным им, специфически человеческим формам деятельности. Но что это конкретно означает — быть субъектом деятельности?
Ответ на этот вопрос имеет ключевое значение для философской культурологии, как, в сущности, для всех отраслей философского умозрения, ибо сами понятия "субъект" и "объект" являются главными и специфическими философскими категориями, а проблема субъектно-объектных отношений — центральной проблемой философии, а отнюдь не вопрос о познаваемости мира, как утверждали советские философы, перенося на философию в целом сущность одного из ее разделов — теории познания. Между тем гносеологическая редукция проблемы субъектно-объектных отношений вызывает нередко своего рода реакцию — отрицание необходимости современного — "постмодернистского" — философского мышления вообще различать субъективное и объективное. Оказывается, однако, что их неразличение ведет к самоликвидации философии как таковой, к ее превращению в полухудожественную — или даже высокохудожественную, что не меняет дела — публицистику, в конечном счете — в подлежит потреблению, порабощению, изменению, что должно служить коллективному субъекту, — родоплеменной общности вместе с ее тотемом.
Культура как специфически человеческий способ существования и имела в исторической своей основе деятельность людей как становящуюся систему отношений "субъект— объект—другой субъект", точнее — "другие субъекты", потому что "субъект", будучи по определению существом, наделенным свободой целеполагания и выбора средств достижения своих целей, уникален, единственен в своем роде, отличаясь от всех других субъектов (идет ли речь об индивидуальном субъекте — личности, о коллективном субъекте — например, нации, или о квазисубъекте — мифологическом или художественном персонаже), тогда как позиция объекта приравнивает данный предмет — идет ли речь о вещи, животном, человеке, даже моем собственном "Я", когда в такое положение ставит его мое другое, субъектное "Я", — к другим однородным предметам, т. е. обезличивает его. Так обезличивает предмет его называние, ибо каждое слово является обобщением, оно именует не единичный предмет во всем его своеобразии, а род предметов — "стол", "бег", "красный", "мыслить" и т. д. и т. п.
Рождаясь, таким образом, в социальной, надбиологической практике, субъектно-объектное и межсубъектное отношения охватывают всю сферу человеческой деятельности, во всем многообразии ее видов и форм — духовных и художественных, индивидуальных и коллективных, реальных и воображаемых. Это значит, что в философском осмыслении культура возникает постольку, поскольку человек становится деятельным существом — Homo agens, которое не приспосабливается к среде обитания, а приспосабливает ее к себе. Но тем самым Homo agens оказывается и Homo creator — существом творящим, ибо ни одно состояние среды не способно его удовлетворить, он постоянно дополняет, обогащает, развивает, изменяет не только данное природой, но уже созданное им самим, его предками и современниками.
В этом смысле можно понять тех философов, которые определяют сущность культуры через творческую способность человека; и все же такое толкование культуры таит в себе явную односторонность, ибо человеческая деятельность необходимо соединяет начала творческое и репродукционное, креативное и традиционалистское. Во всяком случае, способность деятельности во всех ее проявлениях должна проистекать из неких присущих ему, человеку, качеств — культура делает реальным то, что в человеке находится в потенциальном состоянии. Вслед за К. Марксом назовем этот ансамбль качеств "сущностными силами" человека.
Речь должна идти здесь о таком "пучке" мотиваторов и реализаторов поведения, которые не даны человеку биологически, которые выработались в многотысячелетнем процессе очеловечивания животного предка людей и которые располагаются иерархически на трех уровнях:
потребностей человека — пускового механизма любой деятельности;
способностей, позволяющих удовлетворять и развивать потребности;
умений превращать эти способности в реальные поступки.
Эта цепочка "потребности—способности—умения" фиксирует механизмы, необходимые и достаточные для порождения деятельности, выявляя структуру того деятельностного механизма, который является прерогативой человека, выделяет его в животном мире и обеспечивает ему истинно человеческое существование. Человек тем более развит как человек, чем богаче круг его потребностей, способностей и умений. Но каков же конкретно "набор" тех потребностей, тех способностей и тех умений, которые необходимы и достаточны для порождения культуры?
2.
Внегенетические или культурные потребности человека формируются исторически, в процессе антропогенеза, и у каждого индивида на протяжении всей истории человечества образуются в ходе его биографии, его культурно-деятельностного онтогенеза. Эти потребности должны охватить нужды людей в том, без чего невозможен человеческий образ жизни. Это прежде всего нужда в новой искусственной среде, во "второй природе", содержащей недостающее человеку в "первой природе", заполняющей вырванную людьми у природы и обживаемую ими экологическую нишу. Эти потребности (их можно было бы символически определить известной антитезой К. Леви-Стросса — потребность в "вареном", вытесняющая нужду в "сыром") становятся все более широкими в истории культуры и все более разносторонними; нет смысла пытаться их перечислить и описать, достаточно подчеркнуть, что они являются культурными, потому что не врождены ни индивиду, ни роду человеческому, они благоприобретаются ими в ходе истории всего вида и биографии каждого индивида.
Но именно потому, что "вторую природу" люди должны сами и целенаправленно создавать, создание это предполагает другую культурную потребность — в знаниях, опосредующих предметное творчество. Получение знания — не способ удовлетворения любопытства или модификация "исследовательского инстинкта" животных, знание необходимо человеку именно потому, что врожденные инстинкты не могут обеспечить его генетически незапрограммированные действия. Созидание нуждается в опосредующем его и благоприобретенном знании — знании свойств той реальности, с которой имеет дело практическое умение, знании инвариантных, повторяющихся качеств, скрывающихся в многообразных по облику предметах, знании связей сущности и явления, причины и следствия, содержания и формы — таково условие успешного творчества. По сути дела на этом уровне обыденной жизни, в которой знание опосредует созидание, зарождается хорошо известное всем нам по высокому уровню развития культуры диалектическое взаимодействие теории и практики — практике необходима помощь научной теории, которая опосредует эффективность и непрерывное совершенствование практики.
Оказывается, однако, что недостаточно иметь знания для опосредования практических действий — от знания к его воплощению нет прямого пути: человек может многое и хорошо знать, но никак не реализовать эти знания, а тогда, когда он их реализует, результаты его практических действий могут быть существенно различными, в зависимости от целей, преследуемых этими действиями; вместе с тем, одни и те же знания и умения могут служить добру и злу, прогрессу и реакции, возвышению человека и его унижению, объединению и разобщению людей, свободе личности и порабощению человека человеком. Это значит, что наряду со знаниями людям нужны вырабатываемые в их жизни ценностные ориентиры. — именно вырабатываемые, так как врожденных ему инстинктов недостаточно для того, чтобы мотивировать широкий круг генетически непрограммируемых действий.
Так выделяется третья сущностная потребность человека — потребность в ценностях. Следует, видимо, уточнить, в связи с широким распространением вульгаризированных представлений о ценностях, отождествляемых с носителями ценностей — вещами, произведениями искусства, драгоценностями, что философское понимание ценности в отличие от общежитейского, торгового, бухгалтерского, финансово-экономического трактует ее не как некий предмет, а как значение предмета для человека как субъекта. Система таких значений и становится необходимой ему культурной силой, диалектически взаимосвязанной и взаимодействующей с его потребностями в творимых им предметах и служащих этому знаниях.
Но и этого мало — претворение знаний в созидание," направляемое ценностями, нуждается еще в одном опосредующем звене — в проекте результата совершаемого практического действия, в "модели потребного будущего", как называл это Н. Бернштейн. Ибо, по известному замечанию К. Маркса, даже самый плохой архитектор отличается от наилучшей пчелы тем, что, прежде чем построить здание, он выстраивает его в своей голове; это значит, что результат деятельности человека возникает идеально прежде, чем он будет существовать реально. Следовательно, потребность в предвосхищающих действие моделях, в образах созидаемого, предваряющих его появление, в идеалах, которые должны превратиться в реальность, короче — в проектах того, что должно быть создано на основе знаний и под направляющим руководством ценностей, есть еще один компонент в ансамбле потребностей, образующих сущностные силы человека.
В этом анализе я вынужден был временно отвлечься от того чрезвычайно важного обстоятельства, что человеческая жизнь и деятельность по природе своей коллективны и потому предполагают взаимодействие между участниками данных процессов. Начиная с воспроизводства рода и воспитания потомства, включая все формы совместной производственной деятельности и кончая игрой, человек действует во взаимосвязях с другими людьми. Деятельность эта коллективна и в тех случаях, когда она непосредственно осуществляется индивидом в одиночку — скажем, ученым, конструктором, писателем, ибо его действия опосредованы действиями других людей, предшествующими и последующими. Следовательно, так или иначе, но человек испытывает нужду в себе подобных как соучастниках единых материально-практических, практически-духовных и чисто духовных действий.
Так вырисовывается еще один компонент ансамбля потребностей в системе человеческих сущностных сил — потребность в другом человеке как соучастнике моего бытия. Потому в современной западной философии сложилось направление, основоположником которого был Л. Фейербах и
своего рода "интеллектуально-поэтическую исповедь, поскольку именно и только в этой сфере духовной жизни человека снимается различие субъективного и объективного, теоретическому же дискурсу оно имманентно, и философское умозрение не способно от него освободиться, не отрекаясь от своей теоретической природы и не становясь своим инобытием — лирико-художественным самовыражением личности.
Раздвоение сущего на объект и субъект является по своему происхождению — в филогенезе,.а затем всякий раз и в онтогенезе — практическим расчленением основных участников процесса деятельности — действующего лица и предметов, на которые его активность направлена и которые она порождает в результате производимых им манипуляций. Такого расчленения не знает поведение животного в силу инстинктивности совершаемых им действий, не позволяющих ему ни практически, ни психологически отделять себя от предмета своих операций — растения, другого животного, камня, воды, вещи. Человек же оказывается изначально в ситуации внеинстинктивного поведения, предполагающего необходимость определения своей тактики по отношению в растению, животному, камню, реке, небу, другому человеку, осознания цели, средств и способов действия. А это требует различения самого себя как деятеля, обладающего правом и свободой выбора подлежащего свершению действия, и предмета, на который действие это направлено для удовлетворения моей потребности, исполнения моей цели, решения поставленной мною перед собой задачи; но тем самым, поскольку моя деятельность протекает не в одиночестве, а сопрягается так или иначе с действиями мне подобных соучастников, соратников, партнеров, постольку я должен отличать их как однородных мне — столь же самодеятельных, свободных в своем выборе и целеполагании, самосознательности и интен-циональности, активных существ — от предметов наших общих усилий и действий. Так в процессе антропо-социокуль-турогенеза, в далекой первобытности люди учились в своих совместных охотничьих, военных, ремесленных действиях различать: а) свою субъектность — не субъективность, которая уже производна, а именно субъектность — как исходную для практической деятельности человека позицию; б) субъектностъ Другого — со-брата, со-трудника, соратника, со-общника, со-племенника, со-родича, а также, что было еще более важно, верховного "супер-субъекта" — доброго и злого духа, бога; в) объектное бытие всего того, что которое часто называют "туизмом" (от английского "two" — "два"), ибо исходным понятием философского анализа бытия здесь положено не "Я" Р. Декарта и И. Фихте, а пара "Я—Ты"; именно так — "Я и Ты" — названа одна из книг представителя этого направления М. Бубера.
Теперь хочу обратить внимание на то, что все выявленные выше сущностные потребности человека служат "пусковыми пружинами" для таких действий, которые организуют прак-' тическую в самом широком смысле этого слова жизнь людей. Вместе с тем, как показывает история мировой культуры, человечеству необходимо дополнение его реальной практической жизни жизнью воображаемой, иллюзорной, потому что таким образом он обретает способность бесконечно раздвигать границы своего жизненного опыта опытом воображаемой жизни в мифологической, а затем в художественной реальности. О том, что речь здесь идет о такой потребности, которая принадлежит к сущностным силам человека, свидетельствует тот факт, что "миры" мифологических образов рождаются в глубочайшей древности, по сути дела вместе с человеком, с обществом, с культурой, и, превращаясь в художественные "миры", сохраняются на всех последующих ступенях истории человечества и у всех населяющих Землю народов; значит, человечество не может обходиться без такого "удвоения" своего реального бытия воображаемым, иллюзорным квазибытием. Нельзя не учесть здесь и того, что животные начисто лишены подобной потребности и способности, не имея даже зачатков художественно-образной деятельности или мифологического сознания (очевидно, что пение птиц и их пляски не имеют ничего общего с музыкой и танцем, что это лишь внешнее сходство поведения, в одном случае — у животных — мотивированного физиологией, потребностями организации сексуальных отношений, и потому инстинктивного и стереотипного, а в другом — у человека — инициированного духовными потребностями, генетически не запрограммированного и потому бесконечно изменчивого по своим формам). Если игровое поведение свойственно уже животным, то опять-таки в пределах, биологически полезных для рода действий особи, тогда как игры детей являются лишь в небольшой степени физическими действиями, тренирующими тело, в основном же своем массиве это так называемые "ролевые игры" и "изобразительные игры" (ибо и рисование является для ребенка игрой), в которых они конструируют удваивающую мир иллюзорную реальность — такую, в которой воплощаются в нерасторжимом единстве их умения, знания, ценности, идеалы и с помощью которой они связывают себя с другими людьми — и реальными детьми, соучастниками игрового действа, и воображаемыми персонажами сочиняемого мира художественных образов (или мифологических образов, если речь идет о детстве человечества, а не отдельного человека). Хорошо известно, что так же, как нет ни одного народа, не сотворившего для себя мифов и лишенного искусства, так нет нормального ребенка, детство которого не было бы заполнено художественными играми, актерскими и рисовальными, танцевальными и поэтически-музыкальными.
Таковы основания, заставляющие нас включить в ансамбль внебиологических, культурных потребностей человека, потребность в образах, удваивающих реальность.
Теперь их анализ на потребностном уровне можно считать завершенным. Зафиксируем его результат в наглядной схеме (см. схему 8):
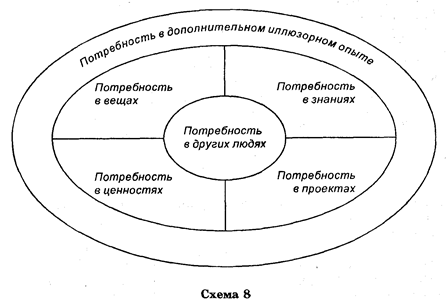
Тут не может не возникнуть вопрос — а отвечает ли данная структура потребностей столь важному для системного анализа критерию необходимости и достаточности. Ответ на него кроется в структуре человеческой деятельности, рассмотренной в контексте системы субъектно-объектных отношений.
Культура, которую несет в себе человек, выражается, наконец, в совокупности его умений. Именно в них в чистом виде проявляется то, что обретается им прижизненно, ибо никакие человеческие умения, в отличие от умений животного, не являются врожденными, наследуемыми, инстинктивными — все они искусственны, благоприобретаемы. Культура выступает здесь как механизм социального наследования, ибо, начиная с раннего детства — и человечества, и личности, — люди получают свои умения в процессе приобщения к уже накопленному опыту в ходе обучения то, что уже умеют делать учителя, предки, родители.
Вполне естественно, что структура умений должна отвечать структуре способностей и потребностей, — ведь умения и нужны для того, чтобы реализовывать способности, переводя деятельность из потенциального состояния в актуальное. Соответственно человек должен уметь — и он стремится уметь — изменять мир своей практической деятельностью и обращаться с другими людьми в этом процессе, а для этого — уметь проектировать свои действия и действия партнеров, уметь познавать мир, оценивать его и художественно удваивать. Поскольку же в основе способностей лежат врожденные индивиду предрасположенность к наиболее успешному осуществлению того или иного вида деятельности, задатки, талант, одаренность, постольку в конкретной осуществляемой деятельности умения вступают в диалектическое взаимодействие со способностями, талантливостью, даже гениальностью человека: каждая способность благоприятствует развитию необходимых для осуществления умений, а умения позволяют реализовать способность и развивать ее, оттачивать, совершенствовать; вместе с тем между способностью и умением могут возникать конфликты, ибо и она, и оно имеют собственные устремления — способность к определенным действиям заключает в себе некий реализационный импульс, внутреннее требование своего действенного осуществления (скажем, музыкальная одаренность, конструкторский талант или природный дар общения побуждает даже неумелого еще ребенка петь, играть на гитаре, изобретать какие-то технические приспособления, независимо от их осуществимости, искать контакты с другими детьми или взрослыми и легко завязывать с ними дружеские отношения), а умения требуют качественного, мастерского исполнения осуществляемого действия. В результате становится возможным — и это достаточно часто встречается — талантливое, но недостаточно умелое выполнение некого действия, а с другой стороны, действие виртуозное, но лишенное той содержательной новизны, оригинальности, которую порождает талант.
 2015-06-28
2015-06-28 242
242






