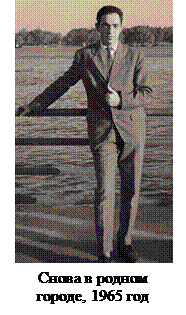 Отправляясь по повестке на призывной пункт Херсонского облвоенкомата в начале августа 1964 -го, я не знал, что пройдет всего лишь год, и я вернусь в город своей студенческой юности. Вернусь, с честью исполнив гражданский долг в далеком Забайкалье, вернусь возмужавшим, без травм, в неплохой физической форме, вернусь обогащенный знанием уставов Вооруженных Сил СССР и многочисленными армейскими умениями, начиная от подъема за 45секунд, умения быстро разбирать и собирать автомат Калашникова, метко поражать из него мишени и заканчивая умением квалифицированно обслуживать сложнейшую технику и четко выполнять поставленные командованием задачи…
Отправляясь по повестке на призывной пункт Херсонского облвоенкомата в начале августа 1964 -го, я не знал, что пройдет всего лишь год, и я вернусь в город своей студенческой юности. Вернусь, с честью исполнив гражданский долг в далеком Забайкалье, вернусь возмужавшим, без травм, в неплохой физической форме, вернусь обогащенный знанием уставов Вооруженных Сил СССР и многочисленными армейскими умениями, начиная от подъема за 45секунд, умения быстро разбирать и собирать автомат Калашникова, метко поражать из него мишени и заканчивая умением квалифицированно обслуживать сложнейшую технику и четко выполнять поставленные командованием задачи…
После теплой встречи с родителями, родственниками, друзьями, однокашниками и оформления необходимых документов в военкомате, милиции, ЖЭКе пришлось вплотную заняться вопросом трудоустройства. После многочисленных хождений в гороно и херсонские школы мне, наконец, предложили полставки преподавателя математики вечернего отделения Херсонского машиностроительного техникума. Я охотно согласился занять эту вакансию и первого сентября 1965 года приступил к проведению лекционно-практических занятий в «машинке».
Возвратившись в Херсон, естественно, побывал и на родном факультете, где меня тепло встретили преподаватели, лаборанты. Искренне интересовались, где и как протекала военная служба, какие ближайшие планы, чем думаю заниматься на «гражданке». А заведующие математических кафедр доценты Геннадий Никитич Скобелев и Михаил Павлович Устименко даже выразили готовность взять меня по конкурсу на должность ассистента. Такое синхронное предложение многоуважаемых учителей, не скрою, не могло не радовать. Я остановился на кафедре элементарной математики, поскольку в годы учебы в ХГПИ как член научно-студенческого общества больше сотрудничал с Геннадием Никитичем. Впрочем, при подаче документов полной уверенности, что выиграю конкурс, у меня не было, ведь в число претендентов на должность ассистентов математических кафедр входили несколько выпускников – отличников, имевших больший, чем у меня педагогический стаж. Так как на момент встречи со Скобелевым Г.Н. и М.П. Устименко. Берман В.П. уже был принят в штат «машинки», к тому же директор техникума Агарков М.А. обещал со временем увеличить учебную нагрузку, я без особых надежд относился к положительному исходу предстоящего конкурса. Каково же было удивление моих родных, когда вечером 1 октября 1965 года позвонил Геннадий Никитич и поздравил меня не только с днем рождения, а и с успешным избранием ассистентом кафедры. Как выяснилось, многие из членов ученого совета ХГПИ отдали при голосовании предпочтение моей кандидатуре, ибо помнили меня по выступлениям в «Березке» и в спортивной команде факультета, сыграла роль и хорошая характеристика из армейской части № 14129, где я проходил службу и «засветился» как грамотный и дисциплинированный солдат, успешно выполнявший сложные технические задания командования.
Как бы там ни было, но уже 2-го октября 1965 года мне пришлось знакомиться со студентами первого курса математического отделения и провести две пары лабораторных занятий по вычислительной математике. Затем довелось на втором курсе вести практические занятия по элементарной геометрии. И завертелось, закрутилось. По полной программе. А впридачу – кураторство в группе «В» первого курса математиков со старостой Валей Чуприной, комсоргом Валей Кубанцевой, профоргом Людой Чернявской и тремя юношами – Юрой Сироткиным, Володей Фридсоном, Николаем Гнатковским; позднее к ним присоединился еще и Володя Устименко.
Работать на факультете было очень интересно и непросто: приходилось посещать лекции ведущих преподавателей, тщательно готовиться к каждому занятию, проводить консультации, составлять «методички», участвовать в обсуждении докладов на методсеминарах кафедры и.т.п. Особенно нравилось, что на физмате появилось много молодых сотрудников. Так, на кафедре высшей математики к Яше Плоткину добавилась Света Колесник, на кафедре элементарной математики появились ассистент Валя Лысенко и старший лаборант Алик Шапиро, на кафедре методики физики – ассистенты Лиля Горбунцова и Витя Белый, лаборанты Тая Недвиженко и Толя Маловичко, на кафедре физики – ассистенты Ваня Костецкий и Вася Чарнецкий, который возвратился в родной институт после двухлетней работы учителем физики Новотроицкой средней школы № 1.
 Со всеми названными молодыми сотрудниками у меня сложились приятельские отношения. Но самыми теплыми они были с Васей Чарнецким, хотя работали мы на разных кафедрах и принадлежали к «разным весовым категориям» (я оставался холостяком, а Вася к тому моменту женился на своей симпатичной сокурснице Раечке Семерне и стал уже папой). Дело в том, что мы входили практически в одну возрастную группу, имели статус начинающих ассистентов со схожими проблемами и задачами, оба в студенческие годы играли в духовом оркестре, выступали в составе «Березки», любили сцену и спорт. Все это подтолкнуло нас друг к другу, мы стали чаще и теснее общаться.
Со всеми названными молодыми сотрудниками у меня сложились приятельские отношения. Но самыми теплыми они были с Васей Чарнецким, хотя работали мы на разных кафедрах и принадлежали к «разным весовым категориям» (я оставался холостяком, а Вася к тому моменту женился на своей симпатичной сокурснице Раечке Семерне и стал уже папой). Дело в том, что мы входили практически в одну возрастную группу, имели статус начинающих ассистентов со схожими проблемами и задачами, оба в студенческие годы играли в духовом оркестре, выступали в составе «Березки», любили сцену и спорт. Все это подтолкнуло нас друг к другу, мы стали чаще и теснее общаться.
Во-первых, начали посещать курсы по подготовке к кандидатскому экзамену по философии (их квалифицированно вел заведующий кафедрой философии Херсонского сельскохозяйственного института им. А.Цюрупы доцент Николай Федорович Лысенко), во-вторых, нас сразу же привлекли к руководству студенческими сельхозотрядами в совхозе «Винрассадник», в-третьих, ректор института Павел Егорович Богданов (с подачи комсорга ХГПИ Анатолия Постольника) обязал меня и Васю реанимировать «Березку», которая после окончания нами учебы практически распалась, что могло привести к утрате замечательной пединовской традиции – в канун 8 Марта поздравлять институтских женщин с праздником веселым концертом, подготовленным мужской частью студенчества.
Отказаться от поручения ректора мы, естественно, не могли, поэтому стали продумывать, как привлечь молодежь. На студентов-физматовцев мы могли, понятное дело, нажать. Но нас интересовали способные ребята и с двух других факультетов. Тут требовался другой подход, другой путь, и мы его скоро нашли.
3.2. Мы создаем институтский СТЭМ…
Было решено организовать для начала институтский студенческий театр эстрадных миниатюр. Правда, это требовало существенного обновления репертуара: нельзя же повторять и показывать все время только то, что придумывалось в начале шестидесятых годов. На наше счастье как раз в этот период в Москве должен был состояться объявленный Всесоюзный смотр-конкурс СТЭМов, председателем жюри которого назначили народного артиста СССР Аркадия Райкина.
Мне и Толе Постольнику удалось уговорить ректора командировать в Москву на упомянутый конкурс Васю Чарнецкого. В результате после возвращения последнего в Херсон мы получили не только информацию о целесообразных путях развития жанра, а и более двух десятков текстов новых миниатюр, монологов, забавных песен, скетчей и т.д. Оставалось лишь объявить набор в институтский СТЭМ на трех факультетах. И вскоре в новом, построенном во дворе старого корпуса ХГПИ актовом зале состоялась первая встреча желающих пробовать свои силы в этом, на первый взгляд, простом, но на самом деле довольно сложном виде искусства. Естественно, кастинг выдержали далеко не все из пришедших. Но мы никому категорически не отказывали: по мнению Васи, отсев должен был происходить постепенно. В результате уже к третьей репетиции сформировался твердый костяк СТЭМа, в который входили физматовцы Света Кравченко, Света Гаричева, Люда Матяш, Славик Миронов, биологи Лариса Завгородняя, Саша Черненко, Толя Кузнецов, Саша Разинский, филологи Таня Михайлова, Люда Бондарева, Инна Жебрак и другие. В числе первых миниатюр, поставленных Чарнецким, были «Выборы треугольника», «У фонтана», «А что я мог сделать один?», «Один бифштекс», «Часы на башне Сен-Жермен», «Экзамен в железнодорожном институте». Естественно, мы внимательно присматривались к мужской части СТЭМа, которая должна была составить основу возрожденной «Березки». Интересным в этом плане оказалось появление в нашем коллективе Саши Разинского. Желая посещать танцевальный кружок известного в Херсоне балетмейстера Добут-оглы, он пришел в актовый зал, где в то время еще проходила репетиция СТЭМа Чарнецкого и Бермана. Мы как раз ставили центральный эпизод миниатюры «Один бифштекс», но у начинающих «артистов» ничего не получалось. Пробовали одного, второго, третьего, однако Чарнецкий оставался недоволен. В какой- то момент я пригласил на сцену незнакомого парня, который появился на репетиции, видимо, случайно, но с нескрываемым интересом следил за происходящим на сцене. Саша Разинский, а это был он, поднялся на авансцену, ознакомился с текстом диалога, и у него все получилось, да так, что Василий Георгиевич восторженно воскликнул: «Эврика!». С этого момента Саша стал ведущим «актером» нашего СТЭМа, у которого со временем проявились еще и авторские способности: он начал сочинять юмористические сценки, придумывать конферанс, стал пробовать себя в написании пародий, киносценариев, шуточных стихотворных посвящений и т.п. Пригодилось нам его увлечение народными танцами: Разинский оказался одним из лучших постановщиков заключительного танца «Березки». Но это было потом. Следует сказать, что реанимирование «Березки» свелось не только к созданию институтского СТЭМа. Еще будучи студентом 5 курса, я мечтал о создании инструментального ансамбля наподобие того, которым руководил в 60-м году Леня Громов. Служба в армии, где я приобрел некоторый опыт «коллективного музицирования» и 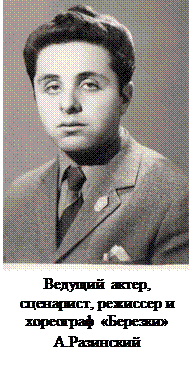 ансамблевого пения благодаря дружбе с ленинградцем Юрой Мелиховым – кларнетистом, трубачом и гитаристом, прошедшим на «гражданке» школу игры в большом джазовом коллективе, только подзадорило давнее желание. Так или иначе мною были предприняты конкретные усилия по поиску музыкантов, которые желали и могли бы играть в ансамбле. Удалось найти саксофониста Сашу Графа, поступившего на физическое отделение после демобилизации из армии, баяниста Володю Новицкого, также ставшего студентом ХГПИ после службы в армии, контрабасиста Володю Бобурца. В качестве ударника я пригласил Алика Шапиро, который продолжал работать старшим лаборантом кафедры элементарной математики, а вскоре перешел на солидную и более оплачиваемую должность заведующего лабораторией вычислительной математики Херсонского сельхозинститута. Впрочем, у Алика появился неплохой дублер – Юра Сироткин, студент-математик І курса ХГПИ. Планировал привлечь в дальнейшем в качестве трубача Васю Чарнецкого, хотя он поначалу категорически отказывался из-за отсутствия амбюшура[30] и обилия семейных забот. Себя я видел участником ритмической группы ансамбля, в которой нужный ритм и гармонию вместе с ударными инструментами, гитарой – ритм, контрабасом определяли аккорды пианино…
ансамблевого пения благодаря дружбе с ленинградцем Юрой Мелиховым – кларнетистом, трубачом и гитаристом, прошедшим на «гражданке» школу игры в большом джазовом коллективе, только подзадорило давнее желание. Так или иначе мною были предприняты конкретные усилия по поиску музыкантов, которые желали и могли бы играть в ансамбле. Удалось найти саксофониста Сашу Графа, поступившего на физическое отделение после демобилизации из армии, баяниста Володю Новицкого, также ставшего студентом ХГПИ после службы в армии, контрабасиста Володю Бобурца. В качестве ударника я пригласил Алика Шапиро, который продолжал работать старшим лаборантом кафедры элементарной математики, а вскоре перешел на солидную и более оплачиваемую должность заведующего лабораторией вычислительной математики Херсонского сельхозинститута. Впрочем, у Алика появился неплохой дублер – Юра Сироткин, студент-математик І курса ХГПИ. Планировал привлечь в дальнейшем в качестве трубача Васю Чарнецкого, хотя он поначалу категорически отказывался из-за отсутствия амбюшура[30] и обилия семейных забот. Себя я видел участником ритмической группы ансамбля, в которой нужный ритм и гармонию вместе с ударными инструментами, гитарой – ритм, контрабасом определяли аккорды пианино…
Репетиции эстрадного ансамбля проходили на сцене нового актового зала или в пристройке к зданию естественного факультета, где на первом этаже (в полуподвале) размещалась раздевалка, на втором этаже – небольшой танцевальный зал размером примерно 10м х. 25м с возвышением для музыкантов и на третьем этаже – комнаты заседаний комитета комсомола. Удобнее всего было музицировать, конечно же, в танцзале, тем более, что на возвышении стояло пианино.
Ансамбль пробовал играть танцевальные мелодии, аккомпанировать солистам. В числе первых запели физматовцы Надя Черная, Володя Фридсон, филологи Люда Бондарева, Саша Семенов, биологи Сеня Могилянский и Толя Кузнецов.
На репетиции я ходил с удовольствием. Однако вскоре ситуация усложнилась: поскольку Толя Постольник учился на последнем курсе и ему предстояло пройти преддипломную практику, успешно сдать выпускные экзамены, партком решил усилить возглавляемый Анатолием комитет комсомола молодыми преподавателями. Вот так начинающий ассистент Виктор Петрович был рекомендован парткомом на должность заместителя секретаря комитета комсомола. Вместе со мной в руководящий орган пединовского комсомола был избран молодой преподаватель кафедры философии Владимир Павлович Блинов, которому поручили возглавлять политический сектор. В числе комитетчиков оказалось немало активистов тех лет: математик Валентина Малик, филологи Нора Задрожко, Валя Йонко, Света Куликова, естфаковки Света Юдинская, Люда Спичак и другие. Анатолий Постольник – человек коммуникабельный и душевный, скорее демократичный, чем авторитарный, сумел за короткий срок (до Нового года) создать боеспособный комитет, который умело управлял соответствующими подразделениями факультетских комсомольских бюро, при этом внедрял много нового, чего не было в институте ранее. Это при Постольнике был создан студенческий клуб «Горизонт» во главе со Светой Баранской, который развернул тесную работу со старшеклассниками школ Херсонщины. Это при Постольнике была успешная попытка организовать «общественные ясли» для грудных детей студентов. Это при Постольнике в построенном актовом зале начали проводиться встречи студентов с приезжавшими в Херсон известными киноартистами, певцам, писателями. Это при Постольнике студенты –активисты готовили и проводили новогодний утренник для детей сотрудников и студентов пединститута. Это при Постольнике для клуба ХГПИ студенческим профкомом, возглавляемым Ильей Коганом, были приобретены новые музыкальные инструменты (два саксофона, ударная установка, аккордеон «Weltmeister», электроорган, электрогитара). Анатолий обычно действовал методом убеждения, старался не «давить», а склонить собеседника к нужному решению в ходе беседы. Поэтому его как комсорга уважали и комитетчики, и члены парткома, и ректорат.
Проводя собеседования с абитуриентами, мы приглашали последних в помещение возле комитета комсомола и предлагали продемонстрировать свои успехи в вокале, в игре на музыкальных инструментах. Если написанное в характеристике не соответствовало реальным данным, интерес к такому абитуриенту пропадал, если же выпускник имел хороший голос и музыкальный слух или прекрасно владел тем или иным инструментом, информация об этом поступающем сообщалась декану факультета. Вот таким образом к нам попали гитарист Володя Заводяный, трубач и баянист Вася Прокопец, саксофонист Саша Миценко, гитарист Толя Кузнецов, танцор Женя Дегтярев, чтец Ирина Маляр. Впрочем, были случаи, когда талантливые ребята приходили к нам сами. Так, Семен Могилянский попал в художественную самодеятельность ХГПИ после перевода в 1966 году с факультета физического воспитания Николаевского пединститута на третий курс дневного отделения естественного факультета нашего института. Перевелся и сразу же появился в актовом зале. Как выяснилось, Сеня неплохо поет, хороший рассказчик, к тому же грамотно играет на контрабасе. Не прошло и двух месяцев, как николаевский брюнет стал активным участником СТЭМа и эстрадного ансамбля, а вскоре и «Березки».
Появление в институте большой группы юношей, желающих серьезно заниматься в кружках самодеятельности под руководством В.Г.Чарнецкого и В.П.Бермана, позволило нам сразу же после зимних каникул приступить к серьезной подготовке к мартовскому концерту «Березки».
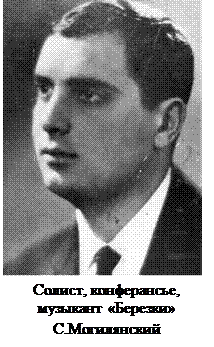 Репетиции нового коллектива велись по накатанной схеме: вначале наметили имеющиеся индивидуальные номера, затем составили список намеченных для постановки юмористических сценок, придумали тематику куплетов на местные темы, решили спеть несколько шуточных песен о студенческой жизни, придумали шуточные гимнастические иллюстрации для некоторых песенных цитат. Наконец, занялись постановкой заключительного танца «Березки».
Репетиции нового коллектива велись по накатанной схеме: вначале наметили имеющиеся индивидуальные номера, затем составили список намеченных для постановки юмористических сценок, придумали тематику куплетов на местные темы, решили спеть несколько шуточных песен о студенческой жизни, придумали шуточные гимнастические иллюстрации для некоторых песенных цитат. Наконец, занялись постановкой заключительного танца «Березки».
Оформлением сцены занимался Толя Постольник, секретарь комитета комсомола, который неплохо рисовал и имел опыт подготовки задника к торжеству. Анатолий вырезал из картона большую восьмерку, название месяца «Март» в родительном падеже, а также большую ромашку
Праздничный вечер начался, как и намечалось, 6 марта 1966 года в 17 часов в помещении нового актового зала ХГПИ. Вход был по пригласительным билетам. Места в зале заняли женская часть студенчества и преподавателей, комсомольско-профсоюзный актив, члены парткома, ректорат во главе с Павлом Егоровичем Богдановым и Арсением Денисовичем Гончаром… Как и вначале 60-х годов всем пришедшим в зал представительницам слабого пола дежурные юноши вручили по цветочку. В зале царило хорошее настроение, дух ожидания чего-то необычного. И это необычное вскоре началось…
| Участницы Великой Отечественной войны | |||||

|

|
|
 А далее стихи сменили песни в исполнении солистов «Березки», которым аккомпанировал эстрадный ансамбль под руководством Александра Графа. Вначале Игорь Кунгуров, инженер-физик научно-исследовательской лаборатории физики твердого тела, исполнил романс на слова С.Есенина «Отговорила роща золотая», а затем студент ІІ курса физмата Владимир Фридсон спел популярную песню Жана Татляна «Фонари» и «Вальс рыбака». Последним из солистов выступал преподаватель кафедры элементарной математики, участник самого первого концерта «Березки» Сергей Ксенофонтович Москвичев, который очаровал зрителей своей коронкой – итальянской песней «Весел я», и украинской песней «Очі волошкові». Ветерана институтской самодеятельности долго не отпускали со сцены, и ему пришлось на «бис» исполнить еще одну песню из старого репертуара – «Очи черные».
А далее стихи сменили песни в исполнении солистов «Березки», которым аккомпанировал эстрадный ансамбль под руководством Александра Графа. Вначале Игорь Кунгуров, инженер-физик научно-исследовательской лаборатории физики твердого тела, исполнил романс на слова С.Есенина «Отговорила роща золотая», а затем студент ІІ курса физмата Владимир Фридсон спел популярную песню Жана Татляна «Фонари» и «Вальс рыбака». Последним из солистов выступал преподаватель кафедры элементарной математики, участник самого первого концерта «Березки» Сергей Ксенофонтович Москвичев, который очаровал зрителей своей коронкой – итальянской песней «Весел я», и украинской песней «Очі волошкові». Ветерана институтской самодеятельности долго не отпускали со сцены, и ему пришлось на «бис» исполнить еще одну песню из старого репертуара – «Очи черные».
Большой успех у пришедших на праздничный вечер зрителей имели шуточные песни, подготовленные ансамблем. Вначале ребята спели попурри на студенческие темы, начавшееся с известной песни «Джум-бам-бала-бала», в которой шел одни верблюд, затем шел второй верблюд, и шел весь караван. Второй в попурри была песня «Жил один студент на факультете», третьей – песня «За что ж так Ваньку-то Морозова?», четвертой – «А я еду за туманом» и т.д. Но наибольший ажиотаж вызвали юмористические куплеты на местные темы, исполненные на мотив известной песни «А на кладбище все спокойненько». В них шел рассказ о нерадивых студентах института, в частности о студенте – душечке Бондареве, которого отчислили за двойки и пьянство, а он «на работу в село укатил, где учитель он, пьет из кружечки и тому же детей научил…».
Хорошо принял зал партерную группу в составе Юрия Сироткина, Владимира Новицкого, Саши Черненко, Саши Балацкого и Васи Прокопца. В стиле пародии на подобные коллективы 40-х годов ребята продемонстрировали композиции «Одномоторный самолет», «Двухмоторный самолет», «Мы с тобой два берега у одной реки», «Летите, голуби, летите» и другие.
С интересом зал смотрел обновленный репертуар мужской части СТЭМа В.Чарнецкого и В.Бермана. Здесь мы показали юмористические сценки «Один бифштекс» (она – Разинский Саша, он – В.П.Берман, официант –В.Г.Чарнецкий), «Экзамен в железно-дорожном институте» (Александр Разинский, Анатолий Кузнецов), «Часы на башне Сен-Жермен» (граф Чарнецкий – В.Г.Чарнецкий, князь Бермо̀н – В.П.Берман). Первая из названных сценок базировалась на конфликте между мужем и женой, пришедшими в ресторан и заказавшими два бифштекса, а затем из-за нервного приступа жены меняющими свой заказ. Вторая сценка воспроизводила находчивое поведение студента на экзамене в железнодорожном институте. Наконец, третья – рассказывала о том, как меняется содержание диалога героев на разных по счету спектаклях.

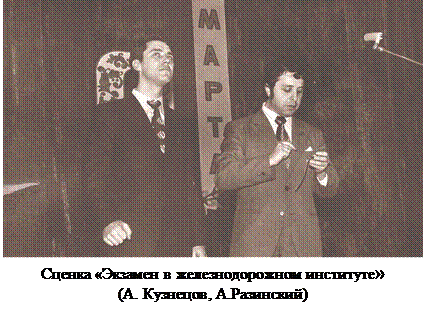 Все упомянутые сценки прошли с успехом. А вот четвертая «Зачем ты пристаешь к моей жене?», которую исполняли А.Граф и А.Кузнецов, чуть было не сорвалась из-за невнимательности ребят. По замыслу этой сценки, в которой беседуют двое мужчин, и один из них интересуется, как его знакомому нравятся женщины с теми или иными физическими недостатками (протезом вместо руки, протезами вместо глаз, протезами вместо ног). И вот, задавая третий вопрос, А.Кузнецов неожиданно оговорился и вместо фразы «вместо ног протезы» произнес: «Между ног протезы». Сказал и, когда понял, что допустил «ляп», умолк. Умолк и партнер, не зная, что говорить в ответ. Естественно, затих зрительный зал. Пятисекундная пауза. И тут «Кузя», как будто ничего не произошло, произносит (теперь уже правильно!) фразу «А как тебе нравятся женщины, у которых вместо ног протезы?» и, услышав от А.Графа ответ: «За кого ты меня принимаешь?», радостно восклицает: «Так, какого черта ты пристаешь к моей жене???». Вот тут уж зал взорвался искренним хохотом!
Все упомянутые сценки прошли с успехом. А вот четвертая «Зачем ты пристаешь к моей жене?», которую исполняли А.Граф и А.Кузнецов, чуть было не сорвалась из-за невнимательности ребят. По замыслу этой сценки, в которой беседуют двое мужчин, и один из них интересуется, как его знакомому нравятся женщины с теми или иными физическими недостатками (протезом вместо руки, протезами вместо глаз, протезами вместо ног). И вот, задавая третий вопрос, А.Кузнецов неожиданно оговорился и вместо фразы «вместо ног протезы» произнес: «Между ног протезы». Сказал и, когда понял, что допустил «ляп», умолк. Умолк и партнер, не зная, что говорить в ответ. Естественно, затих зрительный зал. Пятисекундная пауза. И тут «Кузя», как будто ничего не произошло, произносит (теперь уже правильно!) фразу «А как тебе нравятся женщины, у которых вместо ног протезы?» и, услышав от А.Графа ответ: «За кого ты меня принимаешь?», радостно восклицает: «Так, какого черта ты пристаешь к моей жене???». Вот тут уж зал взорвался искренним хохотом!
Завершился праздничный концерт знаменитой танцевальной сюитой «Кустарник за полярным кругом», которую подготовили танцоры «Березки». Ставили танец мы с Чарнецким. Но затем инициативу у нас перехватили Дегтярев с Разинским, которые, как уже сообщалось выше, до прихода в ХГПИ занимались танцами и быстро «схватили» рисунок сюиты и цели, которые преследует ее медленная и быстрая части.
Забегая вперед, отмечу, что в дальнейшем задача постановки заключительного танца была снята с Чарнецкого и Бермана полностью, и вмешивались мы в репетиционный процесс лишь тогда, когда возникали какие-то противоречия у постановщиков и исполнителей. Надо сказать, что участие в концертах «Березки» ее «реаниматоров» было ограниченным: и в 1966 году, и в последующие годы, Чарнецкий и Берман в основном занимались режиссурой номеров программы, пели, играли в юмористических сценках, аккомпанировали исполнителям, музицировали в составе эстрадного инструментального ансамбля; что касается танцевального жанра, то позволяли себе выходить на сцену в сарафанах и с оголенными ногами только на юбилейных концертах, к которым активно привлекались не только студенты, а и выпускники института- преподаватели ВУЗов, директора и учителя школ, работники органов образования.
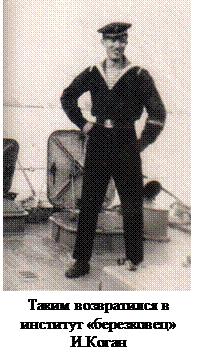 Хотя в заключительном танце состав исполнителей сменился практически на 100%, реакция сидящих в зале была такой же, как и в 1960-1965г.г.: зрители ревели, визжали, смеялись, издавали вопли восторга. А в конце, выходя на поклон, танцоры услышали стройное «Молодцы!» и «Спасибо!».
Хотя в заключительном танце состав исполнителей сменился практически на 100%, реакция сидящих в зале была такой же, как и в 1960-1965г.г.: зрители ревели, визжали, смеялись, издавали вопли восторга. А в конце, выходя на поклон, танцоры услышали стройное «Молодцы!» и «Спасибо!».
Успех был налицо. Затраченные нами усилия были не напрасными. «Березка» не исчезла! «Березка» жива! Радовались мы с Васей, радовались Толя Постольник и Илюша Коган, радовалось молодое пополнение ансамбля. Довольны были и Павел Егорович, и Аксентий Денисович, которые после завершения концерта зашли в каморку возле сцены, где переодевались «артисты» и поблагодарили всех выступавших за доставленное удовольствие. Буквально через день эта словесная благодарность нашла отражение в соответствующем приказе ректора, в котором были отмечены и организаторы, и участники мартовского действа. Соответствующие записи можно найти в трудовых книжках В.Г.Чарнецкого, и В.П.Бермана, в разделе «Поощрения».
3.3. СТЭМ едет в Новоалексеевку …
Концерт «Березки» в марте 1966 года сыграл огромную роль для дальнейшей деятельности ее участников и художественной самодеятельности ХГПИ в целом. Во-первых, с пришедшим пополнением произошло примерно то же, что и с участниками І концерта 1960-го года: их настолько вдохновил успех, что практически все без исключения уже не мыслили себя вне коллектива и начали думать о будущих выступлениях, о том, что бы еще предложить такое, что смогло бы удивить зрителей и способствовало росту популярности ансамбля. Во-вторых, слухи об успешном выступлении «Березки» подтолкнули в наши коллективы много способных ребят и девчат. Так, осенью 1966 года, как я уже говорил выше, к нам явился балагур и весельчак биолог Сеня Могилянский, которого мы задействовали сразу в нескольких жанрах. Примерно в то же самое время появился Юра Соколов, отличавшийся неплохим чувством юмора, умением легко перевоплощаться. Тогда же к нам пришел и первокурсник естественного факультета Юра Грибун, симпатичный черноглазый и улыбчивый юноша, который до этого пробовал силы в школьном СТЭМе. Возвратился в наш ансамбль после службы в армии участник первых трех концертов «Березки» Гера Везумский. Вместе с ним явился также после демобилизации Гриша Кутник, который больше внимания уделял спорту и после окончания института был назначен директором школы №8, потом №49. В-третьих, появилось несколько солистов и музыкантов женского пола. Например, Саша Граф разыскал на первом математическом миниатюрную Галочку Яценко, которая влилась в состав эстрадного ансамбля как пианистка, появилось несколько студенток, желающих петь на институтских вечерах под ансамбль. В тех случаях, когда у исполнительниц были ноты предлагаемых ими песен, Саша расписывал партии для всех инструментов, если же нот не было или требовалось менять тональность, от аккомпанемента ансамбля приходилось отказываться и заменять его выступлением солиста под аккордеон или трио (аккордеон, ударник, гитара-ритм). Впрочем, нас это тоже устраивало, так как появилась возможность проводить в институтском актовом зале так называемые концерты по заявкам: конферансье объявлял заказчика песни (преподавателя, студента, лаборанта, работника отдела института), а затем фамилию и имя исполнителя или исполнителей. Поскольку мы серьезно относились к подготовке номеров, наши концерты по заявкам проходили с большим успехом и собирали, как правило, полный зал зрителей. Позднее к подобным концертам по заявкам добавилось проведение 1-го апреля Вечеров смеха, во время которых веселые песенные номера дополнялись многочисленными сценками, монологами, скетчами в исполнении стэмовцев. Особый успех имела шутка «Сорок восемь», когда двое плотных стэмовцев выходили на авансцену и, хлопая в ладоши, произносили громко: «Сорок восемь». За ними появлялась хрупкая девушка и начинала назойливо спрашивать ребят, что такое «сорок восемь»? После нескольких таких вопросов, стэмовцы аккуратно брали ее на руки и не менее аккуратно бросали в зал, где любопытную ловили другие два мощных юноши. После этого броска те, кто бросал, продолжали хлопать в ладоши и произносить уже: «Сорок девять», «Сорок девять», «Сорок девять». Поскольку бросок и ловля героини совершалась очень четко, с соблюдением техники безопасности, шутка всегда вызывала бурный восторг у зрителей.
Следует сказать, что концерты нашего СТЭМа и солистов, проходили не только в актовом зале ХГПИ, а и в помещениях других учебных заведений: сельхозинститута, судомеха, культпросвета. Поэтому, когда ректорат с подачи комитета комсомола и студенческого профкома поощрил нас поездкой в институтский спортлагерь в Новоалексеевке Скадовского района (теперь этот поселок носит название «Лазурное»), областной комитет комсомола по просьбе В.Г.Чарнецкого охотно выделил служебный автобус для доставки стэмовцев в загадочную Новоалексеевку с ее чистым пустынным побережьем, крабовыми озерами, островом Джарылгач. Многие из приехавших тогда с нами впервые увидели и ощутили на себе медуз, ночную лунную дорожку на поверхности моря. Незабываемыми были походы за крабами, которых тогда водились несметное количество в озерах, располагавшихся западнее позднее выстроенного пансионата «Черномор». Завершались такие походы, как правило, вечерними кострами с приготовлением вареных крабов, креветок, естественно, с песнями под гитару или аккордеон.
На третий день пребывания в Новоалексеевке состоялось торжественное открытие лагерной смены. Проводилось оно возле флагштока, размещавшегося в центре студенческого лагеря. По периметру площадки выстроились студенты, строившие первые домики «Буревестника», театр миниатюр и члены нескольких семей сотрудников ХГПИ, получивших в профкоме путевки. Ректор института П.Е Богданов поздравил присутствующих с началом отдыха на берегу моря, рассказал о задачах, стоящих перед стройбригадой и дал команду поднять флаг. Красное полотно медленно пошло вверх по флагштоку под звуки гимна Советского Союза, исполнявшегося трио в составе: Чарнецкий В.Г. (труба), Берман В.П. (аккордеон), Сироткин Юрий (малый барабан). Выглядело это не совсем традиционно (ведь обычно осуществлять подъем стяга принято под магнитофонную запись государственного гимна), но достаточно торжественно, тем более, что Вася, как опытный музыкант со стажем, вел мелодию очень громко и точно, я не менее точно при помощи аккордов воспроизводил гармонию, а Юра четко обозначал ритм, дополняя равномерные удары палочек по барабану мелкой дробью, призванной усиливать торжественность момента. Добавлю, что подобный необычный музыкальный ход мы с Васей повторили много лет спустя, когда, будучи деканом и заместителем декана факультета, во время отчетного концерта физмата на университетском фестивале художественной самодеятельности вышли на сцену с аккордеоном и трубой и спели в два голоса песню «Джери»: Вася на болгарском языке исполнял запев, я вторил ему во время припева, проигрыш вступления и повтор припева производился на аккордеоне и трубе. По-видимому, появление на сцене двух седовласых доцентов-руководителей физмата, необычное сочетание инструментов, неожиданное и достаточно сносное звучание настолько удивили профессиональное жюри, в состав которого входили авторитетные музыканты-преподаватели нового факультета культуры и искусства, что оно присвоило нам звание лауреатов фестиваля и рекомендовало для выступления на заключительном гала-концерте, состоявшемся в киноконцертном зале «Юбилейный»…
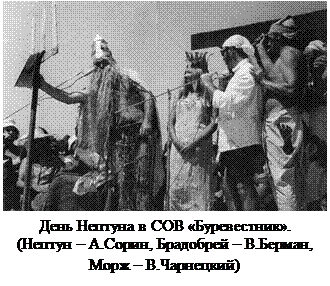 Из мероприятий, состоявшихся в «Буревестнике» в августе 1966-го года, хорошо запомнился подготовленный силами СТЭМа праздник моря. Начинался он с проведения на побережье красочного костюмированного представления «Нептун – 1966», в котором свиту царя морских глубин реально изображали студенты – строители. Среди них особенно запомнились физики Жора Макарченко, игравший роль Нептуна, Боря Цуканов, будущий доктор психологических наук, который изображал Брадобрея, слугу царя моря, а также математик Юра Пальщин – Морж его Величества. В костюмы пиратов и чертей вырядились другие студенты –строители (Богдан Яцына, Николай Верещака, Толя Зубко, Толя Фенин) и стэмовцы Юра Сироткин, Володя Фридсон. Девчонки-стэмовки Света Кравченко, Света Гаричева, Лора Завгородняя, Люда Бондарева, Наталия Вершинина облачились русалками. По приказу Нептуна пираты приводили на царский подиум – возвышение кого-то из зрителей. Последним задавали каверзные вопросы и в случае неудачного ответа купали в море, «брили», ставили ведерную «клизму» или взымали откуп в виде исполнения песни, танца, басни, анекдота, а потом «причащали» сухим вином. Признаюсь, что поскольку мы с Васей впервые наблюдали подобное мероприятие, то наше участие в проведении этой части праздника свелось практически только к “причащению”. Но наши зрительские наблюдения и приобретенный опыт не пропали даром. В последующие годы мы неоднократно приезжали в Лазурное специально для организации и проведения праздника Нептуна, для участия в котором привлекали взрослых и детей, студентов и сотрудников, земляков и приезжих – всех тех, кто дружит с юмором, любит веселье и улыбку. Причем уже с первых попыток нашего приобщения к проведению указанного праздника стремились включить в сценарий музыку, песни. Поэтому нередко в составе свиты Нептуна появлялись действующие лица с гитарой, баяном или аккордеоном, а то и сразу с несколькими инструментами. Чтобы тексты диалогов и музыкальных вставок становились достоянием всех присутствующих на празднике зрителей, мы стремились соответствующим способом обеспечить усиление звука. Поначалу такого усиления добивались с помощью мегафона, а после того, как на главной алее «Буревестника» установили столбы электроосвещения, появилась возможность протягивать кабель в зону пляжа и озвучивать подготовленное шоу при помощи микрофона и усиливающей аппаратуры. Безусловно, наличие техники качественно улучшало восприятие всего происходящего на «сцене», помогало создать нужный настрой зрителей и обеспечить их активное участие в мероприятии. Так, например, многие отдыхающие «Буревестника» в 70-е годы после проведения праздника Нептуна с энтузиазмом воспроизводили услышанные ими фрагменты песни Моржа «Если б я был Нептун», арии Брадобрея «Как хорошо быть брадобреем», а дети распевали куплеты пиратов и пытались повторять отдельные фрагменты танца русалок...
Из мероприятий, состоявшихся в «Буревестнике» в августе 1966-го года, хорошо запомнился подготовленный силами СТЭМа праздник моря. Начинался он с проведения на побережье красочного костюмированного представления «Нептун – 1966», в котором свиту царя морских глубин реально изображали студенты – строители. Среди них особенно запомнились физики Жора Макарченко, игравший роль Нептуна, Боря Цуканов, будущий доктор психологических наук, который изображал Брадобрея, слугу царя моря, а также математик Юра Пальщин – Морж его Величества. В костюмы пиратов и чертей вырядились другие студенты –строители (Богдан Яцына, Николай Верещака, Толя Зубко, Толя Фенин) и стэмовцы Юра Сироткин, Володя Фридсон. Девчонки-стэмовки Света Кравченко, Света Гаричева, Лора Завгородняя, Люда Бондарева, Наталия Вершинина облачились русалками. По приказу Нептуна пираты приводили на царский подиум – возвышение кого-то из зрителей. Последним задавали каверзные вопросы и в случае неудачного ответа купали в море, «брили», ставили ведерную «клизму» или взымали откуп в виде исполнения песни, танца, басни, анекдота, а потом «причащали» сухим вином. Признаюсь, что поскольку мы с Васей впервые наблюдали подобное мероприятие, то наше участие в проведении этой части праздника свелось практически только к “причащению”. Но наши зрительские наблюдения и приобретенный опыт не пропали даром. В последующие годы мы неоднократно приезжали в Лазурное специально для организации и проведения праздника Нептуна, для участия в котором привлекали взрослых и детей, студентов и сотрудников, земляков и приезжих – всех тех, кто дружит с юмором, любит веселье и улыбку. Причем уже с первых попыток нашего приобщения к проведению указанного праздника стремились включить в сценарий музыку, песни. Поэтому нередко в составе свиты Нептуна появлялись действующие лица с гитарой, баяном или аккордеоном, а то и сразу с несколькими инструментами. Чтобы тексты диалогов и музыкальных вставок становились достоянием всех присутствующих на празднике зрителей, мы стремились соответствующим способом обеспечить усиление звука. Поначалу такого усиления добивались с помощью мегафона, а после того, как на главной алее «Буревестника» установили столбы электроосвещения, появилась возможность протягивать кабель в зону пляжа и озвучивать подготовленное шоу при помощи микрофона и усиливающей аппаратуры. Безусловно, наличие техники качественно улучшало восприятие всего происходящего на «сцене», помогало создать нужный настрой зрителей и обеспечить их активное участие в мероприятии. Так, например, многие отдыхающие «Буревестника» в 70-е годы после проведения праздника Нептуна с энтузиазмом воспроизводили услышанные ими фрагменты песни Моржа «Если б я был Нептун», арии Брадобрея «Как хорошо быть брадобреем», а дети распевали куплеты пиратов и пытались повторять отдельные фрагменты танца русалок...
А вечером праздник моря продолжался в столовой, над входом в которую стэмовцы прикрепили яркий плакат-вывеску, превративший пункт питания спортлагеря в кафе «Медуза». Интерьер последнего был украшен дюжиной не менее ярких рисунков морского содержания и текстов соответствующих поговорок и высказываний: «Не зная брода, не лезь в воду!», «Пьяному море по колено?», «Семь футов под килем», «По морям, по волнам!», «Раскинулось море широко» и др. Характеру праздника соответствовало меню, которое предусматривало четыре блюда: 1) селедку с картофелем в «мундирах»; 2) уху; 3) жареный хек с гречневой кашей; 4) сухое вино «Слеза русалки». А в самом кафе ведущие Татьяна Михайлова и Светлана Кравченко проводили игры, конкурсы. Вначале присутствующих в зале они поделили на две команды А и Б, после чего провели аукцион «Песни о море», затем «Кинофильмы о море и моряках», танцевальный марафон «Яблочко». В заключение было выступление стэмовцев с программой «Студент всегда студент, а не только на сессии», разбавленное песнями солистов Фридсона В. и Бондаревой Л.
Наступил 1967 год – год 50-летия ХГПИ и предметом заботы общественных организаций института (комитета комсомола, профкома, месткома и парткома) стал ожидаемый юбилей. Предстояла подготовка праздничного вечера, на который планировался приезд гостей из разных городов Союза – министерского начальства, бывших выпускников института- ученых, партийных и профсоюзных функционеров, директоров школ, учителей, коллег из соседних ВУЗов. Естественно, на вечере предполагалось присутствие руководителей города и области, которым следовало бы показать достижения ВУЗа – в науке, в учебе, в спорте, в художественной самодеятельности. Поэтому после встречи Нового года все подразделения ХГПИ приступили к оформлению юбилейных альбомов, стендов, фотомонтажей, выставок печатных работ сотрудников и студентов, выставок поделок, выполненных будущими учителями (моделей, наглядных пособий, опытных установок). Определенные задачи были поставлены и перед творческими коллективами. Предстояло подготовить серьезные песни, сценки идеологического звучания, сложные музыкальные композиции. Так, Саша Граф приступил к написанию фантазии на темы популярных песен советских композиторов, в том числе Н. Богословского, Э.Колмановского, А.Пахмутовой и других. Сергей Семенович Москвичев планировал спеть «Два кольори», «Очі волошкові». Сеня Могилянский – песню Джорджа Марьяновича о Великой Отечественной войне. Для того, чтобы эстрадный ансамбль выглядел солидно и достаточно профессионально, на период подготовки к концерту был приглашен опытный руководитель, известный в Херсоне музыкант Виля Фабрицкий, который осуществил аранжировку исполняемых произведений и заставил совсем по-другому звучать духовые инструменты: две трубы (В.Чарнецкий и В.Прокопец) и три саксофона (В.Фабрицкий, А.Граф, А.Миценко).
Выступление ансамбля и солистов прошло отлично: В.Фабрицкий был достаточно требовательным и жестким руководителем и довел действия музыкантов до автоматизма. Впрочем, не обошлось без казусов. На время исполнения песни Д.Марьяновича контрабасист С. Могилянский должен был, как планировалось, передать инструмент А.Кузнецову и выйти к микрофону. Но Толя несколько замешкался и… постеснялся выходить на сцену. А поскольку номер уже был объявлен, Семену оставалось одно: опереть контрабас о пианино и направиться к микрофону. Но как только он это сделал, огромный инструмент неожиданно пополз вниз и, издав громкий хлопок, резко опустился на пол. Благо оркестранты не проявили заметного беспокойства по поводу случившегося и четко заиграли вступление, а солист Могилянский пел так, как будто ничего не произошло. Поэтому и зрители в зале спокойно отнеслись к падению контрабаса. Но когда номер закончился, и оркестранты с инструментами ушли за кулисы, голубоглазому красавцу «Кузе» вряд ли кто мог позавидовать: во взглядах всех без исключения музыкантов было столько негодования, столько осуждения, что он не пытался более полугода ни оправдываться, ни, по крайней мере, объяснить, что с ним произошло, чем вызван был произошедший с ним на юбилейном концерте «бзык».
В полном составе эстрадный ансамбль выступал лишь на самых ответственных мероприятиях, например, на новогоднем студенческом балу. Чаще всего играть приходилось в уменьшенном составе (аккордеон, труба, гитара-ритм, ударник). Это придавало ансамблю мобильности, не исключало привлечения к выступлению солистов. Все состоявшиеся в 1967-м году концерты вряд ли смогу перечислить. Но вот об одном из таких выступлений не рассказать нельзя. Оно состоялось на вечере интернациональной дружбы, организованном на филологическом факультете, который в 1966 году начал подготовку учителей русского языка для средних школ Узбекской ССР и Каракалпакской автономной СР.
Целью вечера, на который были пригашены ректорат, члены парткома, ведущие преподаватели института, было знакомство с многонациональной группой студентов, прибывших на учебу в Херсон «из Узбекистана». Планировалось представить несколько песен Востока, и, главное, национальные кухни узбеков, казахов, каракалпаков, корейцев, татар и других народов, проживающих в Средней Азии. Большой стол ломился от изобилия восточных блюд и сладких ароматных фруктов, невероятный запах шел от настоящего узбекского плова, казахского бешбармака, татарского лагмана, корейской острой моркови, экзотических бухарских дынь и много другого необычайно вкусного, незнакомого, чего приглашенные никогда ранее не видели и не пробовали.
 К сожалению, организаторы вечера не учли, что острые блюда вызовут жажду и не предусмотрели никаких напитков, кроме чая. Павел Егорович Богданов, обращаясь к члену парткома Юрию Сергеевичу Никольскому, сказал с сожалением: «Под такую вкуснятину 100 грамм наркомовских не помешали бы». Услышав эту фразу, тогдашний декан литфака попытался возразить: «Так Вы ж такого указания не давали!», на что ректору оставалось лишь возразить: «А Вы, что, сами не догадались?».
К сожалению, организаторы вечера не учли, что острые блюда вызовут жажду и не предусмотрели никаких напитков, кроме чая. Павел Егорович Богданов, обращаясь к члену парткома Юрию Сергеевичу Никольскому, сказал с сожалением: «Под такую вкуснятину 100 грамм наркомовских не помешали бы». Услышав эту фразу, тогдашний декан литфака попытался возразить: «Так Вы ж такого указания не давали!», на что ректору оставалось лишь возразить: «А Вы, что, сами не догадались?».
Чтобы поднять настроение организаторам и гостям, мы сразу же заиграли. Вначале украинские песни, а затем кое-что из среднеазиатского репертуара: «Казахский вальс», который когда-то исполняла народная артистка Казахстана Байсеитова, а также песню «Ай-да, Галя и Усман, Украина и Узбекистан!». Было приятно, что обе эти песни оказались знакомы прибывшим на учебу в Херсон, и некоторые из них стали подпевать ансамблю.
 Повествуя о пединовской самодеятельности 1966-1967 г.г., хочется вспомнить о первом директоре клуба ХГПИ Николае Арсентиевиче Карпенко, благодаря которому обеспечивалась сохранность костюмов, музыкальных инструментов, радиоаппаратуры. Он искренне переживал, когда случались технические неполадки (фонил микрофон, отключался звук, мигали софиты из-за отсутствия хорошего контакта и т.д.). А потому много внимания уделял ремонту розеток, соединительных шнуров, переходников, динамиков, усилителей, звукоснимающих элементов, проигрывателей, магнитофонов. Следил он и за состоянием кресел в актовом зале, вешалок в раздевалке и своевременной уборкой помещений.
Повествуя о пединовской самодеятельности 1966-1967 г.г., хочется вспомнить о первом директоре клуба ХГПИ Николае Арсентиевиче Карпенко, благодаря которому обеспечивалась сохранность костюмов, музыкальных инструментов, радиоаппаратуры. Он искренне переживал, когда случались технические неполадки (фонил микрофон, отключался звук, мигали софиты из-за отсутствия хорошего контакта и т.д.). А потому много внимания уделял ремонту розеток, соединительных шнуров, переходников, динамиков, усилителей, звукоснимающих элементов, проигрывателей, магнитофонов. Следил он и за состоянием кресел в актовом зале, вешалок в раздевалке и своевременной уборкой помещений.
Хозяйскую жилку Николая Карпенко подметили не только участники самодеятельности, а и институтское руководство. В результате он примерно в 1969 году был назначен директором СОЛ «Буревестник», где также проявил себя с лучшей стороны: заботился об улучшении качества питания в лагерной столовой, стремился ежегодно улучшать интерьер комнат в домиках отдыхающих, усилил внимание озеленению территории лагеря, ремонту пляжных грибков и навесов. При нем существенно продвинулась электрификация центральной аллеи «Буревестника», ведущей в морю. Николай Арсентиевич очень заинтересованно вел себя, когда в «Буревестнике» проводился праздник Нептуна: помогал оборудовать постамент для выступления «артистов», обеспечивать музыкальное сопровождение шоу, работу микрофонов, усилителя и динамиков. К сожалению, успехи Карпенко на посту начальника «Буревестника» не получили должной поддержки со стороны тогдашних главбуха и проректора по АХЧ, поэтому через несколько лет Николай перешел на постоянную работу начальником соседнего пансионата «Славутич», где всегда по-доброму относился к сотрудникам ХГПИ, при необходимости охотно помогал пединовцам в организации отдыха друзей и родственников.
 2015-07-04
2015-07-04 973
973







