(Вместо заключения)
Предыдущею главою я, собственно говоря, кончил принятую на себя задачу. Частный случай — ход шлезвиг-голштинского вопроса сравнительно с ходом вопроса восточного перед Крымскою войною — дал мне повод выставить на вид враждебность Европы к России и Славянству. Затем старался я объяснить причины этой враждебности, которая только с особенною ясностью и общностью выразилась в этом деле, но проникает и обнимает собою все отношения Европы к Славянству, от самых частных до самых общих сфер. Это исследование привело к тому заключению, что враждебность эта кроется в глубокой розни, существующей между мирами славянским и германо-романским,— розни, которая проникает до самых оснований общего плана развития всемирной истории. Только ложное, несообразное с истинными началами научно-естественной систематизации явлений понимание общего хода истории, отношения национального к общечеловеческому и так называемого прогресса могли привести к смешению понятий частной европейской, или германо-романской, цивилизации с цивилизацией обще- или, правильнее, всечеловеческою; оно породило пагубное заблуждение, известное под именем западничества, которое, не сознавая ни тесного общения между Россией и Славянством, ни исторического смысла этого последнего, отмеривает нам и братьям нашим жалкую, ничтожную историческую "роль подражателей Европы, лишает нас надежды на самобытное культурное "значение, т. е. на великую историческую будущность. После этого общего, так сказать, теоретического, взгляда я старался развить и дополнить его указаниями на главные стороны различия между славянским и германо-романским культурно-историческими типами и на гибельные следствия, к которым привело нас это западничество, или европейничанье, на практике, составив ту болезнь, которою страдает русское общественное тело, болезнь, под которую подводятся все наши общественные недуги. 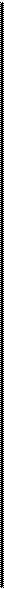 Лекарством от этой болезни может служить, по нашему мнению, только целебная сила самых исторических событий, которая одна только и может поднять дух нашего общества, страдающего именно упадком и принижением духа. Излечение возможно и вероятно потому, что болезнь, по счастью, не проникла еще далее поверхности общественного слоя. Это одаренное целебною силою событие, или, точнее, целый ряд событий, видим мы в последнем действии борьбы, известной под именем восточного вопроса, основания которого лежат глубоко в общем ходе всемирного исторического развития,— в борьбе, которая в непродолжительном времени должна наложить печать свою на целый исторический период. Важность этой неминуемо предстоящей борьбы заставила нас вникнуть как в те возражения, которые делаются против единственно полезного для славянства решения ее, заключающегося в полном политическом освобождении всех славянских народов и в образовании Всеславянского союза под гегемонией России, так и в залоги нашего успеха в этой борьбе.
Лекарством от этой болезни может служить, по нашему мнению, только целебная сила самых исторических событий, которая одна только и может поднять дух нашего общества, страдающего именно упадком и принижением духа. Излечение возможно и вероятно потому, что болезнь, по счастью, не проникла еще далее поверхности общественного слоя. Это одаренное целебною силою событие, или, точнее, целый ряд событий, видим мы в последнем действии борьбы, известной под именем восточного вопроса, основания которого лежат глубоко в общем ходе всемирного исторического развития,— в борьбе, которая в непродолжительном времени должна наложить печать свою на целый исторический период. Важность этой неминуемо предстоящей борьбы заставила нас вникнуть как в те возражения, которые делаются против единственно полезного для славянства решения ее, заключающегося в полном политическом освобождении всех славянских народов и в образовании Всеславянского союза под гегемонией России, так и в залоги нашего успеха в этой борьбе.
Начав с общих историко-философских соображений, я спустился, таким образом, в область частного, политического, указывая на тот путь, которым Россия и Славянство ведутся и должны, наконец, привестись к осуществлению тех обещаний, которые даны им их этнографическою основою, теми особенностями, которые отличают их в числе прочих семейств великого арийского племени. Этим могли бы мы, следовательно, заключить наши исследования, но нам остается еще исполнить данное выше обещание. В одной из предыдущих глав мы сказали, что неверующие в самобытность славянской культуры возражают против нее вопросом: «В чем же именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее искусства, ее гражданского и общественного строя?» Отклонив это требование в такой форме как нелепое, ибо удовлетворительный ответ на этот вопрос сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним, я обещал, однако, и на него ответить в общих чертах, насколько это возможно сделать на основании существенного характера доселе бывших цивилизаций, в сравнении с теми зачатками ее, которые успели уже выразиться в славянском культурно-историческом типе. Теперь пришло время исполнить это обещание, и это заставляет меня снова обратиться в область общих исторических соображений.
В таком крайне трудном, так сказать гадательном, деле, как характеристика будущего хода культурно-исторического движения — хотя бы то было в самых общих чертах – нам не остаётся иного пути, чтобы не впасть в совершенно бессодержательные мечтания, как подвести под самые общие категории деятельность прошедших культурно-исторических типов, уже довершивших свое дело, или, по крайней мере, уже ясно обозначавших свое направление, так сказать, сосредоточить исторические результаты их жизни в возможно краткие и всеобъемлющие формулы. Затем сравнить эти общие достигнутые ими категории результатов с теоретическими требованиями от полного и всестороннего хода исторического движения. Таким образом могут быть выяснены исторические desiderata (пожелания – лат.). Сравнение их с культурными задатками, которые славянство успело уже проявить в своей исторической жизни, должно показать, насколько вправе мы ожидать в будущем осуществления этих desiderata от дальнейшего хода славянского развития, если оно пойдет правильным, вышеуказанным нами путем, на котором первый необходимый шаг есть достижение полной политической независимости, а вместе и славянского единства, сообразно с требованиями 2-го и 4-го законов развития культурно-исторических типов.
Прежде всего предстоит нам, следовательно, прибегнуть к установлению тех общих категорий, под которые подводились бы естественным образом все стороны народной деятельности, которые обнимали бы собою все разнообразные обнаружения исторической жизни, обозначаемые словами культура и цивилизация.
Общих разрядов культурной деятельности в обширном смысле этого слова (не могущих уже быть подведенным один под другой, которые мы должны, следовательно, признать за высшие категории деления) насчитывается не более не менее четырех, именно:
1. Деятельность религиозна, объемлющая собою отношения человека к Богу,— понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека.
2. Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объемлющая отношения человека к внешнему миру, во-первых, теоретическое — научное, во-вторых, эстетическое — художественное (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и сам человек как предмет исследования, мышления и художественного воспроизведения) и, в-третьих, техническое – промышленное, то есть добывание и обработка предметов внешнего мира, применительно к нуждам человека и сообразно с пониманием как этих нужд, так и внешнего мира достигнутым путем теоретическим.
3. Деятельность политическая, объемлющая собою отношения людей между собою как членов одного народного целого, и отношения людей этого целого как единицы высшего порядка к другим народам. Наконец –
4. Деятельность общественно-экономическая - объемлющая собою отношения людей между собою не непосредственно как нравственных и политических личностей, а посредственно — применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, следовательно, и добывания и обработки их.
Нам следует теперь рассмотреть, в какой мере каждый из культурно-исторических типов, жизнь которых составляет содержание всемирной истории, проявлял свою деятельность по этим общим категориям, на которые эта деятельность разделяется, и каких достигал в ней результатов.
Первые культуры: египетскую, китайскую, вавилонскую, индийскую и иранскую мы можем по всей справедливости назвать первичными, или аутохтонными, потому что они сами себя построили, так сказать, сосредоточив на разных точках земного шара слабые лучи первобытной догосударственной деятельности человечества. Они не проявили в особенности ни одной из только что перечисленных нами сторон человеческой деятельности, а были, так сказать, культурами подготовительными, имевшими своею задачей выработать условия, при которых вообще становится возможною жизнь в организованном обществе.
Все было в них еще в смешении; религия, политика, культура, общественно-экономическая организация еще не выделились в особые категории деятельности, и напрасноприписывают этим первобытным цивилизациям-—в особенности египетской и индийской — специально религиозный характер. Конечно, в эти первобытные времена, коша анализ играл еще весьма слабую роль в умственной деятельности человека, находившегося под подавляющим влиянием великого целого, мистико-религиозное направление проникало весь строй тогдашнего общества; но это значит только, что религиозная область, как и все прочие, еще не выделилась, не обособилась. Астрономические занятия халдейских жрецов, геометрические — египетских были такими же священнодействиями, как и совершение религиозных церемоний. Касты объяснялись и оправдывались происхождением людей из различных частей тела Брамы. Если в таких примерах можно видеть доказательства вмешательства религии в науку и в общественно-экономический строй, то с таким же точно правом можно утверждать вмешательство науки и экономического общественного строя в религию,— как оно и на самом деле было. В Китае, прозаическое, реальное направление которого не давало такого простора мистико-религиозным воззрениям, тем не менее, существует тоже смешение религиозной с прочими сферами деятельности: земледелие есть священнодействие. Но так же точно смешаны наука и политика; так, например, экзамен есть единственное средство повышения в служебной иерархии, астрономические наблюдения составляют предмет государственной службы. Несправедливо поэтому называть древние Египетское и Индийское государства теократиями. В Индии, как известно, духовная каста — брамины — были совершенно чужды политического честолюбия. Честолюбие и гордость их были совершенно иного характера; они почитали свое духовное призвание, религиозное, научное, художественное, чем-то несравненно высшим грубого, земного политического дела, которое и предоставляли низшим кастам, требуя для себя лишь почета, а не власти. В том же роде было и влияние египетских жрецов.
Религия выделилась как нечто особенное и вместе высшее только в цивилизации еврейской и была всепроницающим ее началом. Только религиозная деятельность еврейского народа осталась заветом его потомству. Религия эта была беспримесная, а только сама налагала на все свою печать, и все остальные стороны деятельности оставались в пренебрежении; и в них евреями не произведено ничего заслуживающего внимания их современников и потомства. В науке они даже не заимствовали ничего от своих соседей — вавилонян и египтян; из искусств процветала у них одна лишь религиозная поэзия; в других отраслях художественной деятельности, так же как и в технике, они были столь слабы, что даже для постройки и украшения храма Иеговы — центра их народной жизни — должны были прибегнуть к помощи финикиян. Политическое устройство еврейского народа было до того несовершенно, что он не мог даже и охранять своей независимости не только против могущественных государств, как Вавилон, Ассирия, но даже против мелких ханаанских народов, и вся политическая их деятельность, так же как и самое общественное 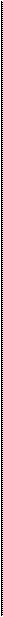
 экономическое устройство, составляли полное отражение их религиозных воззрений. Но зато религиозная сторона их жизни и деятельности была возвышенна и столь совершенна, что народ этот по справедливости называется народом богоизбранным (...).
экономическое устройство, составляли полное отражение их религиозных воззрений. Но зато религиозная сторона их жизни и деятельности была возвышенна и столь совершенна, что народ этот по справедливости называется народом богоизбранным (...).
Подобно тому как еврейская культура была исключительно религиозна, тип эллинский был типом культурным, и притом преимущественно художественно-культурным. Перед этою стороною развития отступали все остальные на задний план. Можно даже сказать, что в самом психическом строе древних греков не было пригодной почвы, на которой могла бы развиваться экономическая, политическая и религиозная стороны человеческой деятельности. Этому, столь богато одаренному в культурном отношении, народу недоставало ни экономического, ни политического, ни религиозного смысла. Об общественно-экономической стороне развития нечего много распространяться. Народ, у которого рабство было не только случайным, временным явлением, так сказать, подготовительным процессом для достижения иных высших форм общественного устройства, а фундаментальным фактом, на котором опиралась вся их политическая и умственная жизнь, со всею ее философскою гуманностью и эстетическою роскошью, такой народ не мог содействовать развитию социально-экономической идеи.
В политическом отношении греки не могли даже возвыситься до сознания политического единства своего племени, хотя они и сознавали себя особою культурною единицей в противоположность всем остальным народам-варварам. Только персидская гроза, при общей опасности, зажгла в них общий греческий париотиозм, но и то весьма несовершенным образом. Спартанцы умышленно опоздали на Марафонское поле; Аргос и Виотия от страха покорились Ксерксу и не участвовали в борьбе против него; пелопоннесцы настаивали на том, чтобы предать в жертву врагам материковую Грецию и защищаться на Коринфском перешейке. Когда с исчезновением опасности прошел и патриотический энтузиазм, политическая история Греции обращается опять в историю внутренних раздоров и междоусобных войн по самым жалким и ничтожным причинам. Из-за своих эгоистических видов, из-за узкой идеи преобладания ищут спартанцы помощи персов. Заметим, что это делалось не во времена первобытной грубости и дикости нравов и не во времена упадка, а в самое цветущее время умственного развития греков. Знаменитый Демосфен, не понимая положения вещей, не имея смысла для постижения общегреческой идеи, употребляет свое красноречие, дары увлечь афинян на гибельный путь сопротивления Филиппу; и афиняне, столь же лишенные политического смысла, следуют его советам, а не Фокионовым. И так продолжается дело до самого покорения римлянами.
Подобным же образом и религиозное учение греков выказывает отсутствие истинного религиозного смысла и чувства. Их религиозное мировоззрение одно из самых мелких и жалких и совершенно недостойно народа, занимающего такое высокое место в философском мышлении. Из трех сторон религии, которыми она удовлетворяет трем сторонам человеческого духа — догматики, этики и культа,— только этот последний, соответственно художественной организации греков, имеет действительное значение. Догматика их не представляет ни глубины, ни стройности; собственно говоря, не имеет даже никакого содержания, ибо не заключает в себе ни метафизики, ни космогонии, ни учения о духовной сущности мира, ни теории его происхождения. Учение о мироправительном Промысле чуждо этой догматике; и высшая идея, до которой могло возвыситься религиозное миросозерцание греков, состоит в слепом, бессознательном фатуме, в олицетворении закона физической необходимости. Сообразно с этою бедностью догматического содержания и этическая сторона не имеет почвы, основания. Она не представляет нам свода нравственных правил, освященных высшим божественным авторитетом, который служил бы непреложным руководством в практической деятельности. История похождений их божеств, которая могла бы заменить нравственный кодекс живым примером, есть скорее школа безнравственности и соблазна. Во всех этих отношениях религия греков не может выдержать никакого сравнения ни с философским пантеизмом браманизма, где под грубыми формами всегда скрывается глубокий смысл, ни с глубокою метафизикой буддизма, ни с возвышенным учением Зороастра, ни со строгим единобожием магометанства. Религия играла столь невидную роль в греческой жизни, что никогда не имела своего Священного писания, ибо нельзя же назвать этим именем Гесиодову «Феогонию» — скорее систематизированный сборник народных легенд, чем религиозный кодекс, своего рода Четьи-Минеи, а не Библия, которой притом же не приписывалось никакого авторитета.
Все эти религиозные сказания служили лишь материалом для воплощения художественной фантазии греков и возводились при посредстве ее в художественные типы прекрасного, без всякого таинственного и нравственного  значения. Сообразно с таким значением греческой религии и носит она на языке всех народов название мифологии, по преимуществу, то есть мифологии, которая не служит оболочкою чему-то высшему — сокровенному, а заключает в себе уже все свое содержание и есть сама себе цель,— одним словом, есть тело без души. Религия греков есть, собственно говоря, поклонение самодовлеющей красоте, и потому от нее веет эпикуреизмом, который и есть, собственно, особенное греческое мировоззрение — их национальная философия, проявлявшаяся во всей их практической жизни и прежде и после того, как она была формулирована Эпикуром. Нравственность их заключалась единственно в чувстве меры, которое и есть все, что может дать эстетическое мировоззрение. Но это чувство меры — скорее основной принцип искусства наслаждаться жизнью, чем начало нравственно-религиозное, сущность которого всегда заключается в самопожертвовании.
значения. Сообразно с таким значением греческой религии и носит она на языке всех народов название мифологии, по преимуществу, то есть мифологии, которая не служит оболочкою чему-то высшему — сокровенному, а заключает в себе уже все свое содержание и есть сама себе цель,— одним словом, есть тело без души. Религия греков есть, собственно говоря, поклонение самодовлеющей красоте, и потому от нее веет эпикуреизмом, который и есть, собственно, особенное греческое мировоззрение — их национальная философия, проявлявшаяся во всей их практической жизни и прежде и после того, как она была формулирована Эпикуром. Нравственность их заключалась единственно в чувстве меры, которое и есть все, что может дать эстетическое мировоззрение. Но это чувство меры — скорее основной принцип искусства наслаждаться жизнью, чем начало нравственно-религиозное, сущность которого всегда заключается в самопожертвовании.
Столь же односторонен, как греческий и еврейский культурно-исторические типы, был и тип римский, развивший и осуществивший с успехом одну лишь политическую сторону человеческой деятельности. Политический смысл римлян не имеет себе подобного. Небольшое зерно кристаллизирует около себя племена Лациума и подчиняет себе мало-помалу, постепенно, систематически, а не завоевательными порывами — весь бассейн Средиземного моря и всю западную европейскую окраину Атлантического океана. Свободолюбивые римляне никогда, однако же, не теряют дара повиновения, дара подчинения своей личной воли воле общей, для воплощения которой среди республики оставляется ими место для диктатуры, которая у них не политическая случайность, зависевшая от преобладания, приобретаемого честолюбивым дарованием, а правильный институт, имеющий вступать в действие при известных обстоятельствах. Этого мало. Сообразно возрастанию государства они изменяют форму правления, переменяя республику на империю, которая делается учреждением вполне народным, держащимся не внешнею силою,— ибо сколько было слабых, ничтожных императоров,— а волею народною, инстинктивно чувствовавшей необходимость империи для поддержания разросшегося государства в трудные и опасные времена. Взаимные отношения граждан определяются, в продолжение государственной жизни Рима, самым точным и полным образом и составляют собою совершеннейший кодекс гражданских законов.
Но и в Риме, так же как и в Греции, рабство составляет основной, фундаментальный факт общественного строя. Культурная деятельность в тесном смысле этого слова также совершенно незначительна: в науке, в философском мышлении, так же как и в искусствах, за исключением архитектуры, Рим не производит ничего оригинального. Заключалась ли причина этой непроизводительности в самых нравственных, духовных условиях латинской расы или в подражательности римлян, в их порабощении грекам в сфере науки и искусства, это не подлежит теперь нашему разбору; для нас достаточно самого факта.
Сказанное о религии греков относится вполне и к римлянам. Она также бедна внутренним содержанием, лишена глубокого догматического и этического содержания и смысла, также лишена Священного писания; и только по этой бессодержательности мог Рим относиться с таким индифферентизмом ко всей религиозной форме, так что боги всех покоренных народов становились и его богами, национальные божества римлян слились с божествами Греции, став, так сказать, их переводами,— Юпитер сделался синонимом Зевеса, Нептун — Посейдона и так далее. Существенное отличие заключалось лишь в том, что, как сообразно основной черте психического строя греков, их религия получила исключительно эстетический характер,— религия римлян, так же соответственно основным свойствам их мировоззрения и культуры, получила характер политический. Посему те только учения, которые не могли подчиниться такому политическому взгляду на религию, последователи которых не могли поклоняться обожествленному Римскому государству, готовому под этим условием усыновить себе предмет их специального поклонения, претерпевали религиозное гонение.
Таким образом, цивилизации, последовавшие за первобытными аутохтонными культурами, развили каждая только одну их сторон культурной деятельности: еврейская – сторону религиозную, греческая – собственно культурную, а римская – политическую. Поэтому мы должны характеризовать культурно-исторические типы: еврейский, греческий и римский – именем типов одноосновных.
Дальнейший исторический прогресс мог и должен был преимущественно заключаться как в развитии четвертой стороны культурной деятельности — общественно-экономической, так и в достижении большей многосторонности посредством соединения в одном и том же культурном типе нескольких сторон культурной деятельности, проявлявшихся доселе раздельно. На эту более широкую дорогу, более сложную ступень развития и выступил тот тип, который, под именем европейского, или германо-романско 
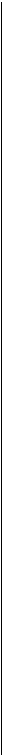
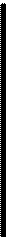
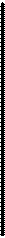

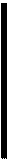
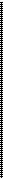 го, главнейшим образом занял историческую сцену после распадения Западной Римской империи.
го, главнейшим образом занял историческую сцену после распадения Западной Римской империи.
Подобно логическому процессу мысли в индивидуальном духовном существе раскрылись и в логическом ходе всемирной истории — путем анализа — отдельные стороны культурного движения из первоначального смешанного (не дифференцированного) состояния, представителями которого были древнейшие государства Азии и Африки; а затем наступил, по-видимому, момент для процесса синтетического слияния в истории германо-романских народов. Обстоятельства времени благоприятствовали осуществлению такого синтезиса. Религиозная истина, в вечной форме христианства, была открыта и усвоена с покорностью и восторгом новыми народами, богатыми дарами духовной природы, к числу которых нельзя не причислить и пламенного религиозного чувства. В этом же религиозном учении скрывалась, как в зерне, необходимость уничтожения рабства; и действительно, оно оказалось лишь переходящею формою быта германо-романских народов. Политическим смыслом и способностью для культурного развития: научного, художественного и промышленного — оказались эти народы также богато одаренными.
Всем этим великим задаткам не суждено было, однако же, осуществиться вполне, и препятствием к сему послужили насильственность их энергического характера и павшее на благоприятную почву сильное влияние римского властолюбия и римского государственного строя. Мы уже видели, как этим путем искажена была христианская истина чрез искажение существенно важного понятия о значении Церкви, которая обратилась в религиозно-политический деспотизм католицизма. Этот церковный деспотизм в соединении с деспотизмом феодальным, коренившимся в насильственности германского характера, и с деспотизмом схоластики, коренившимся в подобострастном отношении к формам древней науки, обратили всю историю Европы в тяжкую борьбу, окончившуюся троякою анархиею: анархиею религиозною, то есть протестантизмом, думавшим основать религиозную достоверность на личном авторитете; анархиею философскою, то есть всеотрицающим материализмом, который начинает принимать характер веры и мало-помалу замещает в умах место религиозного убеждения; анархиею политико-социальною, то есть противоречием между все более и более распространяющимся политическим демократизмом и экономическим феодализмом.
Так как эти анархии суть предвестники и орудия разложения, то и не могут, конечно, считаться живыми вкладами в общую сокровищницу человечества; и германо-романский культурно-исторический тип не может считаться успешным представителем ни религиозной, ни общественно-экономической стороны культурной деятельности.
Напротив того, с политической и собственно так называемой культурной стороны результаты исторической жизни Европы громадны. Народы Европы не только основали могущественные государства, распространившие власть свою на все части света, но и установили отвлеченно-правомерные отношения как граждан между собою, так и граждан к государству. Другими словами, они успели соединить политическое могущество государства с его внутреннею свободою, то есть решили в весьма удовлетворительной степени обе стороны политической задачи. Если свобода эта не дает на практике ожидавшихся и ожидаемых еще результатов, то это зависит от неразрешения или неправильного решения задачи иного, именно общественно-экономического порядка. Хотя, конечно, различные народы Европы не в одинаковой степени обладают этим политическим смыслом, однако же, последние события доказали, что и те из них, которые долго не могли устроить своего политического положения, как итальянцы и немцы, достигли, однако же, наконец, или, по крайней мере, весьма приблизились к достижению политического единства — первого и необходимого условия политического могущества.
Еще выше и обильнее плод европейской цивилизации в собственно культурном отношении. Методы и результаты европейской науки находятся вне всякого сравнения с совершенным всеми остальными культурными типами, не исключая даже греческого. Таковы же плоды и промышленной, технической деятельности. Со стороны искусства, хотя народы Европы и должны уступить пальму первенства грекам по степени совершенства достигнутых результатов, они, однако же, значительно расширили его область и проложили в ней новые пути. По всем этим причинам должны мы усвоить за германо-романским культурно-историческим типом название двуосновного политико-культурного типа, преимущественно научным и промышленным характерами культуры, в тесном смысле этого слова. Обращаюсь теперь к миру славянскому, и преимущественно к России как единственной независимой представительнице его, с тем, чтобы рассмотреть результаты и задатки еще начинающейся только его культурно-исторической жизни, с четырех принятых точек зрения: религии, культу 
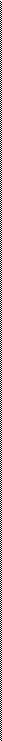
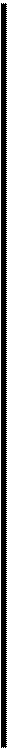
 ры, политики и общественно-экономического строя, дабы таким образом уяснить, хотя бы в самых общих чертах, чего вправе мы ожидать и надеяться от славянского культурно-исторического типа, в чем может заключаться особая славянская цивилизация, если она пойдет по пути самобытного развития?
ры, политики и общественно-экономического строя, дабы таким образом уяснить, хотя бы в самых общих чертах, чего вправе мы ожидать и надеяться от славянского культурно-исторического типа, в чем может заключаться особая славянская цивилизация, если она пойдет по пути самобытного развития?
Религия составляла самое существенное, господствующее (почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее время в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей и поистине нельзя не удивляться невежеству и дерзости тех, которые могли утверждать (в угоду своим фантазиям) религиозный индифферентизм русского народа.
Co стороны объективной, фактической русскому и большинству прочих славянских народов достался исторический жребий быть вместе с греками главными хранителями живого предания религиозной истины — православия и, таким образом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии, быть народами богоизбранными! Со стороны субъективной, психической русские и прочие славяне одарены жаждою религиозной истины, что подтверждается как нормальными проявлениями, так и самыми искажениями этого духовного стремления.
Мы уже указали на особый характер принятия христианства Россией, не путем подчинения высшей по культуре христианской народности, не путем политического преобладания над такою народностью, не путем деятельной религиозной пропаганды, а путем внутреннего недовольства, неудовлетворения язычеством и свободного искания истины.
Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом. С другой стороны, религиозные уклонения, болезни русского народа — раскол старообрядства и секты — указывают: первый — на настойчивую охранительность, не допускающую ни малейших перемен в самой внешности, в оболочке святыни; вторые же, особенно духоборство,— на способность к религиозно-философскому мышлении. У других славянских народов мы видим гуситское религиозное движение — самую чистую, идеальную из религиозных реформ в которой проявлялся не мятежный, преобразовательный дух реформы Лютера, Кальвина, а характер реставрационный, восстановительный, стремившийся к возвращению к духовной истине, некогда переданной св. Кириллом и Мефодием. С другой стороны, и у западных славян в глубоко искажающем влиянии латинства на польский народный характер видим мы опять доказательство, что религиозное учение не скользит у славянских народов по поверхности, а способно выказать на его благодарной ниве вполне все, что в нем заключается; причем посеянное зерно, смотря по его специфическим особенностям, вырастает в добрый плод или в плевелы и волчцы.
Правда, что религиозная деятельность русского народа была по преимуществу охранительно-консервативною, и это ставится ему некоторыми в вину. Но религиозная деятельность есть охранительная по самому существу своему, как это вытекает из самого значения религии, которая или действительное откровение, или, по крайней мере, почитается таковым верующими. На самом деле, или, по крайней мере, во мнении своих поклонников, религия непременно происходит с неба и потому только и достигает своей цели — быть твердою, незыблемою основою практической нравственности, сущность которой состоит не в ином чем, как в самоотверженности, в самопожертвовании, возможных лишь при полной достоверности тех начал, во имя которых они требуются. Всякая же другая достоверность, философская, метафизическая и даже положительно научная, недостижима: для немногих избранных, умственно развитых, потому, что им известно, что наука и мышление незавершимы, что они не сказали и никогда не скажут своего последнего слова, что, следовательно, к результатам их всегда примешано сомнение, возможность и необходимость пересмотра, переисследования, и притом в совершенно неопределенной пропорции; для массы же — по той еще более простой причине, что для нее она недоступна.
Поэтому, как только религия теряет свой откровенный характер, она обращается (смотря по взгляду на достоинство ее догматическо-нравственного содержания) или в философскую систему, или в грубый предрассудок.
Но если религия есть откровение, то очевидно, что развитие ее может состоять в раскрытии истин, изначала в ней содержавшихся, точнейшим их формулированием, по поводу особого обращения внимания на ту или другую сторону, jy или другую часть религиозного учения в известное время от внутренняя причина строго охранительного характера религиозной деятельности всех тех народов, которым религиозная истина была вверена для хранения и передачи в неприкосновенной чистоте другим народам и грядущим поколениям.
Если таков характер истинной религиозной деятельности вообще, то это относится с особенною силою к православному христианству после отделения Западной Церкви. По православному учению непогрешимость религиозного авторитета принадлежит только всей Церкви, а, следовательно, и раскрытие истин, заключающихся в христианстве, может происходить не иначе как путем вселенских соборов — единственных олицетворений Церкви,— собиранию коих с восьмого века препятствовали исторические обстоятельства. Следовательно, строго охранительный образ действия и требовался именно от тех, кому была вверена религиозная истина; иначе порвалось бы живое предание тог»> в каком моменте развития (или, правильнее, раскрытия религиозной истины) находилось вселенское православие перед латинским расколом; затерялась бы та точка, к которой всякий жаждущий истины мог бы обратиться с полною уверенностью, что он найдет в ней всю вселенскую истину — и ничего кроме нее.
С этой точки зрения само русское старообрядство получает значение как живое свидетельство того, как строго проводилась эта охранительность. Где незначительная перемена обряда могла показаться новшеством, возмутившим совесть миллионов верующих, там, конечно, были осторожны в этом отношении; и кто знает, от скольких неблагоразумных шагов удержало нас старообрядство после того, как европейничанье охватило русскую жизнь!
Итак, мы можем сказать, что религиозная сторона культурной деятельности составляет принадлежность славянского культурного типа, и России в особенности, есть неотъемлёмоё его достояние как по психологическому строю составляющих его народов, так и потому, что им досталось хранение религиозной истины; это доказывается как положительною, так и отрицательною стороною религиозной жизни России и Славянства.
Если обратимся к политической стороне вопроса, к тому, насколько славянские народы выказали способности к устройству своей государственности, мы встречаем явление, весьма не ободрительное с первого взгляда. Именно, все славянские народы, за исключением русского, или не успели основать самостоятельных государств, или, по крайней мере, не сумели сохранить своей самостоятельности и независимости. Недоброжелатели славянства выводят из этого их политическую несостоятельность! Такое заключение не выдерживает ни малейшей критики, если даже не обращать внимания на те причины, которые препятствовали доселе славянам образоваться в независимые политические тела, а принять факт, как он существует. Факт этот говорит, что огромное большинство славянских племен, (по. меньшей мере, две трети их, если не более) образовали огромное, сплошное государство, просуществовавшее уже тысячу лет и все возраставшее и возраставшее в силе и могуществе, несмотря на все бури, которые ему пришлось выносить во время его долгой исторической жизни. Одним этим фактом первой величины доказан политический смысл славян, по крайней мере, значительного большинства их.
Когда Германская империя, после не слишком продолжительного века своей славы и могущества, обратилась в политический monstrum (монстр, чудовище), вправе ли были бы мы заключить, что германское племя не способно к политической жизни? Конечно, нет; ибо то же германское племя образовало могущественную Британскую империю, и по одному этому политическое настроение Германии должны бы мы были приписать невыгодным внешним и внутренним условиям, в которых находилась временно эта страна, а не коренной неспособности, что и подтвердилось высказывающим глубокий политический смысл образом действий Пруссии, которого она держится уже с давних времен (по крайней мере, со времени Великого курфюрста) и который увенчался на наших глазах действиями Бисмарка.
В этом суждении о политической неспособности славян сказывается та же недобросовестность или в лучшем случае тот же оптический обман, как и в суждениях о мнимом недостатке единства Русского государства, потому-де, что в состав его входит, может быть, около сотни народов разных наименований. При этом забывается, что все это разнообразие исчезает перед перевесом русского племени, если к качественному анализу явления присоединить и количественный. Если бы все западные и юго-восточные славянские народы были бы действительно неспособны к политической жизни, то все-таки за славянским племенем вообще должен быть бы признан высокий политический смысл ввиду одного лишь Русского государства.
Но справедлива ли мысль о государственной неспособности других славянских народностей, кроме русской? Западные славянские племена еще в эпоху гибкости и мягкости, которыми.отличается этнографический период народной жизни, находились под непрестанным враждебным политическим и культурным воздействием ранее их сложившихся народов германо-романского культурного типа.
Несмотря на это образовалось уже в IХ столетии могущественное Моравское государство, получившее было и зародыши самобытной культуры — в православии и славянской письменности, но которые после были в нем вырваны враждебным немецко-католическим влиянием. Нашествие угров разорвало связь между западными славянами. Южная часть их не могла отыскать центра своего тяготения под влиянием Византии, вторгнувшихся турок, захватов Венеции, мадьярских завоеваний, Австрийской марки. Северная часть, получив духовное оживление реформою Гуса, успела образоваться во время Подибрада в особое благоустроенное государство; но мог ли устоять этот славянский остров, или выступ, среди немецкого разлива, не опираясь на всю силу соединенного Славянства?
Не мог, точно так же, как не может и теперь без прямого и деятельного участия России в его судьбе.
Независимое бытие Польши было продолжительнее; но если Польша была более других западных славянских стран свободна от непосредственного внешнего политического давления германо-романского мира, зато она более всех подчинилась нравственному культурному господству Запада путем латинства и феодального соблазна, действовавшего на ее высшие сословия; и, таким образом, сохранив до поры до времени свое тело, потеряла свою славянскую душу, а, чтобы обресть ее, должна была войти в тесное, хотя, к сожалению, и недобровольное соединение с Россией.
Если поэтому из всех славян один русский народ успел устроиться в крепкое государство, то обязан этим столько же внутренним свойствам своим, сколько и тому обстоятельству, что по географическому положению занимаемых им стран ему дано было пройти первые формы своего развития в отдалении от возмущающего влияния чуждой западной жизни.
В примере Малороссии, долго разъединенной с остальною Россией и добровольно соединившейся с нею после отвоевания своей независимости, видим мы доказательство, что не одно великорусское племя, как думают некоторые, одарено глубоким политическим тактом; и поэтому можем надеяться, что при случае такой же смысл и такт выкажут и другие славяне, добровольно признав после отвоевания своей независимости гегемонию России в союзе; ибо, в сущности, обстоятельства, в которых находилась Малороссия во времена Хмельницкого и западные славяне теперь,— весьма сходны. Народный энтузиазм, благоприятное стечение обстоятельств, гений предводителя, выдвинутого вперед народным движением, может быть, и могут доставить им независимость, как при Хмельницком, но сохранение ее, а главное, сохранение общего славянского характера жизни и культуры невозможно без тесного взаимного соединения с Россией.
Что бы ни сказало будущее, уже по одному тому, что до сих пор проявлено славянами, и преимущественно русскою отраслью их, в политической деятельности, мы вправе причислить племена эти к числу наиболее одаренных политическим смыслом семейств человеческого рода.
Мы считаем у места обратить здесь внимание и на особый характер этой политической деятельности, как она выразилась в возрастании Русского государства.
Русский народ не высылает из среды своей, как пчелиные улья, роев, образующих центры новых политических обществ, подобно грекам — в древние, англичанам — в более близкие к нам времена. Россия не имеет того, что называется владениями, как Рим и опять-таки Англия. Русское государство от самых времен первых московских князей есть сама Россия; постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя граничащие с нею незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее государственные границы инородческие поселения. Только непонимание этого основного характера распространения Русского государства, происходящее опять-таки, как и всякое другое русское зло, от затемнения своеобразного русского взгляда на вещи европейничаньем, может помышлять о каких-то отдельных провинциальных особях, соединенных с Россией одною отвлеченною государственною связью, о каких-то не Россиях в России, по прекрасному выражению г. Розенгейма, и не только довольствоваться ими, но видеть в них политический идеал, которого никогда не признает ни русское политическое чувство, ни русская политическая мысль. Должно надеяться, что и этот туман рассеется подобно многим другим.
По этой же причине Россия никогда не имела колоний, ей удававшихся, и весьма ошибочно считать таковою Сибирь, как многие делают. Колонисты, выселяясь из отечества даже добровольно, не по принуждению, быстро теряют тесную с ним связь, скоро получают свой особый центр тяготения, свои особые интересы, часто противоположные или даже враждебные интересам метрополии. Вся связь между ними ограничивается покровительством метрополии, которым пользуется колония до поры до времени, пока считает это для себя выгодным. Колонии несут весьма мало тягостей в пользу своего первоначального отечества, и если 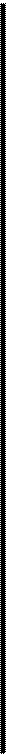

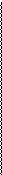 принуждаются к тому, то считают это для себя угнетением и тем сильнее стремятся получить полную независимость.... Кроме национального характера народов, выделявших из себя колонии, на такое отношение их к своему прежнему отечеству имеет, конечно, большое влияние и географическая раздельность вновь заселяемых стран.
принуждаются к тому, то считают это для себя угнетением и тем сильнее стремятся получить полную независимость.... Кроме национального характера народов, выделявших из себя колонии, на такое отношение их к своему прежнему отечеству имеет, конечно, большое влияние и географическая раздельность вновь заселяемых стран.
При расселениях русского народа мы не видим ничего подобного. Куда бы ни заходили русские люди, хотя бы временные и местные обстоятельства давали им возможность или даже принуждали их принять самобытную политическую организацию, как, например, в казацких обществах центром их народной жизни все-таки остается старая Русь-Москва, высшая власть в понятии их продолжает олицетворяться в лице русского царя. Они спешат принести ему присягу, поклониться ему новыми странами, которыми они завладели, вступить в непосредственную связь с Русским государством. Держась своего устройства, они не выделяют себя из русского народа, продолжают считать его интересы своим интересом, готовы жертвовать всем достижению его целей; Одним словом, они образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее. Посему и новые заселения заводятся только по окраинам стран, сделавшихся уже старою, настоящею Русью. (Я говорю про самобытные народные расселения, а не про правительственные колонизационные предприятия.) Расселения скачками через моря или значительные промежутки не удаются; хотя бы им покровительствовало правительство. Не удалась нам Американская колония, не удается что-то и Амур.
Такому характеру расселения русского народа, в высшей степени благоприятному единству и цельности Русского государства, соответствует и уподобительная сила русского народа, претворяющая в свою плоть и кровь инородцев, с которыми приходит в соприкосновение или столкновение, конечно, если этому не противуполагается преград ошибочными правительственными мероприятиями.
Но основание, расширение государства, доставление ему прочности, силы и могущества составляют еще только одну сторону политической деятельности. Она имеет еще и другую, состоящую в установлении правомерных отношений граждан между собою и к государству, то есть в установлении гражданской и государственной свободы, без способности к которой нельзя признать народ вполне одаренным здравым политическим смыслом. Итак, способен ли русский народ к свободе?
Едва ли надо упоминать, что наши доброжелатели дают на это отрицательный ответ: одни – считая рабство естественною стихией русских, другие —- опасаясь или представляясь опасающимися, что свобода в руках их должна повести ко всякого рода излишествам и злоупотреблениям. Но на основании фактов русской истории и знакомства с воззрениями и свойствами русского народа можно составить себе только диаметрально противоположное этому взгляду мнение: именно, что едва ли существовал и существует народ, способный вынести большую долю свободы, чем народ русский, и имеющий менее склонности злоупотреблять ею.
Это основывается на следующих свойствах, присущих русскому человеку: на его умении и привычке повиноваться, на его уважении и доверенности к власти, на отсутствии в нем властолюбия и на era отвращении вмешиваться в то, в чем он считает себя некомпетентным; а если вникнуть в причины всех политических смут у разных народов, то корнем их окажется не собственно стремление к свободе, а именно властолюбие и тщеславная страсть людей к вмешательству в дела, выходящие из круга их понятий. Как: крупные события русской истории, так и ежедневные события русской жизни одинаково подтверждают эти черты русского народного характера.
В самом деле, взгляните на выборные должности во всех наших сословиях, в особенности в купечестве, мещанстве и крестьянстве. Эти должности, доставляющие власть и почет, считаются не правами, а обязанностями или, лучше сказать, общественными повинностями, и исключение составляет разве одна должность предводителя, дающая почет, а не власть.
Если ищут мест мировых судей, членов и председателей земских управ, то главным образом из-за доставляемого ими жалованья, довольно значительного по деревенской, уездной и даже губернской жизни. Это все равно те государственная служба с хорошим жалованьем, дающая' притом возможность не оставлять своих хозяйственных дел. Любопытно было бы посмотреть, если бы только в таких делах дозволительно было делать опыты, как стали бы у нас процветать, земство и, мировой институт, если бы наполнить их по теориям «Вести» безвозмездными деятелями так называемой аристократии?
Эти черты русского народного характера, во всяком случае, показывают, что власть имеет для нас мало привлекательности, и, хотя многие считают это за какой-то недостаток, мы не можем видеть ничего дурного в том, что наши общественные деятели хотят,- чтобы труд их на об  щую пользу был материально вознаграждаем, так как совершенно безвозмездным он ведь никогда не бывает, ибо удовлетворение властолюбия, тщеславия, гордости — такая же мзда.
щую пользу был материально вознаграждаем, так как совершенно безвозмездным он ведь никогда не бывает, ибо удовлетворение властолюбия, тщеславия, гордости — такая же мзда.
Те же выше перечисленные свойства русского народа составляют внутреннюю причину того, что Россия есть едва ли не единственное государство, которое никогда не имело (и, по всей вероятности, никогда не будет иметь) политической революции, то есть революции, имеющей целью ограничение размеров власти, присвоение всего объема власти или части ее каким-либо сословием или всею массою граждан, изгнание законно царствующей династии и замещение ее другою.
Все смуты, которые представляет русская история, могущие по своей силе и внешнему виду считаться народными мятежами, всегда имели совершенно особый — не политический, в строгом значении этого слова, характер. Причинами их были: сомнение в законности царствовавшего лица, недовольство крепостным состоянием, угнетавшим на практике народ всегда в сильнейшей степени, чем это имел в виду закон, и, наконец, те элементы своеволия и буйства, которые необходимым образом развивались на окраинах России, в непрестанной борьбе казачества с татарами и другими кочевниками. Эти три элемента принимали совместное участие в трех главных народных смутах, волновавших Россию в XVII и XVIII столетиях, так что каждый из них играл попеременно преобладающую роль.
В смутах междуцарствия главным двигателем было самозванство, но при значительном участии недовольства только что вводившимся прикреплением крестьян к земле и казацкой вольницы.
Бунт Стеньки Разина был, главнейшим образом, произведением этой вольницы, начинавшей опасаться, что вводимые более строгие государственные порядки ограничат ее своеволие. Но так разрастись могли эти смуты опять-таки только при недовольстве крестьян на закрепощение их, а легальными поводами опять-таки старались придать всем этим беспорядкам характер законности в глазах народа.
Наконец, главная сила Пугачевского бунта заключалась именно в возмущении крепостных людей, для которых бунт малочисленного яицкого казачества служил, так сказать, лишь первою искрою, зажегшею пожар. Участие приуральских кочевников усилило и этот бунт, а имя Петра III должно было доставить ему законность в глазах народа, который всегда чувствовал свою солидарность с верховною властью и от нее чаял исполнения своих заветных и справедливых желаний.
С обеспечением правильности и законности в престолонаследии, с введением гражданственности и порядка в казачестве и, наконец, с освобождением крестьян иссякли все причины, волновавшие в прежнее время народ, и всякая, не скажу, революция, но даже простой бунт, превосходящий размер прискорбного недоразумения, сделался невозможным в России, пока не изменится нравственный характер русского народа, его мировоззрение и весь склад его мысли; а такие изменения (если и считать их вообще возможными), совершаются не иначе как столетиями и, следовательно, совершенно выходят из круга человеческой предусмотрительности.
Если, таким образом, устранены все элементы смут, могшие в прежние времена волновать русский народ, то, с другой стороны, прошли и те обстоятельства, которые требовали постоянного запряжения всех сил народных в государственное ярмо в трудные времена государственного устроения, борьбы с внешними врагами, при редком еще населении и слабом развитии его сил. Таким образом, и внутренние и внешние препятствия к усвоению русскому народу всех даров свободы потеряли свой смысл, значение и причину существования.
Искусственное созидание этих препятствий во имя предосторожности от совершенно мнимых опасностей было бы похоже на дорогостоящее устройство плотин и валов против наводнения в высоколежащей, никаким разливам не подлежащей местности; или толстых крепостных стен, бастионов и равелинов в городе, находящемся вне всякой опасности от неприятельских нападений.
Во сколько умеренность, непритязательность и благоразумие характеризуют и русский народ, и русское общество — это доказали с очевидною ясностью события последних лет. Насколько хватает историческая память человеческого рода, едва ли можно найти более быстрые, внезапные перемены в главных общественных условиях народной жизни, как те, которые совершились на наших глазах не более как в двенадцать лет, то есть считая от манифеста об улучшении быта помещичьих крестьян. Феодальное рабство уничтожалось во Франции постепенно, веками, так что в знаменитую ночь 4 августа оставалось Национальному собранию отменить лишь сравнительно незначительные его остатки; между тем как у нас крепостное право было еще в полной силе, когда его отменили разом, со всеми его последствиями. Переход от тягостной зависимости к по 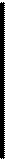
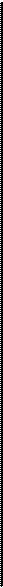
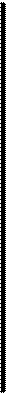 лной свободе отношений был мгновенный: столетия сосредоточились в какие-нибудь три года, потребовавшиеся на совещания и выработку плана. При быстром приведении в действие новых положений, по объявлении народу манифеста о воле и, следовательно, по прекращении его зависимости от помещиков, новые власти мировых посредников не были еще установлены, так что народ оставался в эти критические (по общим понятиям) минуты некоторое время без непосредственной ближайшей власти; и, однако же, порядок нигде существенным образом нарушен не был, и никакие подстрекательства не могли вывести его из исполненного доверия к правительству спокойствия ни тогда, ни после. Главный деятель по приведению в исполнение высочайшей воли об освобождении крестьян, Яков Иванович Ростовцев, выразился о состоянии России в эпоху совещаний о способах освобождения, что Россия снята с пьедестала и находится на весу. Оно и всем так казалось, а в особенности со злорадством смотревшим на реформу и ждавшим от нее чуть не распадения ненавистного им колосса; а на деле оказалось, что и тут (как и всегда) она покоилась на своих широких, незыблемых основаниях.
лной свободе отношений был мгновенный: столетия сосредоточились в какие-нибудь три года, потребовавшиеся на совещания и выработку плана. При быстром приведении в действие новых положений, по объявлении народу манифеста о воле и, следовательно, по прекращении его зависимости от помещиков, новые власти мировых посредников не были еще установлены, так что народ оставался в эти критические (по общим понятиям) минуты некоторое время без непосредственной ближайшей власти; и, однако же, порядок нигде существенным образом нарушен не был, и никакие подстрекательства не могли вывести его из исполненного доверия к правительству спокойствия ни тогда, ни после. Главный деятель по приведению в исполнение высочайшей воли об освобождении крестьян, Яков Иванович Ростовцев, выразился о состоянии России в эпоху совещаний о способах освобождения, что Россия снята с пьедестала и находится на весу. Оно и всем так казалось, а в особенности со злорадством смотревшим на реформу и ждавшим от нее чуть не распадения ненавистного им колосса; а на деле оказалось, что и тут (как и всегда) она покоилась на своих широких, незыблемых основаниях.
Возьмем другой пример. Предварительная цензура была ослаблена, а наконец и совершенно отменена. И тут переход был столь же быстр и внезапен от того времени, когда малейший пропущенный в печати анекдот, заключавший намек на неловкость манер или неизящность костюма чиновников какого-либо ведомства, имел жестокие последствия для автора и для цензора, — к тому положению печати, когда вопросы религии, нравственности общественного и государственного устройства сделались обыкновенными темами для книг, брошюр и журналов. Разница была громадная, опять-таки больше,, той, которая замечается между французскою печатью времен Людовиков XV и XVI и времен революции; ибо что же можно было прибавить к тому, что мы находим в сочинениях Дидерота, ГельвецияГольбаха, Ламетри, Мирабо, свободно ходивших по рукам при Людовике XV и XVI, несмотря на чисто номинальное запрещение? Но русская литература и русское общество и тут оказали то же благоразумие, ту же умеренность, как, и русский народ при коренном изменении его гражданского и общественного положения. Вредные учения, начинавшие проповедоваться частью внутреннею прессою, частью же имевшими еще большее влияние, по привлекательности всего запрещенного, заграничными изданиями 12, были убиты, лишены значения и доверия в глазах публики не правительственными какими-либо мерами (которые в этом отношении не только бессильны, но даже обыкновенно противодействуют своим целям), а самою же печатью, и по преимуществу — московской.
Итак, что же мы видим? Злоупотребления и гнет, которые испытывала Россия перед реформами настоящего царствования, были не менее, во многих управлениях — даже более чувствительны, чем те, под которыми страдала Франция до революции; преобразование (не по форме, конечно, а по сущности) было не менее радикально, чем произведенное Национальным собранием; но между тем как прорванная плотина во Франции произвела всеобщий разлив вредных противу общественных стихий и страстей, в России они не только не могли нарушить спокойствия, уважения и доверенности к власти, а еще усилили их и укрепили все основы русского общества и государства. Не вправе ли мы после этого утверждать, что русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы, что советовать ограничить ее можно только в видах отстранения самосозданных больным воображением опасностей или (что еще хуже) под влиянием каких-нибудь затаенных, недобросовестных побуждений и враждебных России стремлений?
Итак, заключаем мы, и по отношению к силе и могуществу государства, по способности жертвовать ему всеми личными благами, и по отношению к пользованию государственною и гражданскою свободою — русский народ одарен замечательным политическим смыслом. По чертам верности и преданности государственным интересам, беспритязательности, умеренности в пользовании свободою, выказанным славянскими народами в Австрии, и в особенности в Сербии, мы можем распространить это же свойство и на других славян. Если Польша в течение исторической жизни своей показала пример отсутствия всякого политического смысла, то и этот отрицательный пример только подкрепляет наше положение, показывая, что искажение славянских начал, разъедавшее ее душу и тело, должно было принести и соответствующие тому плоды.
В отношении к общественно-экономическому строю Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под ногами твердую почву, в котором нет обезземеленной массы, в котором, следовательно, общественное здание зиждется не на нужде большинства граждан, не на необеспеченности их положения, где нет противоречия между идеалами политическими и экономическими. Мы видели, что именно это противоречие грозит бедой европейской жизни, вступившей уже в своем историческом плава 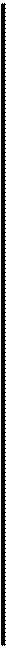
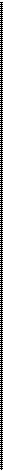
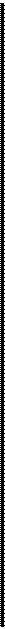 нии в те опасные моря, где, с одной стороны, грозит Харибда цезаризма или военного деспотизма, а с другой — Сцилла социальной революции. Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами,— заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении.
нии в те опасные моря, где, с одной стороны, грозит Харибда цезаризма или военного деспотизма, а с другой — Сцилла социальной революции. Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами,— заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении.
Этимологическое сходство слов «община» и «общинный» в переводе на французский язык с словом «социализм» — дало повод злонамеренной недобросовестности смешивать эти понятия, дабы набрасывать неблаговидную тень на нашу общину, а, кстати, уже и вообще на всю деятельность людей, заботящихся о благосостоянии крестьян, особенно если это противно интересам польским и немецким. При этом забывается, главным образом, что наша община, хороша ли она или дурна по своим экономическим и другим последствиям, есть историческое право, точно такая же священная и неприкосновенная форма собственности, как и всякая другая, как сама частная собственность; что, следовательно, желание разрушить ее никак не может быть названо желанием консервативным! Европейский социализм есть, напротив того, учение революционное не столько по существу своему, сколько по той почве, где ему приходится действовать. Если бы он ограничивался приглашением мелких землевладельцев соединять свою собственность в обширное владение, так же точно, как он приглашает фабричных работников соединить свои силы и капиталы посредством ассоциаций, то в этом не было бы еще ровно ничего преступного или зловредного; но дело в том, что в большинстве случаев земли нет в руках тех, которые ее обрабатывают, что, следовательно, европейский социализм, в какой бы то ни было форме, требует предварительного передела собственности, полного переустройства землевладения и всего общественно-экономического строя. Беда не в социалистических теориях, которые имеют претензию быть лекарствами для излечения коренной болезни европейского общества. Лекарства эти, может быть, действительно вредны и ядовиты, но какая была бы в них опасность, если бы они могли спокойно оставаться на полках аптек, по неимению в них надобности для здорового организма? Лекарство вредно, но вредна и болезнь сама по себе. Планов для перестройки здания много, но нет материала, из которого его можно бы было возвести, не разрушив предварительно давно законченного и завершенного здания. У нас, напротив того, материал в изобилии и сам собою органически складывается под влиянием внутренних, зиждительных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки.
Эта-то здравость общественно-экономического строя России и составляет причину, по которой мы можем надеяться на высокое общественно-экономическое значение славянского культурно-исторического типа, имеющего еще в первый раз установить правильный, нормальный характер той отрасли человеческой деятельности, которая обнимает отношения людей между собою не только как нравственных и политических личностей, но и по воздействию их на внешнюю природу, как источник человеческих нужд и потребностей,— установить не отвлеченную только правомерность в отношениях граждан, но реальную и конкретную.
Нам остается рассмотреть, можно ли ожидать, чтобы славянский культурно-исторический тип занял видное место в культурном отношении, в тесном значении этого слова.
Нельзя не сознаться, что совершенное до сих пор русским и другими славянскими народами в науках и искусствах весьма незначительно в сравнении с тем, что сделано
двумя великими культурными типами: греческим и европейским.
Такому невыгодному для славян факту, очевидно, может быть дано двоякое объяснение: или это коренная неспособность их к культурной деятельности, или же сравнительная их молодость, недавность вступления на поприще исторической деятельности и неблагоприятные в этом отношении обстоятельства их развития. Если можно будет показать несомненное и притом значительное влияние этой последней причины, если к тому же ход развития вообще требует, чтобы культурная деятельность следовала за политической деятельностью славян, то очевидно, что только второе объяснение будет иметь все вероятия на своей стороне.
Что касается вообще до возраста славянской культуры, взятого сравнительно с возрастом европейской, то промежуток времени, протекший с выступления германских народов из периода их этнографической жизни в период исторический, превосходит четырьмя столетиями исторический период жизни славянских государств. Так же точно и германская письменность, то есть первое зерно культурного развития — перевод Библии на готский язык Ульфилою — пятью веками старше соответствующего ему славянского перевода св. Кириллом и Мефодием. Прибавим к этому, что почти все новые европейские народы начали 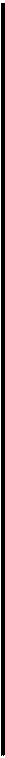 свою историческую жизнь уже на почве старой культуры, следовательно, на почве, более богатой питательными веществами, возбуждающей и ускоряющей рост, которая, однако, могла на них действовать только благодетельно, ибо гибельная подражательность исчезнувшим народам римского мира была лишь в слабой степени возможна. Со всем тем средняя история европейских народов, то есть преимущественно государственный период их жизни, продолжается около тысячи лет, так что только теперь прожили славяне государственною жизнью столько, сколько народы германо-романские к началу так называемой новой истории. Но одно летосчисление не имеет еще большого значения в вопросах этого рода. Мы заметили выше, что после этнографического периода жизни, в течение которого устанавливаются и определяются особенности психического строя народов,— то, что делает их особыми и самобытными историческими. субъектами,— вступают они непременно в период деятельности государственной. Мы не видим, в истории ни одного примера, чтобы собственно культурная деятельность начиналась ранее если не совершенного окончания, завершения государственной деятельности (ибо и в народном, как и в индивидуальном организме все его отправления продолжают совершаться до смерти, но только не с одинаковою силою), то, по крайней мере, ранее завершения самой насущной задачи государственности — утверждения национальной независимости и определения национально-государственных границ. Если и бывали примеры, что культурная деятельность некоторых народов продолжалась и после потери независимого политического существования, то ни разу еще не случалось, чтобы культура начиналась под иноплеменным игом. Этот, не имеющий исключений, факт выставили мы как один из законов развития культурно-исторических типов, и не трудно понять причину его всеобщности.
свою историческую жизнь уже на почве старой культуры, следовательно, на почве, более богатой питательными веществами, возбуждающей и ускоряющей рост, которая, однако, могла на них действовать только благодетельно, ибо гибельная подражательность исчезнувшим народам римского мира была лишь в слабой степени возможна. Со всем тем средняя история европейских народов, то есть преимущественно государственный период их жизни, продолжается около тысячи лет, так что только теперь прожили славяне государственною жизнью столько, сколько народы германо-романские к началу так называемой новой истории. Но одно летосчисление не имеет еще большого значения в вопросах этого рода. Мы заметили выше, что после этнографического периода жизни, в течение которого устанавливаются и определяются особенности психического строя народов,— то, что делает их особыми и самобытными историческими. субъектами,— вступают они непременно в период деятельности государственной. Мы не видим, в истории ни одного примера, чтобы собственно культурная деятельность начиналась ранее если не совершенного окончания, завершения государственной деятельности (ибо и в народном, как и в индивидуальном организме все его отправления продолжают совершаться до смерти, но только не с одинаковою силою), то, по крайней мере, ранее завершения самой насущной задачи государственности — утверждения национальной независимости и определения национально-государственных границ. Если и бывали примеры, что культурная деятельность некоторых народов продолжалась и после потери независимого политического существования, то ни разу еще не случалось, чтобы культура начиналась под иноплеменным игом. Этот, не имеющий исключений, факт выставили мы как один из законов развития культурно-исторических типов, и не трудно понять причину его всеобщности.
В самом деле, если народ покорен еще во время энергии его жизненных сил, не успевших еще достигнуть культурного развития, то, очевидно, что все нравственные силы самых высокоодаренных в нем личностей устремляются на то, чтобы возвратить утраченное высшее народное благо – независимость; весь организм народный получает характер патриотически-воинственный. Если, напротив того, эта народная энергия усыпает, вследствие ли действительного истощения сил или вследствие искусной усыпительной политики завоевателей, и чуждое влияние начинает мало-помалу распространяться между побежденными, то, по естественному ходу вещей, влияние это охватывает преимущественно высшие сословия, те, которые имеют возможность получать образование; образование же всегда имеет в таком случае характер, свойственный господствующей, победительной народности. В эту же среду попадают и те исключительные личности из низших сословий, где народность вообще долее сохраняется, которые возвышаются своими необыкновенными способностями и талантами. Таким образом, и в этом случае все результаты умственных трудов подчиненной народности идут в умственную сокровищницу победителей и обогащают ее. Но и этот
 2015-09-06
2015-09-06 646
646






