Тафаев Г. И.
Позабудьте день вчерашний,
Новь великая идет,
Солнца нового восход
Привечай, родной народ!
Тихим был - так будь героем,
Смирен был - долой смиренье!
Огнекрылою душою
Отправляйся дерзновенней
В неизведанный полет.
Михаил Сеспель
В условиях XXI в. этнический конфликт приобретает более изощренный характер. Конечно, они завязаны под историю. Например:
90 г. ХХ в.
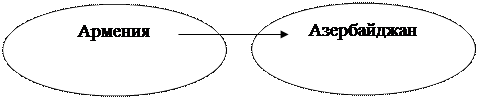 |
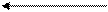 I
I
Начало XXI в.
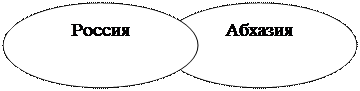 | 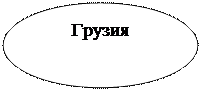 |
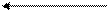 II
II
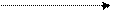 |
2014 г.
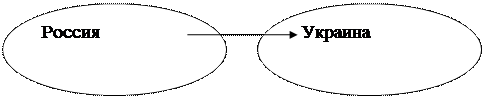 |
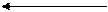 III
III
Эпоха Волжско-Камская 1236 г.
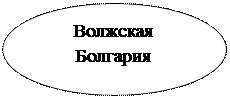
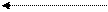 IV
IV
Монголо-татарские вторжения
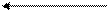 | |
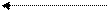 |
С 1546-1552
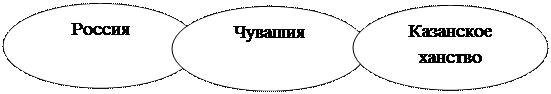
V
Конфликты и вооруженные столкновения между татарами и болгаро-чувашами зафиксированы в источниках и исторических рассказах. Конечно многие эпохи (песни) об Улыпе имеют мифологическую окраску, но вникнув в содержание песни мы можем разглядеть историко-героические события. Мы приведем песню № 36, где говорится о схватке Улыпа с войсками хана Субедея.
Нападение хана Патти
|
|
|
Не тужите шибко, деды,
Что с годами стали седы.
Смерть отныне никогда
Не заглянет к вам сюда.
С Книгой счастья у чувашей
Жизнь становится все краше.
Благодатная страна!
Шьют обнову из сукна,
Обувь — из отборной кожи,
Чем прочнее, тем дороже.
Кадки меда в погребах,
Масло тает на губах.
Живность держат на подворье —
Хлебопашеству подспорье.
И сушеного мясца
Подсыпают жеребцам.
Их, откормленных, под стать
Летом... в сани запрягать,
А среди зимы, по снегу,
Хоть в груженую телегу! Oт усердия — успех,
Закрома полны у всех,
В сундуках, как будто клады,
Драгоценные наряды,
Праздник в доме начиняют —
Стул один не занимают:
Улып, говорят, придет.
Вот такой ему почет,
Чаши с пивом поднимают,
Песню славы вспоминают;
Улып-патыр, храбрый Улып — нет его пока,
Он в Булгаре, в стальном граде, где Нухрат-патша.
Где бы ни был славный патыр, он всегда с народом,
В сердце верность, в сердце верность у него навеки.
Благодарны мы собрату за его дела,
Почитаем, поздравляем на честном пиру,
Место за столом свободно — только появись!
Ждет ставедерная бочка с пивом на меду.
Как на улице весенней девицы-подружки
Колотушками лущили белую холстину.
Ведь у каждой взрослой девы полотна такого
В коробах-сюпсе хранится сотни две сновален.
Как подружки вечерами, сидя под ветлой,
Вышивали — украшали светлые холсты.
Оживляли мастерицы шелковую нить,
И узоры расцветали, радуя сердца.
За стежком стежок кладется гладью иль крестом –
Облик Улыпа в узорах обретает явь.
Веселились в хороводе вечером девчата,
Подходили важно парни в вышитых рубахах.
|
|
|
Даже с древним-древним сердцем месяц в небесах
От восторга о заходе забывал своем.
В пору осени деревья гнулись от плодов.
И тогда хозяин сада урожай снимал,
Доставлял его возами в Булгар – стольный град.
На базаре продавался сочный тот товар.
О, чего там только нету, в тех рядах торговых!
Доставай мешок с деньгах – выбирай, что хочешь.
Семьдесят и семь наречий слышатся вокруг,
Из далеких стран бывают бойкие купцы.
Разноцветными шелками радуют китайцы,
А изюм, айва, орехи — от купцов Ирака.
Степь хазарская давала диких скакунов —
Как же всадникам отважным их не покупать?
Русские умельцы тоже свой товар везут,
Чашки, ложки и кольчужки ныне нарасхват.
Слух о мастерах чувашских далеко идет,
Иноземные торговцы едут ради них.
Есть изделия из камня с золотым тисненьем,
Есть лучистые узоры на одеждах белых… [1].
Жить бы Улыпу с народом,
Да надменным воеводам
С богачами заодно
Не по нраву он давно.
Потому, знать, им неймется
Что он смен и справедлив,
Перед властью не согнется,
Сирых грудью заслонив.
Растерялись богатей
И решили поскорее
В Русь доносчика послать
И даров доставить кладь.
Тот явился тайно в Киев,
Ночи помогли глухие.
Стольный град имел большой размах,
Возвышался на семи холмах.
Правил там великий князь Владимир,
Что делами славился святыми.
Лжепосланник перед ним упал
И слезливым голосом сказал:
— Князь великий, пощади,
От разбоя огради:
Улып разошелся сдуру,
Скоро снимет с нас и шкуру.
Удальцов пошли в Булгар,
Нанеси ему удар.
Мы за это, будь спокоен,
Данью все долги покроем.
А захочешь — и царем
Всечувашским назовем.
И тогда великий князь Владимир
Поделился думами такими:
— Светлые одежды у народа,
Каждый в сапогах, как воевода.
При такой вольготной жизни вашей
Разве покорятся мне чуваши?
Русь моя умельцами богата,
Потому в казне изрядно злата.
И сокровищ много взаперти.
Так зачем же на Булгар идти?
Между русскими и чувашами
Дружбы, знай, не будет лишь тогда,
Ежели вдруг плавать станет камень
Или не удержит хмель вода.
С тем доносчик и вернулся [2].
Услыхав рассказ гонца,
Круг смутьянов содрогнулся,
Словно нож пронзил сердца.
И тогда они тайком
Собрались в лесу ночном:
— Может быть, в беде жестокой
Помощь к нам придет с востока?
Хан Патти и Субедей,
Может, ждут от нас гостей?
Кто пойдет на встречу с ханом,
Неприступным, как гроза?
Сендер есть у нас, мурза,
Что болтает непрестанно,
Словно в сговоре с шайтаном.
На восток ему идти —
Пусть уговорит Патти.
Чтобы с толку сбить народ,
Слух подбросим наперед:
Где мурза, мол, неизвестно,
Ищет вдалеке невесту.
Прибыл на восток мурза.
Извиваясь, как гюрза,
К Патти-хану он подходит,
Речь коварную заводит:
— Солнце-хан, прости меня, раба,
За слова предерзкие мои.
Знай, наш царь Нухрат — лишь пень корявый.
Он тебе осмелился прислать
Голову свиную на подстилке.
О, какой позор! Какая наглость!
Ты — сам бог. А наш Нухрат давно
Выжил из ума. Им вертит Улып.
Оба всюду о тебе злословят:
Называют и козлом вонючим,
И степным стервятником паршивым.
Приходи в чувашские края —
Мы врата железные сорвем
И пути перед тобой откроем.
С Улыпом покончишь — и тогда
Ханом ханов станешь у булгар.
И меня, о ханов хан Патти,
Милостью своей не обдели:
Сделай так могуществом своим,
Чтобы дочь Нухрата Сарине,
Улыпа-разбойника жена,
Мне, мурзе, принадлежала впредь.
- Я тебя нагайкой бы огрел! –
Патти-хан от злобы заревел. -
Ползаешь тут жалким тараканом.
Я – Патти! Хан всем на свете ханам.
Где ступаю - вся земля дрожит,
Где плюю - на трупе труп лежит!
Головой заплатит Улып тоже,
Будет барабан из толстой кожи!
Эй, визирь! Ты войско собери,
Пусть за мной спешат богатыри.
Там чувашек много для утех,
|
|
|
И сокровищ хватит им на всех.
Прежде чем отправиться на битву
Патти-хан вознес в шатре молитву.
На коне, сжимая ятаган,
Поскакал к Паштану Патти-хан.
У оврага очутился он.
Вниз уходит каменистый склон.
- Эге-гей! Свирепый друг Паштан,
Поспеши со мной в чувашский стан!
Тут в прыжке из крутояра
Как взметнется кверху яро
Золотом покрытый лев,
Страшный свой, оскалив зев.
То явился сквозь туман
Ханский прихвостень Паштан.
Лапы зверя замелькали,
Кони следом поскакали.
На равнине хан-бахвал
Знаком возвестил привал.
В землю столб поспешно врыли,
Сверху шкурами накрыли.
Расстелив ковры, и тут
Под шатер внесли уют.
И к Нухрату во дворец
Послан был Урась-гонец.
Говорит гонец Нухрату,
Будто с ним запанибрата:
— Привечайте гостя, Патти-хана,
И его помощника Паштана.
Ты, Нухрат, не царь, а лишь болван,
Так тебя назвал наш славный хан.
Сорок один дуб вели срубить,
Столько же коней вели забить [3],
Из дубов наделать сто саней
Да сварить разделанных коней.
И к блинам, что на подбрюшном сале,
Чтобы пива, медовухи взяли.
На санях доставишь хану снедь.
Сам доставишь. Ты лишь раб, заметь.
Сарине сейчас пойдет со мной,
Хоть зовется Улыпа женой;
Будет хану ноги омывать,
Плясками усладу навевать.
Ежели Нухрат не согласится —
Хитрой уподобится лисице,
Знай, великий хан не пощадит —
В пепел землю булгар превратит!
— Будь я коршуном, подобно хану,
Вырвал бы тебе язык поганый, —
Произносит царь Нухрат в ответ. -
Ведь у нас такой привычки нет:
Проучить болтливого посла
Вместо подославшего осла.
Хочешь ли свою предвидеть участь?
Подойди к окну, взгляни получше:
Тянется долина вдаль и вширь
Там на страже Улып-богатырь.
Посмотрев, Урась отпрянул
Голос Улыпа тут грянул:
— Вы царю прислали весть,
Потому-то я и здесь.
Так чего вы, гости, ждете —
Мне навстречу не идете?
Те с мечами наголо
Выскочили, крикнув зло:
— Драться иль сдаваться ныне
Очутился ты в долине?
— Я на поле брани — драться,
Соплякам не поддаваться! —
Отвечает Улып им
Зычным голосом своим.
|
|
|
Чтоб врасплох его застать,
Дико мечется Паштан,
И сжимает Патти-хан
Ятагана рукоять.
Заревел Паштан-зверюга —
Содрогнулась вся округа,
Стал на Улыпа кидаться [4],
Острыми зубами клацать.
Но одежда вся цела —
Бабка крепость придала.
Меч в руке богатыря
Как блеснет, огнем горя,
Вмиг Паштан почуял сам,
Как распался пополам.
Части целые пока,
Он расплавился слегка
И соединился тут же —
Золотой явился тушей.
Вновь на патыра бросок,
Клык вонзиться в шею смог.
Бешено рыча и воя,
Хочет лев согнуть героя.
Вот противники схватились,
Вот упали, покатились…
Глядь - уж снова на ногах,
Кулаками бах-бабах!
Улып выпрямился в рост,
Взялся за звериный хвост,
Раскрутил семь раз Паштана
И метнул без лишних дум
До песчаных Каракум,
А за ним и Патти-хана.
Там их бренные остатки
Для шакалов будут сладки.
Войско ханское — тумен –
Тоже обернулось в тлен [5].
Некоторые скажут, мол, что не этическая история? А если посмотреть последствия.
· Государство болгаро- чуваш было разгромлено.
· Болгары были до 1 300 истреблены, сожжено 34 города, 300 поселений.
· А в 1391 -1395 Тамерлан еще убил до 800 тыс. болгар, сжег до 170 городов и 2000 поселений. Истреблялись этнические болгары-жители Волжской Болгарии. Конечно, монголо – татары уничтожали и марийцев, мордву, удмуртов и башкир.
В теории этнических конфликтов утверждается, что обычно этнические конфликты выступают, с одной стороны, следствием проявления негативных стереотипов взаимного восприятия контактирующих (соперничающих) народов, с другой - порождением конфликтных ситуаций, возникающих как результат предъявления представителями в чем-либо ущемленных этнических групп определенных требований, а именно:
· гражданского равноправия (от прав гражданства до равноправного социального статуса и экономического положения);
· права на культуру (от символического использования родного языка на дорожных указателях и вывесках до языковой политики, признающей использование языка этнического меньшинства в суде, в государственных учреждениях, в школьном и университетском образовании);
· институционализированных политических прав (от символических элементов автономии местных органов власти и символического представительства в государственных органах управления до полномасштабного конфедерализма);
· права на осуществление определенных изменений, включая изменения границ, создание новых государств или присоединения к другому государству.
Этнические конфликты сопровождаются определенной динамично меняющейся социально-политической ситуацией, которая порождается неприятием ранее сложившегося положения существенной частью представителей одной (нескольких) местных этнических групп и проявляется в виде хотя бы одного из следующих действий данной группы:
а) начавшейся ее эмиграции из региона, определяемой общественным мнением данной группы как «исход», «массовое переселение» и т.п., существенно изменяющей местный этнодемографический баланс в пользу «других» остающихся этнических групп;
б) создания политической организации («национального» или «культурного» движения, партии), декларирующей необходимость изменения положения в интересах указанной этнической группы (групп) и тем самым провоцирующей ответное противодействие органов государственной власти;
в) спонтанных (не подготовленных легально действующими организациями) акций протеста против ущемления своих интересов со стороны представителей другой (других) местной этнической группы иди органов государственной власти в виде массовых митингов, шествий, погромов.
Об этническом конфликте как реальном феномене чаще всего можно говорить тогда, когда организационно оформляется и приобретает определенное влияние национальное движение (или парша), ставящее своей целью обеспечение «национальных интересов» определенной этнической общности и для достижения этой цели стремящееся изменить прежде бывшее терпимым или привычным положение в культурно-языковой, социально-экономической или политической сфере жизни.
Этнический конфликт всегда представляет собой явление политическое, ибо, даже если инициаторы перемен стремятся к изменению ситуации только в культурно-языковой или социально-экономической области, они могут достичь своих целей лишь путем обретения определенных властных полномочий. Под властными полномочиями, к перераспределению которых всегда стремятся участники этнических конфликтов, обычно понимаются способность и возможность одной группы людей распоряжаться деятельностью других групп. Этнические конфликты можно классифицировать по различным основаниям [6].
Болгаро-чувашский народ всегда несет в себе «боль утраченного», «боль крови», «боль исторических потерь».
«Монголо-татары покорили Сибирь, Северный Китай, а затем в 1219-1221 гг., Среднюю Азию, где превратили в развалины города и ирригационные системы, уничтожили сады виноградники, перебили и увели в рабство множество людей. Пройдя через Армению, Грузию, Азербайджан, в 1222 г, они вышли через Дербентский проход в степи Северного Кавказа, гае встретились с кочевавшими там половцами (кыпчаками). Половцы обратились за помощью к русским князьям. Но соединенное русско-половецкое ополчение было разбито монголо-татарским войском.
После битвы на Калке монголо-татары отправили пятитысячный отряд на Волжскую Болгарию. Болгары дали отпор завоевателям. Они заманили их в засады, окружили и перебили. Из нападавших уцелели лишь немногие. В 1229 г. болгары отбили вторую волну их наступления, в 1232 г. — третью волну. Монголо-татары тщательно готовились к завоеванию Улуса Джучи, в состав которого, по завещанию Чингисхана, включалась и Волжская Болгария. В сентябре 1236 г. 200-тысячная армия хана вторглась в земли Волжской Болгарии. Далее В.Д. Димитриев о геноциде болгар писал: «В 1236—1242 гг. происходило массовое бегство болгаро-чувашского населения в восточном, северном, западном направлениях. Археологическими экспедициями В.Ф. Каховского открыты болгаро-чувашские селища в междуречье Большого и Малого Цивиля, на территории Аликовского района, основанные, по всей вероятности, беженцами от Батыя. Священник НА. Архангельский в конце XIX в. от чувашей узнал, что близ Д. Торхан Чуваш-Сорминской волости (ныне Аликовского района) лежало «много каменных плит с какими-то надписями; эти камни были со временем разобраны крестьянами - чувашами близлежащих деревень на разные хозяйственные нужды. Одна из таких плит находится в церковной паперти села Оточева – в полу… В одной версте от деревни Тосай стоял когда-то «каменный столб... поставленный и увезенный после «татарами». Несомненно, эти плиты были поставлены мусульманами-чувашами, сбежавшими от погромов Батыя. Тогда, как обоснованно считает Д. Месарош, большинство населения Болгарской земли исповедовало ислам. Группа болгар-мусульман перебежала и в Южную Удмуртию. В XIV в. они переселились в Северную Удмуртию, в бассейн реки Чепцы и стали известны как бесермене-чуваши. В эти же годы беженцы из Болгарской земли по Волге выше Болгарской земли ряд болгарских городов и селений. Из разгромленного г. Сувар беженцы перебрались в ранее возникшее болгаро-чувашское поселение на месте г.Чебоксары. С прибытием горожан поселение переросло в город, называвшийся на старинных картах Веда-Суар (Вăта Сăвар «Средний Сувар»). Другие беженцы, продвигаясь вверх по Волге, основали города Цепель (на месте нынешнего Васильсурска), Сундовик (на месте села Лысково Нижегородской области) [7]. В 1236 г. множество болгар прибыли к владимирскому князю Юрию Владимировичу и просили дать им места для проживания. Князь приказал расселить их по города около Волги и в других местах. Появились селения с болгарскими выходцами возле Костромы и по Волге. Под Тверью возникла целая Болгарская волость. Новые волны беженцев с Болгарской земли, но уже в северо-западные, не разгромленные завоевателями области Руси, хлынули в 1238-1242 гг. С включением в 1243 г. территории разгромленного и переставшего существовать государства Волжская Болгария в состав Золотой Орды бегство из ее пределов было запрещено.
По истории Золотой Орды письменных источников, исходящих из самой Орды, сохранилось мало. Изданы арабские, иранские и западные источники, много сведений об Орде содержат русские летописи и актовые материалы. Г.А. Федоровым-Давыдовым, В.Л. Егоровым, A.M. Смирновым проведены археологические раскопки. Богата литература об Орде. Используя указанные источники и литературу, В.И. Буганов и И. Л. Измайлов подготовили и опубликовали обстоятельные энциклопедические статьи [8].
В западноевропейской и российской дореволюционной литературе Золотую Орду отождествляли с монголо-татарским игом, писали о се деспотическом общественно-политическом строе, агрессивности, уничтожении монголо-татарами городов и порабощенного населения. Об оценке Золотой Орды в советской историографии можно судить по статье В.И. Буганова «Золотая Орда», опубликованный в «Советской исторической энциклопедии». В ней подчеркивается агрессивный, военно-феодальный характер Золотой Орды, тяжесть угнетения подчиненных народов, постоянные войны, которые ею проводились. Многие российские историки и поныне придерживаются прежних оценок. В.А. Юрченков, к примеру, пишет «Разрушительные походы Бату-хана и его полководцев завершились созданием на Волге монголо-татарского феодального государства — Золотой Орды. Историк XIII века Ибн-ал-Асир так охарактеризовал пагубные результаты этого: «Это было событие, искры которого разлетелись и зло которого простерлось на всех». Его современник, русский писатель Серапион Владимирский писал не столь пафосно: «Кровь и отець и братья нашея, аки вода многа, землю напои... Множайша же братья и чада наша в плен ведени быша, села наши лядиною проросташа, и величество наше смирися; красота наша погыбе; богатство наше... труд наш погании наследоваше... земля наша иноплеменником в достояние бысть»... Ал-Омари [XIV в.], описывая Поволжье, отмечал: «До покорения ее [этой страны] татарами, она была повсюду возделана, теперь же в ней [только] остатки этой возделанности». Мы же можем добавить: «Вся Болгарская земля полностью оказалась опустошенной, не осталось на ней ни одного города, ни одного села, ни одного человека».
В постсоветское время российские историки начали меньше писать об агрессивности Золотой Орды. Представители казанской исторической школы активизировали изучение Золотой Орды и истории ислама. Некоторые ее представители подходят к этой проблеме с позиций местного патриотизма. Современные взгляды на историю Золотой Орды обобщил И.Л. Измайлов в энциклопедической статье «Золотая Орда». Приведем выдержки из этой статьи. Автор указывает, что Золотая Орда образовалась в 1207-1208 гт. на основе земель, выделенных Чингис ханом в качестве улуса сыну Джучи земель в Прииртышье и Саяно-Алтая, затем в него были включены земли Хорезма и Восточного Приаралья. После смерти Джучи в 1227 г. правителем Улуса был провозглашен хан Бату. В результате его завоеваний в 1229-1242 гг. к Орде были присоединены Южное Приуралье, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ, Мордовия, Волжская Болгария, Крым, ей подчинены русские княжества. В 1243 г Бату разделил Золотую Орду на Ак-Орду и Кок-Орду (в которой левое и правое крыло). Они были поделены на улусы, тумены, тысячи, сотни и др. Орда была связана единой транспортной системой — ямской службой, состоящей из ямов (станций). Старший брат Бату правил в Кок-Орде. Во главе улусов стояли эмиры — улус-беки, во главе более мелких уделов — туменбаши, минбаши (пинпÿ), йозбаши (çepпÿ), унбаши (вунпÿ) и пр. На подвластной территории они осуществляли судопроизводство, набирали войска, командовали ими, организовывали ямскую службу, на подчиненных территориях оседлых народов собирали ясак. В 1257-1259 гг. на подчиненных оседлых территориях было введено подворное налогооблажение, выполнение повинностей (воинской, ямской, трудовой и др.), введен институт баскачества. При хане Менгу-Тимуре Золотая Орда полностью освободилась от зависимости от Центральной монгольской империи. «Верховная власть в Золотой Орде принадлежала Джучидам. До 1360 г. ханами были потомки Бату, затем — Тука-Тимура (до 1502 г.) и Шибанидов». В Кок-Орде и Средней Азии с 1313 г., с принятием татарами и чингисидами ислама, ханами Золотой Орды могли быть только джужды-мусульмане. «Роль центрального исполнительного органа власти в Золотой Орде выполнял диван, состоявший из представителей высшей знати четырех правящих родов — Ширин, Барын, Аргын, Кипчак, которым подчинялись другие тюрко-татарские кланы. Главой дивана являлся везир, который руководил фискальной системой в стране. В государственной иерархии выделялся олуг карачибек (великий карачибек, беклярибек), который ведал судопроизводством, внутренними и внешнеполитическими делами, а также являлся главнокомандующим войсками страны)». Созывались курултаи, на которых решались важнейшие государственные вопросы (в т.ч. выборы и низложение ханов, объявление войны и пр.). На курултаи собиралось около 70 знатных эмиров — правители кланов и улусов. «Высший слой аристократии составляли карачибеки и улусбеки, сыновья и ближайшие родственники хана — огланы, султаны, далее эмиры и беки, военное сословие — бахадуры (батыры) и казаки. Административно-фискальную власть на местах осуществляли чиновники — даругабеки». Мусульмане в пользу духовенства платали гошер и закят. И.Л. Измайлов ясачную систему распространяет на все население Золотой Орды. Это — неверно. В Золотой Орде и позже в татарских ханствах ясачной системе подвергались только подчиненные, оседлые народы. Кочевники-татары все были служилыми, они занимались скотоводством, военным делом и ямской службой.
«Войско Золотой Орды состояло из личных отрядов хана и знати, войсковых формирований и ополчений различных улусов, туменов и городов, а также войск союзников (всего около 250 тыс. чел.)». Кыпчако-татары достигли больших успехов в военном искусстве, являлись мужественными искусными кавалеристами. Автор перечисляет пять наиболее крупных войн Золотой Орды в 1252-1368 гг. против Руси и Ирана [9].
В.И. Бутанов пишет, что «после завоеваний, сопровождавшихся чудовищными разрушениями и человеческими жертвами, главной целью золотоордынских правителей было ограбление порабощенного населения. Это достигалось путем жестоких поборов... Крестьяне-земледельцы Золотой Орда... выплачивали «калан», то есть натуральную ренту, налог с возделанных земельных участков, а также сборы в пользу должностных лиц. Кроме того, они несли дорожную, мостовую, подводную и другие повинности... Тяжесть обложения усиливалась в связи с распространением в Золотой Орде откупной системы сбора налогов, приводившей к массовым злоупотреблениям». И.Л. Измайлов указывает, что главным налогом был ясак (ясак-калан), существовали и другие вилы поземельных и подоходных сборов, пошлин (салыг муссами, тамга-тартнак, харадж и пр.), а также различные повинности, такие, как поставки провианта в войска и властям (амбар малы, улуфа-сусун и т.п.). Ясачное население во время войн призывалось в армию.
В Золотой Орде насчитывалось около 30 крупных городов, до 150- средних и мелких. По мнению В.И. Буганова, ремесленное производство кочевников Золотой Орды имело форму домашних промыслов. В городах Золотой Орды существовали различные ремесла (добывание железа, металлургия, ювелирное дело, гончарное производство, кожевенное дело, изготовление вооружения и т. п.) с производством на рынок, но производителями были, как правило, ремесленники завоеванных областей. Даже в Сарай-Бату и Сарай-Берке ремеслами занимались мастера, вызванные из Хорезма, Северного Кавказа, Крыма, а также пришлые русские, армяне, греки и др.
Р. Г. Фахрутдиновым объективно исследован этногенез татарского народа. Он считает, что единая крупная татарская народность сформировалась в XIV — начале XV вв. из западных кыпчаков (половцев), вторгшихся в Восточную Европу в серединe XI в. и известных в Тюркском каганате с 552 г. татар, прибывших в Восточную Европу в 1236 г. в составе войск хана Бату. Мне представляется, что формирование единой татарской народности началось еще в Золотой Орде с середины XIII в. самим монголов в Золотой Орде было мало – от 2,5 до 9 тысяч семей. Арабский писатель ал-Омари (первая половина XIV в.) писал, что монголы постепенно слились с кыпчаками-татарами.
Вся территория Волжской Болгарии — собственно Болгарская земля, Марийская, Удмуртская, Пермяцкая земли, присоединенная к ней Мордовская земля вошли в состав Золотой Орды. Она стала Болгарским улусом. Северная граница Болгарской земли в XIII — первой половине XIV вв. проходила по Нижней Каме в левобережье и реке Кубне в правобережье Волги. На территории нынешних Алатырского, Порецкого, части Шумерлинского районов Чувашской Республики обитала мордва, между Сурой и Волгой севернее реки Кубни — горные марийцы. В левобережье Волги севернее Нижней Камы — луговые марийцы, удмурты, в Приуралье - - коми-пермяки и коми-зыряне. О том, что эта территория составляла один улус, свидетельствует распространение на этой территории пожалованных земельных участков — беляков (чув. пилĕк) от болгаро-чувашкого слова пил «пожалование». В золотоордынский период термин «беляк» был распространен среди болгаро-чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов, пермяков (размер ясака у ясачных людей определялся по беляку, обычно на двор приходилось пол-беляка земли, поэтому у чувашей появилась единица земельной меры çурпилĕк «половина беляка»). Феодалам-ясакодержателям принадлежали доходы многих (10, 15, 20 и более) беляков земли. С распространением ислама, не признававшего частной собственности на божескую землю и ее недра, феодалы доход в ясаках получали якобы не от земли, а от ее плодов (урожая). Размер земельного пожалования сойюргал определялся не площадью земли, а количеством собираемых с ясачных людей ясаков.
Как и другие улусы, Болгарский улус в управлении и комплектовании армии пользовался некоторыми автономными правами. Даже в период распада Золотой Орды, в начале лета 1391 г., перед приближением к Болгарской земле, к реке Кондурче, армии Аксак-Тимура в состав золотоордынской ханской армии, сказано в документе, не прибыло по зову хана Тохтамыша болгарское войско. Следовательно, Болгарский улус имел свое воинское формирование. Во главе Болгарского улуса стоял монголо-татарский улусбек (эмир). Улус делился на тумены, каждый из которых выставлял во время войны 10 тысяч воинов. Туменами управляли татарские даруги и баскаки. В туменах были татарские таможни. Учитывая примерную численность населения, можно высказать предположение, что на территории Болгарской земли могло быть несколько туменов, у мордвы один и два тумена, у горных марийцев — один, у луговых марийцев — два, у удмуртов и пермяков — по одному. Кочевники-татары, их всадники опасались заезжать в лесные массивы. Марийские, удмуртские, пермяцкие земли были преимущественно лесными. Управление этими туменами и тысячами (мин) на этих землях поручалось болтаро-чувашской элите, знающей и языки этих народов. Поэтому проникновение чувашизмов в марийский, удмуртский и пермяцкий языки продолжалось, по мнению М. Рясянена, до середины XIV — до начала опустошения Болгарской земли. На мордовских землях было много татарских владений. У них туменбашами и минбашами назначались татары [10].
Мы приведем подробное описание болгарского погрома Волжской Болгарии татарами-кыпчаками. Все чуваши, а их около 2 млн. человек помнят и передают из поколения в поколение о борьбе их предков против татар.
Некоторые меня и В.Д. Димитриева, В.Ф. Каховского, Н.И. Ашмарина, С.М. Михайлова, Н. В. Никольского упрекнут в разжигании неприязни к татарам, но это будет ложью. Цель ученых и писателей, драматургов Чувашии - не рознь, а историческая память.
Историю чувашская молодежь должна знать и знать правду истории.
· Чуваши прямые потомки волжских болгар.
· Чуваши сохранили болгарскую историю, болгарский язык, болгарские руны и культуру.
· Чувашские традиции сохранили все от волжско-болгарского народа, язычество, историю, память.
Для интереса мы приведем статью «Предания чуваш» С.М. Михайлова [11]. Приведем только часть статьи, где говорится о переселении чуваш с Черного моря и древних болгаро-языческих богах.
На вопрос, откуда они, чуваши, пришли в теперешнее их жительство, многие не умеют отвечать, а хитрейшие выставляют предание их предков, что они пришли из-за черного моря и из-за дальних гор; но как, когда и по какому случаю было сие их переселение, они, по неимению у них письменности, ничего сказать не могут. Древним своим предком они считают какого-то Чуваша, и себя по нему называют чуваш, так же, как, при спросе кого-либо из них, какой он деревни, он прямо называет родоначальника своей деревни или околодка, а большею частью прежде говорит, что он потомок такого-то родоначальника. Например: Кам эза «Кто ты»? — он говорит: «Чуваш». Хуж ял «Какой деревин»? Ижек, что есть имя родоначальника. Далее на вопрос: Хуж Ижек «Которого отдела или какой младшей деревни?» — отвечает: Тогганаш, что есть имя младшего родоначальника; наконец, при спросе: Хуж Тогганаш «Которого околодка из Тогганашевых?» — отвечает: Хозилакасы «Околодка Васильева». А иногда отвечает скорее, смотря по местному названию своей деревни, не от родоначальников младших, а от местоположения. Например, на тот же вопрос: Хуж ял?— отвечает: Юнга пось, то есть деревни Вершины Юнги (речки).
Чуваши разделяются на низовых и верховых; низовые по-чувашски анатры, то есть низовой, а верховые вирьял «визгливые деревни». По замечанию, к низовым имеют какое-то особенное уважение и называют их старинными или коренными чувашами, так как низовые чуваши и до сих пор костюм свой не одеваются так же, как будто и в старину; но верховые переняли манеры у черемис, по обычаю коих одеваются и живут. Почему же верховые чуваши получили название «визгливые деревни» — неизвестно, а по всей вероятности, от того, что они, проживая в лесах, трубили друг другу, в нужных случаях, в рожки, что самое и ныне у заволжских или луговых черемис водится; в Козьмодемьянском же уезде есть даже околодок Тютькасы, находящийся в лесном месте и получивший название от трубления в рожок, ибо по-чувашски тють калать значит «в рожок играет» [12].
Здесь многие дубравы носят имена родоначальников чуваш, которые показывают в лесах, где они в древности живали. Действительно, я сам был этому очевидец. Например, в дачах деревни Юнги-Ядриной, в лесу, показывают чуваши признаки, где обитал знаменитый предок их Янгильда, имевший довольно пчел и скота; а потом тоже признаки дома строгого и благоразумного Яндуша, которого чуваши, по кончине его, летом повезли хоронить на 9 лошадях, запряженных в дровни, дабы на телеге не растрясло прах этого великого их родоначальника. Яндуш помер уже по принятии св. крещения и назывался Иаковом. Об этом родоначальнике чуваши рассказывают, что он в молодости был беден, находился в работниках у татар за Казанью, но напоследок, возвращаясь на свою родину, поймал дорогою рой пчел, от которого их развелось значительно, так что он имел несколько сот ульев и сделался богачом. Он был всеми уважаем, потому что в рабочее время, разъезжая по полям, наблюдал, кто как работает, и если замечал ленивого, то наказывал плетью сам в таким образом заставлял любить трудолюбие. У него, как говорят, было много дочерей, которые были высокого роста и крепкого телосложения и разъезжали верхами, как воинственные амазонки; жена его была мастерица ходить за дичью, которую наловя, приготовляла для мужа своего кушанье и кричала ему на пчельник:
Килях, Яндуш! Абат янда «Поди, Яндуш! Пища готова».
Известно, что восточные части Казанской губернии гораздо богаче западных остатками древностей; но при розыскании и здесь можно что-нибудь найти, хотя бы Ивановскую гору, и в дачах той же деревни Юнги-Ядриной Градской овраг, по-чувашски Хола вар, о которых имеет быть мною представлено особое описание [13].
Бывший адъюнкт-профессор Сбоев приводит, что у чуваш земными добрыми богами считались: Сюлди падша, Сюлди падша амыж и прочие, то есть «Земной царь», «Земная царица», и что язычествовавшие чуваши боготворили каждого из земных своих владык. На торжественных жертвоприношениях имя великого царя и его семейства произносилось в молитвах, сряду после имени высочайшего бога, прежде всех других небесных божеств. Действительно, чуваши боготворили своих владык; доказательством на это привожу здесь следующий факт. В грамоте, данной городу Билярску, между прочим, упоминается: «В прошлом 1677 году били челом великому царю мурзы и ясашные татары Казанского уезда: в прошлых-де годах, до казанского взятия, изстари построен бусурманский город Булымерский, за Камою рекою; а в нем был царь Балын-Гозя (т. е. Балын-Ходжа), и он-де умер; да в то же время был царь татарский Сафаралей, и того-де Булымерскаго царя похоронил и построил над ним палату каменну», а у здешних чуваш была киреметь под названием тоже «Балын-Гозя», которую и доныне они указывают, как священное их место для жертвоприношений.
Г. Сбоев говорит, что чуваши есть буртасы, поелику во время Болгарского царства обитало здесь три народа – болгары, хозары и буртасы; имени последних не носит уже ни одно племя из народов здешней губернии. Но, однако ж, есть селения под названием Буртас: в Свияжском уезде, при реке Волге (жители русские); в том же уезде, в Майдановской волости, татарская деревня Имелли Буртасы, близ которой находится и чувашская деревня Малые Меми, которая называется по-чувашски Кюльхири,то есть «Озерной берег», по случаю нахождения оной деревни близ одного озера; а в Ядринском уезде, в Байсубаковской волости, есть деревня Буртасы, обитатели которой уже все чуваши. Может быть, довольно деревень под названием Буртас и в других местах, но всех их знать мне невозможно [14].
Теперь здешние верховые чуваши, сливаясь постепенно с черемисами, более их просвещенными, оставляют уже языческие свои заблуждения; а о черемисах горных, то есть живущих в нагорной стороне реки Волги, нечего и говорить: они очень религиозны. В приходах сел Чермышева, Пертнур и Пернягаш, можно сказать, черемисы религиознее даже русских. Здесь от малого и до большого, как мужчины, так и женщины, прилежны к церкви, не пропускают ни одного праздника и воскресного дня, чтобы не быть у божественной службы в церкви. На вопрос: отчего так сделались черемисы религиозны, можно отвечать беспристрастно, что посеяли сие семя на добрую землю попечительные духовные их отцы, а в особенности села Чермышева отец благочинный Михаил Стефанович Краковский с сотрудником своим Федором Семеновичем Сокольским. У них в церкви иногда читают молодые черемисы, а добрый пастырь Михаил Стефанович сказывает всегда поучения им на природном их черемисском языке, и черемисы слушают слова этого пастыря с благоговением. У чуваш же славными проповедниками считаются села Ишак священники Иосиф Максимович Акрамовский, Василий Петрович Громов и некоторые другие. Таким образом, будут исчезать заблуждения инородцев, и «людие, иже не познаша тебе, к тебе прибегнут ради господа бога твоего святого израилева, яко прослави тя».
По рассказам здешних чуваш, в древние времена были у них особые наездники, называвшиеся торханами, которые, будучи вооружены стрелами, разъезжали верхами, как у русских казаки, нападали «а неприятелей и прогоняли их из своих пределов. Таким образом, торханы сии, но словам чуваш, вытеснили будто бы в одно время какого-то беглого вельможу, укрепившегося в лесах их с шайкою и грабившего и разорявшего чуваш: наездники торханы вооружились против него, шали на него и прогнал и его из своей Чувашской области [15].
О киремети Балын-Гозя чуваши рассказывают еще следующее: эта киреметь Балын-Гозя в старину, до простонародному выражению, ломала их, то есть корчила. Напротив этой киремети жили прежде чувашин Тевеля с одним своим другом на избранном ими месте. Однажды они, навьючив своих лошадей хлебом, направились для продажи его в нижегородские области. По продаже хлеба, на возвратном пути в свое жительство через селение, видят они, что жители оного все перемерли от морового поветрия, в тамошних краях тогда существовавшего; это им и наруку: забираются чуваши в дома умерших и находят тьму медных денег, так как тогда по большей части была в употреблении медь, которыми они наполняют свои порожние сумы или мешки и возвращаются благополучно домой. Но лишь только прошло несколько дней после их прибытия с сею добычею, киреметь Балын-Гозя начала всех чуваш ломать. Они умаливают ее и коровами и лошадками, но бесполезно: киреметь начала морить народ нещадно. Тевеля с другом своим, видя, что смерть на носу, немедленно удаляются от этой страшной и неумолимой киремети в другое место для жительства и тем спасаются от смерти. По всей вероятности, смертность занесена была Тевелею с другом из нижегородских областей вместе с деньгами, но чуваши, по суеверию своему, приписали оную киремети Балын-Гозя [16].
Сложные проблемы выдавливания и ассимиляции, татаризации и исламизации со стороны татар наши предки ощущали с сер. XVI в. (1445-1552 гг.). Мы вновь приведем позицию В.Д. Димитриева, где он говорит о вхождении Чувашии в состав России.
«Сами чуваши в те далекие времена не могли представить себе всей глубины значений этого важнейшего событий. Их стремлением было избавиться от ханского ига и облегчить свое социально-экономическое и политическое положение. Они тогда уже разуверились в возможности восстановления своей государственности, будучи очень сильно ослабленными в результате опустошения Болгарской земли и ассимиляции значительной части левобережных чувашей татарами.
Самым важным результатом мирного вхождения чувашей в состав России было сохранение их как народность. В Казанском ханстве почти половина левобережных чувашей — «худых болгар» была отатарена. Если бы продолжалось существование Казанского ханства и исламизация чувашей, то все они были бы отатарены, исчезли как этнос. Даже в составе России отатаривание левобережных чувашей продолжалось (многие левобережные чуваши переселились в Нижнее Закамье и Башкирию), но правобережные чуваши и значительная часть при казанских и заказанских чувашей Чувашской (Зюрейской) дороги сохранились как этнос и численно увеличились за 450 лет примерно в 10 раз. В России чувашский народ не испытывал геноцида. До XX а. почти не было его обрусения.
В составе России Чувашия стала областью относительно высокой земледельческой культуры. Почти половина ее территории распахивалась. Возделывались рожь, овес, ячмень, полба, горох, просо, гречиха в меньшей мере пшеница. Высок был удельный вес животноводства. Важное место в хозяйстве принадлежало также охоте, бортничеству; сельским промыслам по обработке дерева, кожи шерсти, волокна и пр. Среди народов Поволжья и Приуралья чуваши зарекомендовал и себя как наиболее рачительные земледельцы [17].
Вхождение в состав России не избавило чувашей от социального и национального гнета. Над ними был установлен колониальный гнет сначала Московской, затем Петербургской империй, заинтересованных получать от них, прежде всего доходы, прибыль, использовать их для усиления своей мощи. Чувашские крестьяне платили в царскую казну денежные и натуральные подати, несли многочисленные повинности, включая воинскую. Царское правительство в начале XVII в. запретило чувашам, марийцам и удмуртам заниматься кузнечным и серебряным делом. Чувашским крестьянам до середины XIX в. не разрешали заниматься торговлей. В течение XVII в. одаль нал прослойка из чувашей - окружные князья (пÿ), сотные князья (çерпÿ), десятые князья (вунпÿ) - постепенно редела и в 1718-1723 гг. вместе со служивыми чувашами (их было около 2,5 тыс.) по указам Петра I была нивелирована с государственными крестьянами. Национально-колониальная политика царизма тормозила развитие экономики, общественных отношений и культуры чувашского народа.
Не соответствует действительности заявление А.В.Изоркина о том, что с присоединением Чувашии к России «татарский гнет сменился более жестоким русским». Российское централизованное государство в социально-экономическом, культурном и политическом отношениях стояло выше, чем военно-феодальное Казанское ханство с сильно выраженными чертами восточного деспотизма. В России чуваши оказались в условиях высокоразвитого феодального строя. Ими управляли и их судили по законам и юридическим нормам развитого русского феодального права, хотя дворянско-чиновничий произвол, вымогательства и взяточничество чиновников среди чувашей и других народов удваивали тяжесть их эксплуатации. Все те условия мирного вхождения чувашского и других народов Горной стороны, изложенные в жалованной грамоте Ивана IV с вислой золотой печатью, в основном выполнялись. Пахотные земли и бортные леса сохранялись за ними: на территории компактного расселения чувашей в XVI - первой половине XIX вв. в руки русских помещиков и монастырей, а также под городские поселения перешло только около четырех процентов земель. Чувашские трудовые массы были оставлены в ясачнообязанном состоянии, в XVIII в. стали государственными крестьянами, не передавались в руки помещиков, монастырей и дворцового ведомства. Лишь в Саратовском Поволжье несколько чувашских деревень было закрепощено графом Орловым, а в 30-х гг. XIX в. около 100 тыс. чувашских крестьян Симбирской губернии стали удельными и пребывали в таком положении до 1863 года.
С вхождением в состав Российского государства произошли коренные изменения в управлении Чувашским краем. На место ханской администрации, изгнанной с территории Чувашии в ходе освободительной борьбы, была установлена российская колониальная система управления»[18].
Обратим внимание на теорию проблемы: «в любом обществе социально-экономическое развитие и культурная трансформация протекают неравномерно в территориальном и социальном плане, что закономерно порождает, с одной стороны, противоречия в интересах различных региональных или социально-классовых (в том числе и национальных) групп, а с другой - необходимость постоянного поиска нового баланса властных полномочий между их представителями.
В многонациональных государствах эти процессы неравномерного развития столь же закономерно приобретают определенную этническую окраску, поскольку разные народы населяют различные территории и имеют разное представительство в социально-классовых группах. Постепенно накапливаются и реальные социальные сдвиги, например изменение социально-классовой структуры народов, появление многочисленной и влиятельной национальной интеллигенции и тому подобные результаты социокультурной модернизации. Таким образом, этнические конфликты можно считать практически неизбежным следствием самого факта существования и развития многонационального государства.
В качестве инициаторов начинающегося этнического конфликта всегда выступают лидеры этнических общностей (очень часто стоящие во главе национального движения), преследующие цель - изменить существующую в данный момент ситуацию в интересах обеспечения более справедливого» с их точки зрения, учета национальных интересов их народа.
Инициативу таких политических лидеров, их нацеленность на конфронтацию в обществе нельзя интерпретировать или оценивать только отрицательно, поскольку стремление к переменам зачастую бывает совершенно оправданным и справедливым в силу реально сложившегося на определенный момент ущемления интересов этнической группы, которую эти люди представляют» [19].
Конечно, очень сложными были времена с 1918-1920 гг., когда шло «деление» земель в Урало-Поволжском регионе на автономии РСФСР:
1. Татарская АССР;
2. Башкирская АССР;
3. Чувашская АССР;
4. Марийская АССР и т.д.
Чувашей не спрашивали, какие территории войдут в Чувашскую автономию. Делили по этническому признаку, которые регулировались наличием титульной нации. Кажется верно, но чуваши получили «огрызки» от земель Волжской Болгарии и Казанско-Симбирской губернии. Исследователь С.В. Щербаков в книге «Национальное самоопределение чувашского народа в начале XX века: идеологический аспект» подробно описал этнопсихологическую борьбу за автономии [20].
По личному выражению С.В. Щербакова «правительство РСФСР «вогнало» чувашскую автономию в территориальные рамки» [21].
Нам надо помнить:
1. Первыми создали свою автономию башкиры (Башкирска АССР).
2. Вторыми оказались -татары (Татарская АССР).
3. Оставшаяся часть была оставлена чувашскому этносу (без г. Симбирска и большей части ее губернии).
Обратим внимание на позицию С.В. Щербакова: «Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
1. Происхождение «проекта Чувашской трудовой коммуны» носит автохтонный и самобытный характер, имеющий корни в недрах традиционного чувашского миропонимания и отражающий многовековые чаяния народа. Вопреки распространенному мнению, мы считаем, что данный проект имеет минимальное отношение к немецкой автономии (Трудовая коммуна области немцев Поволжья), так как у них изначально разные сущности: у немцев Поволжья преобладает национально-территориальный аспект, в то время как у чувашей - экстерриториальный. Кроме того, чувашский проект совершенно не имеет отношения к Карельской трудовой коммуне, так как ее проект был разработан гораздо позднее, чем чувашский;
2) «Проект Чувашской трудовой коммуны» является типичным проектом чувашской культурной автономии экстерриториального характера с незначительным сочетанием территориальных аспектов. Согласно докладной записке Д.С. Эльменя в ВЦИК от 3 января 1920 г. речь шла исключительно о национальной автономии» а территории испрашивались только для использования, но не владения и самоуправления на них. Смысл записки фактически состоит в том, чтобы чувашские общины наделить особым статусом национальной «коммуны» и получить разрешение на прежних условиях использовать свои традиционные земли.
Чувашская трудовая коммуна не была утверждена не из-за того, что правительство РСФСР не устроило слово «коммуна», как это зачастую трактуется в историографии, а из-за неприемлемости ее экстерриториальной сущности. Согласие Д.С Эльменя на наименование чувашской автономии Чувашская Автономная область носило вынужденный характер, чтобы в некоторой степени сохранить экстерриториальную сущность чувашской автономии;
3) Дальнейшее развитие идей и проектов после июня 1920 г. было очень затруднительно, так как правительство РСФСР «вгоняло» чувашскую автономию в территориальные рамки. Для этих целей оно использовало:
· во-первых, разногласия внутри чувашского руководства (противостояние «блока Эльменя» и «блока Коричева»);
· во-вторых, фактически принудительная ликвидация Чувашского отдела при Наркомнаце с экстерриториальным и всероссийским статусом, а так же навязывание открытия в Москве Представительства Чувашской АО только с национально-территориальным статусом.
· в-третьих, давление через размеры оказания экономической помощи Чувашской АО для преодоления последствий голода 1921 г.
В результате Д.С. Эльмень весной-летом 1921 г. в Чувашии был отстранен от всех руководящих постов и «отправлен на коммунистическую работу» в Сибирь. Только после этого дальнейшее развитие Чувашии пошло преимущественно по национально-территориальному пути развития, и уже в 1921 г. стал подниматься вопрос о необходимости преобразования области в автономную республику. Вопрос о попытках возрождения некоторых экстерриториальных элементов в 1920-1930-ые гг. носил эпизодический характер. [22].
Неконтролируемое развитие и самоуничтожение этнического конфликта также является реальным и достаточно часто встречающимся его исходом.
Существует два основных сценария разрушения полиэтнического общества и тем самым прекращения этнического конфликта:
· изменение территории (за счет проведения новых государственных границ, отделяющих одну из конфликтующих сторон от другой);
· изменение этнического состава населения (за счет депортации «враждебных групп», выделяемых по этнонациональному признаку).
1. В конце ХХ в. татарские националисты из Татарстана стали требовать вывода из Чувашии Яльчикского, Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского районов. Идея татарских националистов была приторможена.
2. В 1919 г. Шаймиев еще далее пошел «мы согласны включить в состав Казанской губернии (Татарстана) Марий Эл и Чувашию».
3. С 40 г. XX в. Татарстане идет активный процесс изъятия у чувашей их болгарской части истории и навязывания ложной истории, мол, чуваши-сувары.
Рекомендации психологов:
Как показывают исследования отечественных ученых, существуют следующие направления предупреждения и преодоления этнических конфликтов:
· Раннее прогнозирование (знание ситуации даст возможность принять необходимые меры до того, как конфликт вызрел);
· Оперативное решение наиболее острых вопросов, которые не требуют длительной подготовки и больших затрат; организационно-политическая и разъяснительная работа;
· Налаживание диалога противостоящих сторон, переговорного процесса, как правило, с участием нейтральной стороны.
· Организация взаимовыгодного предпринимательства: строительства совместных предприятий, свободных экономических зон, зон совместной торговли, в целом- налаживание полнокровного экономического сотрудничества;
· Создание инфраструктуры духовного сотрудничества, развитие туризма, спорта и т.п.
Литература:
1. Улып: Чувашский народный эпос. – Чебоксары, 2009. – С.409.
2. Улып. – С. 411.
3. Улып. – С. 413.
4. Улып. – С. 416.
5. Улып. – С. 419.
6. Крысько, В.Г. Этническая психология/В.Г. Крысько. СПб., - 2008. – С. 221.
7. Чувашский народ в составе Казанского ханства: Предыстория и история/Д.В.Басманцев. – Чебоксары, 2014. – С. 115.
8. Там же – С. 116.
9. Там же – С. 117-118.
10. Там же – С. 119-120.
11. Михайлов, С.М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов/С.М. Михайлов, Чебоксары, 1971 г. – 423 г.
12. Там же – С. 27.
13. Там же – С. 28.
14. Там же – С. 29.
15. Там же – С. 30.
16. Там же – С. 31.
17. Димитриев, В.Д. Мирное присоединение Чувашии к Российскому государству/В.Д. Димитриев – Чебоксары, 2001. – С. 104.
18. Там же – С. 103.
19. Этническая психология – С. 225.
20. Щербаков, С.В. Национальное самоопределение чувашского народа в начале ХХ века: идеологический аспект/С.В. Щербаков. – Чебоксары, 2013. – 176 с.
21. Там же – С. 149.
22. Там же – С. 149.
 2015-05-18
2015-05-18 578
578






