
| 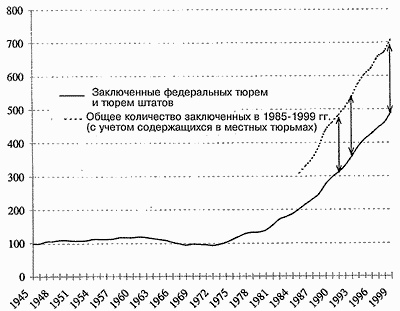
|

|
В книгу были внесены существенные изменения и дополнения. Из графика, приведенного ниже, ясно, почему это было необходимо. В нем показано, сколько было заключенных в США (на 100 000 жителей) с 1945 по 1999 годы. Жирная линия обозначает данные по федеральным тюрьмам и тюрьмам штатов, пунктирная – с учетом содержащихся в местных тюрьмах.
Вот три основные даты написания и переработки этой книги.
В 1991 году, когда готовилось первое издание, количество заключенных в США достигло 1 219 014 человек, или 482 на 100 000 жителей.
В 1993 году, во время работы над вторым изданием, заключенных было 1 369 185 или 537 человек на 100 000 жителей. В подзаголовке книги стоял вопрос: “Вперед, ГУЛАГу западного образца?” Во втором издании вопросительный знак я убрал.
В конце 1999 года в США было предположительно 1 934 532 заключенных, то есть 709 на 100 000 жителей. В феврале 2000 года, когда готовилось в печать третье издание книги, количество заключенных в США перевалило за два миллиона. (Los Angeles Times Service, 16 февраля 2000 г. – по данным Института правовой политики, Вашингтон)
|
|
|
В России ситуация схожая, о чем написано в главах 3 и 6. То, что в 1991 году внушало тревогу, на рубеже веков обернулось катастрофой.
Чтобы отследить все эти изменения, я переработал и переписал значительную часть книги. Появились две новые главы – в “Географии наказаний” и в “Русском вопросе”. Главы 4, 5, 7, 8 и 9 значительно переработаны, старую главу 10 я убрал, а остальные главы оставил без изменений. Объем книги я не увеличивал. Исландские саги писали, пока рассказывали, и заканчивали тогда, когда (воображаемые) слушатели засыпали. Очень полезная традиция.
Осло, февраль 2000,
Н. К.
Предисловие к первому русскому изданию
Автор предлагаемой российскому читателю книги – профессор криминологии Университета Осло (Норвегия) Нильс Кристи хорошо известен мировому научному сообществу, а благодаря переведенной в 1985 г. на русский язык книге “Пределы наказания” – и отечественным читателям.
Н.Кристи многие годы был директором норвежского Института криминологии и уголовного права, президентом Скандинавского Совета по криминологии. Он член Академий наук Норвегии и Швеции, автор множества статей и более чем десяти книг, из которых наиболее, пожалуй, известная и постоянно цитируемая книга – “Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к ГУЛАГу западного образца?” (1993).
Все труды Н.Кристи и его устные выступления, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, служат образцом научной корректности и гуманизма. Профессор Кристи всегда на стороне “униженных и оскорбленных”. Он последовательный противник смертной казни, роста “тюремного населения”, сторонник гуманизации наказания (при непременной защите интересов потерпевших). Кристи прекрасно понимает, что наказание, особенно в его наиболее репрессивных формах, – само есть зло, и пользоваться им следует с особой осторожностью и в минимальных размерах. Поэтому он всегда участвует в движениях, практической деятельности, направленных на минимизацию негативных последствий наказания. Нильс Кристи – один из основателей движения аболиционизма (за отмену смертной казни и применение мер, альтернативных лишению свободы), один из иностранных экспертов Национальной комиссии по уголовной юстиции США, которая в итоговом докладе (1996) приходит к выводу: от войны с преступностью, от войны с наркотиками пора переходить к стратегии “сокращения вреда”.
|
|
|
В научных трудах и в практической деятельности Кристи выступает за равноправные, партнерские отношения с заключенными и наркоманами, людьми с психическими отклонениями. Еще одна книга на эту тему – “По ту сторону одиночества. Сообщества необычных людей” – также переведена на русский язык и издана в 1993 г.
Идеи, которые последовательно развивает и отстаивает Нильс Кристи, особенно необходимы в современном мире, когда насилие и преступность все чаще напоминают о себе. Отказ от насилия, терпимость к инакомыслию и инакодействию, мирное разрешение неизбежных в обществе конфликтов – вот единственно возможный путь, не влекущий человечество в бездну кровавой бойни.
Думается, излишне пересказывать содержание предлагаемой книги Н.Кристи. Вдумчивый читатель сам найдет в ней пищу для размышлений, а может быть, и для дискуссий. Мне остается лишь порадоваться, что еще одна книга известного ученого и прекрасного человека становится доступной русскоязычному читателю.
Доктор юридических наук, профессор Яков Гилинский
Посвящается Ивану Илличу
Глава 1
Эффективность и мораль
Эта книга – предостережение о позднейших неблагополучных тенденциях в области борьбы с преступностью. Постановка вопроса проста. Общество на Западе повсеместно сталкивается с двумя главными проблемами: неравномерное распределение богатства и неравный доступ к оплачиваемой работе. Обе они несут в себе потенциал возникновения беспорядков. Индустрия борьбы с преступностью способна справиться с обеими проблемами. С одной стороны, она является источником работы и прибыли, с другой – обеспечивает контроль над теми, кто мог бы стать источником социальных потрясений.
По сравнению с другими отраслями, индустрия борьбы с преступностью занимает одну из самых привилегированных позиций. Здесь нет недостатка сырья, поскольку конца преступности не видно. Не видно также конца спросу на соответствующие услуги, равно как и готовности платить за то, что понимается как безопасность. При этом обычные вопросы загрязнения окружающей среды, присущие другим отраслям, не возникают вообще. Напротив, эта отрасль индустрии предназначена для очистки, удаления нежелательных элементов из социальной системы.
От людей, занятых в какой-либо индустриальной отрасли или связанных с ней, не часто можно услышать заявления о том, что в данный момент размер системы оптимален: “мол, мы сейчас достаточно развиты, твердо стоим на ногах и не нуждаемся в дальнейшем росте”. Стремление к экспансии заложено в индустриальном образе мышления, хотя бы как результат стремления избежать поглощения конкурентами.
Не является исключением и индустрия борьбы с преступностью.
Но эта отрасль обладает специфическими преимуществами в интересующем нас смысле, поскольку она обеспечивает средства для ведения, как часто говорится, перманентной войны с преступностью. Индустрия борьбы с преступностью, как в случае с кроликами в Австралии или с дикими норками в Норвегии, имеет очень мало естественных врагов.
|
|
|
Вера в то, что война, не замечаемая другими отраслями индустрии, идет, является мощной движущей силой развития отрасли. Другой силой является общая тенденция перехода на индустриальный способ мышления, организации и поведения.
Институт законности находится в процессе изменения. Прежним его символом была богиня правосудия с завязанными глазами и весами в руке. Перед ней стояла задача сбалансировать множество противоположных ценностей. Эта задача более не актуальна. Внутри института законности произошла тихая революция, обеспечившая все возрастающие возможности роста индустрии борьбы с преступностью.
Благодаря этим изменениям сложилась ситуация, от которой следует ожидать значительного роста количества заключенных.
Однако здесь действуют и противоположные силы. Как будет ниже документально показано, существуют огромные расхождения между показателями количества заключенных в странах, разница между которыми в других отношениях относительно невелика. Перед нами также стоят “необъяснимые” вариации этих показателей внутри одной страны. Количество заключенных может падать в те периоды, когда оно, если судить по показателям уголовной статистики, экономики и материальным условиям жизни, должно расти, и наоборот, количество заключенных может расти в то время, как, по тем же самым показателям, оно должно падать. За этим “неправильным статистическим поведением” стоят представления о том, что должно считаться правильным и справедливым по отношению к человеческим существам – представления, которые противодействуют “рациональным” индустриально-экономическим подходам. В первых главах книги документально зафиксировано влияние этих противодействующих сил.
Из всего этого я делаю следующий вывод. В нашей нынешней ситуации, исключительно выгодной для роста количества заключенных, особенно важно осознавать, что вопрос о количестве заключенных является нормативным. Мы свободны в своих решениях. И в то же время именно мы обязаны принимать эти решения. Мы сами должны устанавливать пределы роста тюремной индустрии.
|
|
|
Ситуация, в которой мы находимся, настоятельно требует серьезного обсуждения того, до каких пределов можно допустить рост нынешней системы внешнего контроля. Размышления, анализ ценностей, этические соображения – но не индустриальный подход – должны определять пределы контроля, давать ответ на вопрос о его достаточности. Количество заключенных является результатом принимаемых нами решений. Мы свободны в своем выборе. Экономические и материальные факторы становятся главными только тогда, когда мы не осознаем этой свободы. Борьба с преступностью стала индустрией. Однако индустрия должна быть сбалансирована. Эта книга – о резком подъеме тюремной индустрии и, в то же время, о противодействующих моральных факторах.
Сказанное вовсе не означает, что современное общество безразлично к защите жизни, здоровья или собственности. Напротив, жизнь в высокоразвитом обществе во многих случаях предполагает такое окружение, в котором правоохранительные институты считаются существенной гарантией безопасности. Ничего хорошего не получится, если не принимать эту проблему всерьез. Каждое современное общество должно уделять внимание тому, что в целом воспринимается как проблема преступности. Государство должно держать под контролем эту проблему, расходуя деньги, привлекая людей, создавая условия. Написанное ниже не должно рассматриваться как призыв к возврату на низшую ступень социальной организации, свободную от внешнего контроля. Это призыв к размышлению о границах такого контроля.
За моими предостережениями по поводу этих тенденций лежит тень нашей новейшей истории. Недавние исследования, посвященные концентрационным лагерям и Гулагу, привели нас к новым важным идеям. Проблема не в том, как это могло случиться. Проблема скорее в том, почему это не случалось чаще, а также когда, где и как это произойдет в следующий раз1. Книга Зигмунта Баумана “Современность и Холокост” (Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, 1989) является вехой в развитии этого подхода.
Современные институты борьбы с преступностью содержат определенные потенции их перерастания в Гулаг западного образца. С окончанием холодной войны, в состоянии глубокого экономического спада и в ситуации, когда у ведущих промышленных стран больше нет внешних врагов, против которых они могли бы мобилизовать свой потенциал, вовсе не кажется невероятным, что наивысший приоритет будет отдан войне против внутренних врагов, что подтверждается твердо установленными историческими прецедентами.
Гулаги западного образца не будут предназначены для уничтожения. Однако они позволят устранять из повседневного общественного быта значительную часть потенциальных нарушителей порядка на срок, охватывающий большую часть их жизни. Потенциально такие институты могут трансформировать жизнь этих людей, в ее наиболее активной стадии, в такое существование, определение которого очень близко к немецкому выражению о жизни, которую не стоит проживать. “Не существует такого типа национального государства, которое было бы полностью невосприимчиво к возможности попасть под власть тоталитарного режима”, говорит Энтони Гидденс (Anthony Giddens, 1985, p. 309). Я хотел бы добавить следующее. В современном обществе главная опасность преступности состоит не в преступлениях, а в том, что борьба с преступностью может столкнуть общество на тоталитарный путь развития.
Анализ, который я здесь предлагаю, глубоко пессимистичен и, как таковой, противоположен тому, что, как я полагаю, является основой моего отношения ко многому в жизни. Следует также отметить, что мои размышления относятся прежде всего к США – то есть стране, к которой я, по многим причинам, чувствую свою близость. Отдельные части этой работы я довел до сведения моих американских коллег в ходе семинаров и лекций как в США, так и за пределами этой страны. И, как мне известно, они были обескуражены. Они не обязательно высказывали несогласие. Наоборот, мои коллеги скорее были озабочены тем, что их рассматривают как представителей (которыми они, разумеется, являются) страны с особой склонностью к тем тенденциям, которые я обрисовал. В такой ситуации немного удовольствия в утверждениях о том, что Европа имеет большие шансы в какой-то момент последовать примеру своего старшего брата на Западе.
Однако предостережение также может быть актом, несущим оптимистическое начало. Предостережение предполагает веру в возможность изменений.
* * *
Эта книга посвящена Ивану Илличу. На его идеях основано многое, изложенное здесь, и, кроме того, он очень много значил для меня лично. Иллич не пишет о борьбе с преступностью как таковой, однако он видел корни того, что мы видим сейчас: средства решения проблем, приводящие к зависимости от этих средств, знания, ставшие вотчиной экспертов, уязвимость человека, вынужденного верить в то, что решения его проблем находятся в руках и умах других людей. То, что происходит при индустриальном подходе к проблеме борьбы с преступностью, представляет собой экстремальное проявление тех тенденций, о которых постоянно предостерегал Иван Иллич. Я включил в библиографию названия некоторых из его основных работ, хотя на них и нет прямых ссылок в тексте. Его работы присутствуют в книге несмотря ни на что.
Несколько заключительных замечаний, касающихся моих притязаний, формы изложения и языка.
Данная работа представляет собой попытку создать целостное представление об обширной группе явлений, которые очень часто рассматриваются изолированно друг от друга. Из некоторых глав могли бы получиться отдельные книги, однако для меня было интересно представить их вместе, то есть в форме, открытой для исследования взаимных связей между ними. Я пытаюсь помочь читателю самому определить эти взаимосвязи, не особенно склоняя его к своему собственному их пониманию. Представленный мной материал можно интерпретировать способами, которые совершенно отличаются от того, что я имел в виду. Это можно только приветствовать. У меня не было желания создать нечто замкнутое, закрытое, напротив, я стремился открыть новые перспективы в бесконечном поиске смысла.
О языке и форме изложения. Текст на социологическом жаргоне обычно заполнен понятиями, заимствованными из латыни, он перегружен сложной структурой предложений. Это выглядит так, как если бы использование простых слов и предложений подрывало доверие к доводам и объяснениям. Я ненавижу эту традицию. Я пишу, держа в голове образ “любимой тетушки”, то есть обобщенную фигуру простого человека, достаточно благосклонного ко мне, чтобы сделать попытку понять текст, но благосклонного не до такой степени, чтобы разбираться в смысле терминов и предложений, специально усложненных для того, чтобы выглядеть научными.
Глава 12
Современность и контроль поведения
 2015-05-30
2015-05-30 231
231







