Перед тем как покинуть маленькую потаенную часовню на крыше храма Дендеры, я обратил внимание на восхитительное изображение Зодиака, вырезанное на ее потолке. Я знал, что это всего лишь копия и что оригинал был более века назад срезан и увезен в Париж, но это была абсолютно точная копия.
Огромный круг, символизирующий Землю, был усеян изображениями животных, людей и божеств. А вокруг него были расположены двенадцать хорошо всем известных знаков Зодиака. Завершали эту удивительную композицию изображения двенадцати различных богов и богинь, коленопреклоненных или стоящих во весь рост вокруг земного шара с поднятыми вверх руками. Казалось, они неустанно следят за тем, чтобы земной шар ни на йоту не замедлял своего вращения. Таким образом, этот замечательный образец художественной резьбы по камню представлял собой довольно точное, хотя и схематичное, изображение всей вселенной в ее непрестанном движении, напоминание о тех шарообразных мирах, что ритмично обращаются вокруг нашего мира. Даже самый скептический ум не смог бы не признать несомненного величия разума, который смог создать подобную модель вселенной.
|
|
|
Желающему более обстоятельно расшифровать смысл изображения на потолке часовни в Дендере следует помнить, что на нем представлена карта звездного неба иной, давно минувшей эпохи (какой именно — это уже другой вопрос). Вряд ли будет уместно вдаваться в сложные астрономические выкладки на страницах этой книги. Достаточно будет сказать, что расположение созвездий в древнем Зодиаке не совпадает с современным.
Так, например, отмеченная в храмовом Зодиаке Дендеры точка весеннего равноденствия смещена по отношению к нынешней, да и Солнце вступает в это время в совсем другое созвездие, чем теперь.
Чем же вызвана столь существенная разница? Ее причина кроется в движении Земли, ось вращения которой в разные эпохи направлена на разные звезды, которые, вследствие этого, становятся Полярными. А это означает, что наше Солнце, в свою очередь, вращается вокруг некоего собственного центрального Солнца. Это почти незаметное возвратное движение точки равноденствия (ее смещение становится ощутимым лишь по прошествии многих столетий), в свою очередь, изменяет место восхода и захода некоторых звезд относительно определенных созвездий.
Исследуя траекторию движения звезды, мы можем вычислить, в какой точке небосвода она находилась тысячи и десятки тысяч лет назад. Тот временной интервал, пока звезда описывает подобным образом полный круг, следуя в обратном движению Солнца направлении, называется великой прецессией или «прецессией точки равноденствия». Таким образом, вследствие этой прецессии, точка пересечения небесного экватора с эклиптикой (а это и есть точка весеннего равноденствия) медленно, но безостановочно перемещается по небосводу.
|
|
|
Иначе говоря, для земного наблюдателя звезды каждодневно смещаются, хоть и весьма незначительно, в направлении, обратном чередованию знаков Зодиака. И это медленное движение небесной сферы, напоминающее неспешное вращение всей нашей вселенной, создает своего рода космические часы, циферблатом для которых служит все звездное небо. С помощью этих часов мы можем отсчитывать время как назад, так и вперед, определяя угол наклона земной оси для любого тысячелетия.
Изучая древнюю карту звездного неба, астроном может уверенно определить, в какой период она была создана. Такая карта порой может принести огромную пользу исследователю далекого прошлого. Когда приехавшие вместе с Наполеоном в Египет европейские ученые обнаружили Зодиак Дендеры, они проявили к нему поначалу немалый интерес, поскольку понадеялись с его помощью определить возраст египетской цивилизации. То, что точка весеннего равноденствия указана в этом Зодиаке в существенном отдалении от современной, было замечено сразу. Но когда впоследствии было установлено, что храм был построен уже в греко-римскую эпоху, и Зодиак, наверное, был списан с греческого, о нем тут же забыли и с тех пор не уделяли ему внимания.
Но теория, приписывающая дендерскому Зодиаку исключительно греческое происхождение, не совсем верна, поскольку вряд ли можно согласиться с тем, что у египтян не было своего собственного Зодиака. Можно ли представить себе, что египетское жречество, тысячелетиями изучавшее астрономию и астрологию, не имело собственного Зодиака до тех самых пор, пока к пологим песчаным берегам Египта не пристали первые греческие корабли, ведомые в неизвестные им доселе морские дали картами звездного неба, на которых были особым образом выделены двенадцать созвездий? Как могли эти жрецы, настолько уважительно от-сносившиеся к астрологии, что она даже стала частью их религии, исполнять свои ритуалы без знания Зодиака? Тем более, что знание астрономии считалось в древности одним из самых главных предметов гордости египтян.
Вернее всего будет предположить, что египтяне скопировали дендерский Зодиак (по крайней мере, частично) с какого-то более раннего образца, ведь храм Дендеры по меньшей мере дважды перестраивался за время своего существования. Так что нет ничего удивительного в том, что этот уникальный астрономический чертеж мог неоднократно реставрироваться и воссоздаваться заново по мере разрушения под воздействием времени. То же самое должно было происходить и с древнейшими текстами, пока их не начали понемногу забывать и не позабыли окончательно после того, как исчезли их последние жрецы-хранители.
В ходе археологических раскопок в Месопотамии были обнаружены таблички из обожженной глины, где халдейские астрономы указывали в качестве начала весны вхождение Солнца в созвездие Тельца. Как известно, в христианскую эру наступление весны всегда приходилось на начало месяца Овна, то есть примерно на 21-ое марта. И подобное расхождение с халдейским календарем объясняется отнюдь не переменой климата, но великой древностью халдейской цивилизации — древностью, о которой не раз говорили сами халдеи. Точно также и расположение точки равноденствия в Зодиаке Дендеры возводит его к эпохе, отстоящей от нашей даже не на века, но на сотни веков! Таким образом, именно к той эпохе следует отнести истоки египетской цивилизации. Ибо местоположение точки равнодентвия свидетельствует, что с тех пор космический циферблат успел отсчитать уже более трех с половиной «великих лет», что Солнце успело сделать вокруг своего собственного центрального Солнца уже более чем три с половиной оборота.
|
|
|
Вычисления астрономов свидетельствуют, что средняя скорость прецессии точек равноденствия составляет примерно 50,2 секунды в год. Исходя из этого, мы можем вычислить дату, на которую указывает нам Зодиак Дендеры. Учитывая то, что полная окружность равна 360 градусам, мы можем определить, что один «великий год» (то есть один полный оборот точки равноденствия по кругу Зодиака) составляет 25800 солнечных лет.
Далее уже несложно определить путем простых вычислений, что Зодиак храма Дендеры указывает на время, отстоящее от нашего на 90000 лет.
Девяносто тысяч лет! Но так ли уж невероятна и невозможна эта цифра? Египетские жрецы-астрономы так не считали. По словам греческого историка Геродота, египетские жрецы говорили ему, что их раса — самая древняя среди людей и что в их тайных школах и храмах хранятся записи, сделанные за 12000 лет до его (Геродота) визита в эту страну. Геродот, как известно, был на редкость осторожен в подборе фактов, за что и был удостоен почетного титула — «отец истории». И все же он счел возможным повторить услышанные им сведения о том, что «Солнце дважды восходило там, где оно сейчас заходит, и дважды заходило там, где сейчас восходит».
Из этого парадоксального заявления следует, что земные полюса иногда менялись местами, что, в свою очередь, приводило к катастрофическим перемещениям моря и суши. Подобные катастрофы, как свидетельствует геологическая наука, имели место на самом деле; но датируются они весьма отдаленными от нашего времени геологическими эпохами.
Эти катастрофы должны были иметь следствием прежде всего радикальное изменение климата на полюсах (некогда тропический, он только в нашу геологическую эпоху стал арктическим). К примеру, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что вся Северная Европа, включая Британские острова, ранее была покрыта толщей льда в несколько сот футов. Льды заполонили все долины, и лишь вершины гор да самых высоких холмов возвышались над ними. Такие изменения на нашей планете могли быть вызваны только крупномасштабными астрономическими катаклизмами. Следовательно, утверждение египетских жрецов выглядит вполне обоснованным.
|
|
|
У египтян не было геологической науки в современном понимании этого слова. Все, чем они располагали, — это древние записи, высеченные на каменных обелисках, выдавленные на глиняных табличках, вырезанные на металле или написанные тростниковой палочкой на листах папируса. Существовало еще традиционное тайное учение и тайная история, передававшиеся лишь в мистериях, — то есть без всякой письменной фиксации из уст в уста на протяжении множества столетий.
Откуда еще было знать жрецам, не знакомым с геологией, об этих древних планетарных катастрофах, как не из письменных источников, которые они хранили? Их знания — лучшее доказательство того, что эти источники действительно существовали; а это, в свою очередь, подтверждает реальность древнего Зодиака, с которого отчасти скопирован Зодиак храма Дендеры.
В свете указанных фактов цифра в девяносто тысяч лет уже не кажется такой уж неправдоподобной. Это не означает, что египетская культура уже в те времена процветала в северо-восточной Африке. Культура и ее носители могли обитать на каком-то ином континенте, а уже потом переселиться в Африку. Разумеется, вышеприведенные аргументы не содержат никаких хоть сколь-нибудь убедительных доказательств этого тезиса; но почему бы не признать, что подобное объяснение выглядит вполне логичным?
Наши версии египетской истории начинаются с правления первой династии, но не следует забывать о том, что страна была заселена задолго до появления первых памятников письменности. История египтян и имена их царей — terra incognita для египтологов. Ранняя история Египта связана с поздней историей Атлантиды. Египетские жрецы, бывшие к тому же астрономами, заимствовали свой Зодиак у атлантов. Вот почему Зодиак Дендеры охватывает гораздо больший диапазон прецессии небесной сферы, чем все известные зодиакальные изображения нашей исторической эры.
Каждое новое открытие в области этой ранней культуры вызывает у нас безграничное изумление. Новомодная теория прогресса заставляет нас видеть в ее носителях людей грубых, примитивных и недалеких. Но по мере углубления нашего знакомства с ней мы все больше убеждаемся в том, что создали ее люди культурные, утонченные и религиозные.
Принято считать, что чем дальше в прошлое мы углубляемся в поисках истории человеческой расы, тем более мы приближаемся к первобытному состоянию человека. Но на самом деле мы видим, что даже в самые отдаленные доисторические периоды с первобытными дикарями на нашей планете всегда соседствовали культурные, цивилизованные люди и что современная наука хотя и проникла уже в глубины прошлого, поражающие несовершенное воображение человека, все же не в состоянии пока воссоздать достаточно полную и точную картину жизни людей в ту отдаленную эпоху. Но наука не стоит на месте и рано или поздно справится с этой задачей.
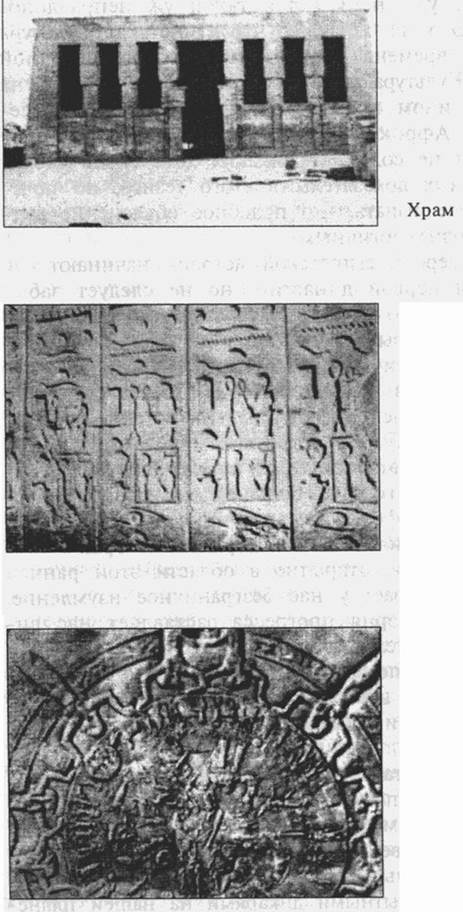
Дендеры
Иероглифы на стене храма
Зодиак храма Дендеры
А потому не стоит пока торопиться отвергать приписываемую древнеегипетскими жрецами своим письменным документам 90000-летнюю давность и скупо отмерять им пять, максимум шесть, тысячелетий, как это делают многие. Ибо возраст нашей планеты служит постоянным молчаливым упреком всем тем, кто придерживается столь невысокого мнения о своих предках. А возраст вселенной и вовсе не оставляет камня на камне от аргументов скептиков, отказывающихся признать предложенную египтянами древнюю дату. Ведь в безмерных глубинах космоса встречаются настоящие кладбища миров, где мертвые звезды и остывшие планеты, бывшие некогда обителями блистательных цивилизаций, дожидаются теперь скорбного часа своего полного исчезновения.
* * *
Я снова поднялся на крышу и остановился возле окаймлявшего ее низкого парапета. Передо мной раскинулась непрерывная панорама окружающих храм обработанных полей, плавно переходящих в ослепительно яркие, извилистые песчаные барханы. На крошечных полях виднелись сутулые фигурки крестьян, занятых своим извечным трудом. Их орудия труда и манера работы мало чем отличались от тех, что были известны их далеким предкам, жившим в библейские времена. Их быки честно и терпеливо вращают то же самое скрипучее водяное колесо, которое когда-то вращали далекие предки этих животных. Их верблюды, пронзительно крича, тащат на себе ту же самую непомерную поклажу, что навьючивали на домашних животных во времена фараонов. Плуг пахаря взрезает и переворачивает плодородную почву на этой узкой полоске земли, именуемой Египтом, с незапамятных времен, и все же она до сих пор не истощилась и никогда не истощится — таковы ее удивительная щедрость и безмерное богатство. Выращивать плоды земные на этих мирных изумрудных равнинах, на жирном и плодородном нильском иле, пожалуй, проще, чем в какой-либо другой точке земного шара. Каждый год Египет получает неизменное благословение в виде разлива Нила, когда его вечно беспокойные воды, как по волшебству, превращаются из голубых в бурые и медленно, но уверенно поднимаются все выше и выше, чтобы оставить на выжженных Солнцем берегах свой бесценный дар — влажную живительную грязь. Да, древний Нил был настоящей матерью своим счастливым детям, жившим на его берегах и неустанно благодарившим свою престарелую родительницу за то, что она питала их своим молоком.
Я посмотрел в сторону реки. Нил! Какая магия кроется в этом имени? Жрецы Древнего Египта дважды в день и дважды за ночь совершали омовение в его водах, дабы сохранить свою чистоту. В Индии жрецы-брамины делают это до сих пор и с той же самой целью. Разница состоит лишь в том, что они омывают себя водой священных рек Ганга и Годавари и не беспокоят себя этим по ночам. И египтяне, и индийцы придерживались одной и той же теории — взаимодействуя с окружающими людьми, человек сталкивается с их невидимым личным магнетизмом, способным оказывать неблагоприятное (если не хуже) влияние. Столь частые омовения как раз и нужны для избавления от этих посторонних влияний.
Нил — не просто широкая полоса пресной воды и даже не просто река, проходящая через добрую половину африканского континента. Это живое и даже разумное существо, возложившее на себя великую задачу — дарить жизнь множеству людей, животных и птиц. На протяжении бесчисленных столетий, слой за слоем, откладывал он на поля свой живительный ил, превращая Египет в неповторимое чудо света. Это единственная известная мне страна, где поля так тучны и где при этом крайне редки дожди. Творцом этого чуда стала добрая река, превратившая широкую полосу пустыни, лежащую меж двух параллельных хребтов темно-рыжих гор, в богатую и процветающую страну. Там, на окружавших храм полях, крестьяне направляли мутную речную воду в узкие канавки, крест-накрест, подобно паутине, пересекавшие обработанную их руками землю. От реки к полям вода подводилась при помощи множества водоподъемников и оросительных каналов. Человек в набедренной повязке, склонившийся над водоподъемником, пел что-то в такт поскрипывающему деревянному механизму, монотонно поднимавшему и выплескивавшему воду из своего ковша. Точно также и во времена фараонов такой же одетый в набедренную повязку человек, склонившись над точно таким же приспособлением, пел в такт поскрипыванию водоподъемника бесконечную песню на забытом ныне языке. Все устройство представляло собой длинный гибкий шест, уравновешенный с помощью закрепленного на его нижнем конце груза на горизонтальной опоре. На другом конце шеста на веревках был подвешен ковш. Для того, чтобы ковш погрузился в воду, необходимо было потянуть вниз привязанную к шесту веревку; затем веревку отпускали, и наполненный водою ковш снова поднимался вверх, — теперь воду из него можно было выливать прямо в канавку. Это древнее изобретение исправно служило здешним крестьянам на протяжении пяти тысяч лет; и даже сейчас, в двадцатом столетии, успешно продолжает им служить.
Я перешел на другую сторону террасы и увидел ту же самую картину, которой любовались в свое время древние жрецы и исчезнувшие фараоны.
На западе круто возвышались Ливийские горы, подобно розовым крепостным стенам, защищающим этот древний храм (что, впрочем, недалеко от истины). В тех местах, где горы несколько снижались или разрывали свою оборонительную цепь, пески пустыни все-таки просочились в долину, образовав бесформенные барханы. Красные вершины напоминали языки пламени, взметнувшиеся из-под земли и каким-то волшебством обращенные в камень. Жар этого пламени, похоже, еще не совсем остыл, поскольку от них веяло удушающим зноем. Казалось, горы вбирают в себя все солнечное тепло разгорающегося дня.
Эта длинная горная цепь тянется через весь Египет до самой Нубии, аккуратно следуя вдоль великой реки. Природа, будто повинуясь воле какого-то высшего разума, воздвигла эти горы в нескольких милях от берега Нила, чтобы не допустить его исчезновения в бескрайних песках африканской пустыни. «А может, это и вправду было сделано намеренно?» — подумал я. Ведь без этого замечательного соседства гор и реки такой страны как Египет просто не было бы на свете, не было бы цивилизации, чьи истоки сокрыты ныне во мраке древности. Ответ пришел, казалось, из самых глубин моего сознания: боги, чьим единственным орудием была Природа, намеренно создали этот ландшафт, дабы подготовить место для могучей цивилизации, которая, по их замыслам, должна была там явиться. Ибо также как каждое великое творение человечества, включая и этот белый храм Дендеры, на крыше которого я стоял, было возведено в соответствии с планом, предварительно родившимся в голове опытного архитектора, так и появление на земле каждого народа происходит согласно замыслу богов — этих небесных зодчих, под чьей опекой и присмотром постоянно жило и продолжает жить человечество.
Спустившись по древней лестнице, я вернулся ко входу в храм, чтобы как следует осмотреть его главное помещение, через которое я прошел с чрезмерной для исследователя поспешностью, поскольку мое внимание привлекала, прежде всего, тайная часовня, с которой я и начал свое знакомство с этим храмом. В просторном открытом вестибюле стоят двадцать четыре огромные белые колонны, чьи прямоугольные капители украшены рельефными ликами богини Хатор (к сожалению, сейчас все они изувечены), а боковые грани — иероглифическими надписями. Они поддерживали увесистый карниз величественного портика. Лица богини были изображены на всех четырех гранях каждой капители, и под каждым абаком был добавлен небольшой пилон, символизировавший ее прическу. Грустно было сознавать, что этот храм, посвященный египетской богине любви и красоты, был столь бережно храним Природой все это время, но пострадал от рук человеческих. Почти все эти исполинские женские лица искромсаны безжалостными руками фанатиков, хотя длинные уши и пышные прически богини все же сохранились. Ведь храм Дендеры считался одним из самых великолепных храмов Египта, и богослужения в нем продолжались вплоть до 379 года нашей эры, когда император Феодосий своим эдиктом запретил древнюю языческую религию, нанеся этим ей, и без того уже умирающей, последний роковой удар.
Посланник императора Кинегий постарался добросовестно исполнить волю своего повелителя. Он закрыл все храмы и места посвящений и запретил все древние мистерии и ритуалы. Христианство (или вернее — церковь) одержало окончательную победу. И тогда толпа фанатиков обрушилась на храм Дендеры. Жрецы были изгнаны, а ритуальные предметы растоптаны. Варвары опрокинули статуи Хатор, разграбили ее украшенные золотом святилища и изуродовали ее изображения там, где смогли до них дотянуться.
Другим храмовым зданиям повезло еще меньше: фанатики разрушили их стены, опрокинули колонны, разбили гигантские статуи — за несколько лет был уничтожен труд нескольких тысячелетий. Такова судьба многих новоявленных религий: сперва их последователи подвергаются гонениям, становятся мучениками за свои убеждения, но со временем сами превращаются в мучителей и гонителей, разрушающих произведения искусства своих предшественников, чтобы на их месте создать свои собственные.
«Гордые венценосные Птолемеи некогда подъезжали к этому храму в золотых колесницах, и собравшийся народ замирал в благоговейном трепете», — так размышлял я у входа в храм, стараясь представить себе толпы народа в этом ныне пустынном дворе.
Я облюбовал себе место между необъятными колоннами портика, откуда мне хорошо был виден красивый голубой потолок, усеянный множеством звезд и украшенный изображением зодиакального круга. Оттуда я проследовал во второй зал, куда уже не мог проникнуть яркий свет африканского Солнца и где украшавшие его шесть исполинских колонн, в отличие от своих ярко освещенных собратьев в вестибюле, тонули во мраке. Я проникал все дальше вглубь сумрачного храма, освещая себе путь лучом фонаря. То и дело из темноты выступали характерным образом развернутые фигуры, глубоко врезанные в поверхность колонн и окруженные прямоугольными рамками, либо пространными иероглифическими надписями.
Некоторые изображения были отделены друг от друга широкой горизонтальной полосой. Далее следовали рельефные портреты фараонов и древних божеств: некоторые из них шествовали вдоль стен, прочие восседали на тронах. Один из рельефов изображал Птолемея, приближающегося к Изиде и юному Гору с подношениями в обеих руках. Всю композицию венчал живописный лепной фриз. И везде лица были повреждены: либо полностью стерты, либо безнадежно изуродованы. Но было видно, что повсюду присутствует Хатор: стволы каменных колонн украшала ее голова, а на стенах красовались ее изображения в полный рост.
Я продолжал свое неспешное путешествие по главному залу (а протяженность его, кстати сказать, превышает двести футов), несмотря на то, что атмосфера в нем мало способствовала внимательным исследованиям и размышлениям, поскольку это древнее замкнутое помещение служило теперь естественным накопителем пыли, наполнявшей воздух и неприятно щекотавшей ноздри. А где-то наверху под темной крышей и между капителями шевелился и верещал целый легион отвратительных существ, рассерженных моим неожиданным появлением в то время года, когда ни один турист не вторгается в пределы их владений. Это были летучие мыши. «Чужой! — пищали они хором. — Чужой! Сейчас не время путешествовать по Египту. Убери прочь свой мерзкий фонарь, он пугает и смущает нас. И сам убирайся вместе с ним. Дай нам спокойно отдыхать на привычных фризах и рельефах среди изувеченных голов богини Хатор и запыленных карнизов. Ступай прочь!» Но я и не думал уходить, не достигнув намеченной цели — внимательно изучить все великолепные изображения храма. Сквозь плотный слой грязи, скопившейся на необъятном потолке, едва проступали образы огромных скарабеев и крылатых Солнц. К тому же рассматривать их мешали летучие мыши, носившиеся, как полоумные, удравшие из сумасшедшего дома, во всех направлениях, хриплым писком выражая свое недовольство моим присутствием. Только когда я свернул в сторону и спустился в узкий коридор, что вел в храмовое подземелье, они стали понемногу успокаиваться, возвращаясь к обычному полусонному состоянию.
Если главный зал показался мне довольно меланхоличным, хотя и интересным помещением, то подземелье, куда я наконец спустился, навеяло на меня еще большее уныние. Стенами этому мрачному подземному сооружению служила мощная кладка храмового фундамента. Как и верхний зал, они были богато украшены резными барельефами, изображавшими когда-то совершавшиеся здесь странные ритуалы.
Выбравшись из этого напоминающего склеп подвала, я вернулся к величественному портику. Вход в храм запирали некогда прочные двери, окованные сияющим золотом. Я вышел из ворот и направился вдоль наружной стены храма.
Сейчас трудно поверить в то, что когда это здание вновь обнаружил в середине прошлого века Аббас-паша, оно было почти полностью завалено песком и камнями, ставшими для храма могилой, из которой его смогли вызволить только лопаты и кирки археологов. Множество крестьян проходило через место его погребения, даже не подозревая о том, что под ногами у них скрывается Прошлое.
На внешней стене храма мое внимание привлек знаменитый барельеф на ее тыльной стороне, изображающий Клеопатру, не пожалевшую денег на реставрацию храма, когда он начал разрушаться от ветхости. За это царица была вознаграждена рельефным портретом, вырезанным на стене в ее честь. Рядом с ней изображен ее маленький сын Цезарион, внешностью поразительно напоминающий своего великого отца — Юлия Цезаря. Лицо матери, однако, показалось мне не слишком схожим с оригиналом, древние египетские монеты передают ее черты с гораздо большей точностью. Она была последней в длинном списке египетских цариц — эта прославленная дочь Птолемея — и когда Юлий Цезарь пересек со своими легионами Средиземное море, она стала его любовницей практически с первого дня его пребывания в Египте. «Как странно, — подумал я, — ведь именно эта женщина через Цезаря связала Египет с маленьким далеким островом, которому суждено было сыграть столь важную роль в истории Египта более чем восемнадцать столетий спустя. И как странно то, что эти римские солдаты принесли с собой в Британию, помимо собственных культов, заимствованный ими в Египте культ Сераписа, установив, таким образом, пусть даже опосредованный, контакт между двумя этими странами еще в глубокой древности».
В храмовом рельефе царица, конечно же, была изображена с рогатым диском богини Хатор на голове, из-под которого ниспадала пышная масса заплетенных волос. Лицо ее было полным и круглым, как у женщины властной, привыкшей отдавать приказы и добиваться своей цели любыми — и честными, и преступными — средствами. Именно ее влияние подсказало Юлию Цезарю идею перенести столицу своей империи в Александрию, которая должна была стать центром мира. На этом портрете облику царицы были приданы явно семитические черты, в них не было абсолютно ничего греко-египетского. Вероятно, моделью для него послужила какая-то дочь еврейского, арабского или ассирийского племени.
Я сидел на расколотой каменной глыбе и размышлял о том, как со смертью Клеопатры ушла в небытие и политическая самостоятельность Египта, ведь она была не просто одной из самых знаменитых красавиц древнего мира, но и женщиной, сыгравшей довольно заметную роль в истории. Как это ни удивительно, но судьба великого человека и даже целого народа зависит иногда единственно от улыбки женских губ.
Храмовые стены до самого карниза были покрыты барельефами и иероглифическими надписями, также глубоко врезанными в их поверхность. Ровные и гармоничные ряды чередующихся с изображениями надписей уже сами по себе составляли украшение храма. Отсюда можно заключить, что в Древнем Египте, так же как и в Древнем Китае и Древней Вавилонии, каждый желавший обучиться грамоте должен был научиться еще и рисовать. Так что каждый египетский писец и каждый жрец был к тому же немного художником. Первый опыт письменности первобытного человека представлял собой, что вполне естественно, попытку изобразить свою мысль в виде рисунка. Но у египтян не наблюдается обычного в таких случаях постепенного перехода от грубого варварства к основам культуры. Легенда приписывает изобретение уже развитой системы иероглифической письменности богу Тоту, тем самым передавая в популярной форме историческую истину. Эту письменность в виде готового откровения передал эмигрантам из Атлантиды, основавшим колонию на берегах Нила, богочеловек, Адепт по имени Тот (правильнее — Техути). Это было накануне того потопа, что уничтожил последний остров Атлантиды. Тот является также автором «Книги мертвых». В его собственной системе письменности он изображается в виде Ибиса — странной птицы с похожими на ходули ногами и длинным клювом.
Сравнительная филология выдвигает все больше аргументов в пользу того, что многоразличие языков современности развилось из определенных корневых языков, которые, в свою очередь, происходят от единого общего первоязыка. И когда в один прекрасный день историю этих языков удастся проследить до их изначальных корней, их первоисточник, я уверен, отыщется именно в Атлантиде.
В древности считалось, что иероглифы «говорят, указывают и умалчивают». А из этого следует, что в них вкладывалось тройственное значение. Первым было их обычное фонетическое прочтение, необходимое для выполнения ими функции письменности, и дальше этого непосвященный человек не мог проникнуть в их смысл. Но у иероглифов было и другое свойство, понятное древним писцам, — способность символически выражать мысль на папирусе или камне, что делало ее доступной для расшифровки даже неграмотному человеку. И, наконец, — их эзотерическое значение, известное лишь посвященным жрецам и хранимое ими в секрете.
«Слово бога» — таково описательное имя, присвоенное иероглифической письменности самими египтянами; и не только потому, что она была передана людям одним из богов, но и по причине их скрытого значения, понятного лишь немногим избранным.
Это второе их значение открывалось лишь тем, кто проходил посвящение в мистерии. Ни один современный египтолог не продвинулся дальше расшифровки популярного значения иероглифов (хотя и это уже само по себе огромное достижение) и большее им пока недоступно. Ибо «слово бога» требует от исследователя известной духовной утонченности и искреннего желания постичь его глубинный смысл. В противном случае оно вряд ли раскроет свои тайны. То же самое можно сказать и о тайнах, передававшихся посвящаемому в мистериях Египта.
Еще один посвященный, Плотин, живший в древней Александрии, тоже намекал на символический характер иероглифов, когда писал следующие строки:
«В настойчивом поиске истины и при передаче ее ученикам мудрецы египетских храмов не пользовались обычными письменными знаками (которые суть лишь обозначения звуков устной речи), но рисовали символы, куда вкладывали определенные мысли и идеи. Каждый символ, таким образом, заключал в себе определенную долю знания и мудрости. Это была кристаллизация истины. Учителя и ученики, зная значение образа, могли истолковать его словами и объяснить, почему он выглядит именно так, а не иначе».
Все дело в том, что египтяне, как и другие народы Древнего Востока, даже не помышляли об отделении религии от светской жизни и потому не склонны были рассматривать язык, письменность и речь исключительно как средство общения. Они не только наделяли магическими свойствами людские имена и названия вещей, но и считали иероглифы символами тайного знания, передававшегося за закрытыми дверями мистерий.
Лишь тот, кому посчастливилось лицезреть божественного Осириса — победившего «смерть» и дарующего людям «второе рождение» (именно так «Книга мертвых» определяет цель высших ступеней посвящения) — знал и мог правильно истолковать глубинный смысл иероглифов — самой совершенной в мире системы литературного символизма.
Думается, что в сочинениях историка Геродота, который сам был посвященным, можно отыскать подтверждения тому, что иероглифы считались в Египте священными и имели скрытое значение, известное только жрецам самого высокого ранга. А другой посвященный — Ямвлих — писал, что этим тайным языком иероглифов пользуются сами боги.
Вместо того, чтобы во всех тонкостях вникать в суть принципа, заложенного в основу символического значения иероглифов, ограничусь намеком, облеченным в форму вопроса.
В иероглифической письменности фигура сидящего человека обозначает душу, достигшую божественного уровня, поэтому она часто используется при написании имен божеств (например — ее можно видеть над их портретами). А теперь попробуйте поразмыслить над тем, почему египтяне рисовали именно сидящую фигуру, а не стоящую?
Не желая навлекать на себя насмешки академических профессоров египтологии, которые наверняка отреагируют именно таким образом на столь наглое и самоуверенное посягательство на их святыни, я оставляю за читателем право найти свой собственный ответ на этот вопрос.
Деятельность знаменитых египтологов (в пределах интересующей их самих сферы) заслуживает всяческой похвалы. Но сокровища, таящиеся на стенах храмов и в свитках папирусов, им недоступны, ибо такова воля судьбы.
Роль судьбы в самом открытии этих текстов просто поразительна. Если бы Наполеон не вторгся в Египет, эти надписи на стенах и папирусах могли бы до сих пор оставаться непрочитанными. Бонапарт, в некотором мистическом смысле, и сам был человеком судьбы, поскольку оказывал заметное влияние на каждую страну, каждого человека и даже на каждый предмет, с которым когда-либо соприкасался. Он был настоящим орудием Провидения, но также и орудием Немезиды.
Его вторжение положило начало ознакомлению Европы с жизнью и мышлением Древнего Египта. Как наглядно свидетельствует история, воин нередко прокладывает дорогу ученому, духовному учителю или торговцу, хотя временами случалось и обратное — вмешательство воина преграждало им путь.
С воцарением в Египте греков древний язык начал понемногу забываться. Новые правители, что вполне естественно, стремились распространить греческое образование и греческий язык среди образованных классов египтян. К примеру, на важные правительственные посты назначались только те, кто в совершенстве овладел греческим. Древняя священная школа в Гелиополе, готовившая новых жрецов и остававшаяся центром традиционного египетского образования, всячески подавлялась властями и наконец была закрыта. За исключением некоторых из жрецов, упорно продолжавших тайно придерживаться традиционной письменности, практически для всего Египта национальным стал греческий алфавит.
К концу третьего столетия христианской эры во всем Египте не осталось человека, способного расшифровать обычный экзотерический смысл иероглифических надписей, не говоря уже о том, чтобы добавить к ним свои собственные.
С тех прошло пятнадцать веков. Искусство истолкования иероглифов по-прежнему считалось полностью забытым. И тогда в александрийский порт под самым носом адмирала Нельсона украдкой пробрался фрегат Наполеона.
Вслед за этим его армия занялась возведением фортификационных сооружений и основательным рытьем траншей. Одним из самых важных мест ее дислокации стала стратегическая позиция в устье Нила, неподалеку от портового городка Розетта. Именно здесь молодой артиллерийский офицер — лейтенант Буссар — сделал свое знаменитое открытие, послужившее ключом к разгадке иероглифической письменности. Лопаты его солдат, копавших котлован под фундамент будущего форта Сен-Жюльен, наткнулись на расколотую глыбу черного базальта, которая была извлечена на свет. Лейтенант сразу же оценил важность этой находки, ныне широко известной как «розеттский камень», ибо она содержала надпись с параллельным текстом на разных языках. Это была посвятительная надпись мемфисских жрецов, включавшая восхваления в адрес Птолемея V. Пятьдесят четыре выбитых на камне строки были написаны по-гречески. Рядом шел египетский перевод, выполненный иероглифическим и демотическим письмом.
Камень отослали в Европу, где им занялись ученые, которым удалось-таки выявить египетский эквивалент греческого алфавита. Заполучив этот ключ, они смогли, наконец, прочесть запечатленные в камне и на папирусе тексты, изумлявшие мир на протяжении многих столетий.
e-puzzle.ru

 2015-05-30
2015-05-30 520
520








