Весьма примечателен тот факт, что одним из главных упреков в адрес теории речевых актов был связан с ее неспособностью объяснить связность языкового взаимодействия (интеракции) вообще и связность диалогового дискурса, в частности. По мнению Д. Франк, «человеческое общение является взаимодействием в более фундаментальном смысле, нежели это представлено в теории речевых актов, согласно которой двое или более собеседников поочередно адресуют друг другу некоторые речевые акты, определяемые исключительно в терминах намерений говорящего»3.
Д. Франк находит такую теоретическую модель речевого взаимодействия слишком узкой, в особенности для объяснения связности диалогического дискурса. Преимущество этого дискурса Франк видит в том, что «при продолжении разговора партнер (партнеры) говорящего обнаруживает (обнаруживают), имплицитно или эксплицитно, свою интерпретацию, а первый участник может снова на это отреагировать и т. д. Лингвист должен использовать и эту разновидность языковых данных, если только он хочет не просто сконструировать
 1 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. С. 182.
1 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. С. 182.
2 Якубинский Л. П. Язык и его функционирование... С. 35.
3 Франк Д. Семь грехов прагматики... С. 364.
вою личную интерпретацию, а воссоздать интерпретацию участников диалога»1.
На более значительную, чем это предполагалось теорией речевых актов, роль в живой речи имплицитного содержания и «коммуникативного синкретизма» указывают наши отечественные исследователи О. Н. Ермакова и Е. А. Земская2. Для изучения всех этих моментов требуется методологическая переориентация на «отрицательный языковой материал». Для этого нужно обращаться к изучению живой непринужденной речи с ее аномалиями, отказавшись от искусственно составленных высказываний, тем более на чужом (английском) языке, или от обычных для лингвистов примеров из художественного, опять же искусственного, дискурса.
В этом отношении очень характерен подход, реализуемый, например, А. Н. Барановым и Г. Е. Крейдлиным в исследовании феномена «иллокутивного вынуждения» в диалоге. «Конечно, -пишут авторы, - в идеальном случае хотелось бы анализировать реально протекающий диалог во всех его проявлениях, в том числе невербальных. Однако, к сожалению, мы не располагаем сколько-нибудь значительным фондом записей диалогических текстов, очищенных от разговорных наслоений, речевых сбоев и прочих посторонних шумов, поэтому материалом работы послужили тексты пьес, а также диалоги, представленные в других типах художественных произведений. Разумеется, мы ограничились анализом "нормальных" текстов, оставив в стороне абсурдные диалоги, имитации диалогов и языковые игры»3. Относительно такой методологической установки возникает вопрос: а зачем вообще обращаться к «реально протекающим диалогам», если желать текстов, «очищенных» от «сбоев и прочих посторонних шумов»? К тому же для нас, например, не «само собой разумеется», что надо отказываться в исследовании языка, тем более политического, от «ненормальных» (абсурдных) диалогов. K счастью, упомянутую методологию разделяют не все современные лингвисты. Так, О. Н. Ермакова и Е. А. Земская
 1 Там же. С. 372. 2. Ермакова О. Я., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского языка) // Русский язык в его aункционировании. М.: Наука, 1993. С. 30.
1 Там же. С. 372. 2. Ермакова О. Я., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского языка) // Русский язык в его aункционировании. М.: Наука, 1993. С. 30.
3. Варанов А. Н., Крейдлин И. М. Языковое взаимодействие в диалоге и понятие иллокутивного вынуждения // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 84-85.
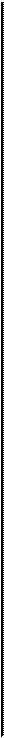
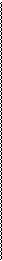 изучают коммуникативные неудачи, возникающие при устном неофициальном общении на русском языке жителей города, причем основной материал их работы составляют записи естественных непринужденных диалогов. Аналогичный подход развивают авторы «интент-анализа» политического дискурса1 (к этому мы еще вернемся), а у французского лингвиста Ф. Жака мы уже в 70-х гг. XX в. обнаруживаем целую теорию и типологию «ненормальных» диалогов (этот сюжет мы обсудим подробнее чуть позже)2.
изучают коммуникативные неудачи, возникающие при устном неофициальном общении на русском языке жителей города, причем основной материал их работы составляют записи естественных непринужденных диалогов. Аналогичный подход развивают авторы «интент-анализа» политического дискурса1 (к этому мы еще вернемся), а у французского лингвиста Ф. Жака мы уже в 70-х гг. XX в. обнаруживаем целую теорию и типологию «ненормальных» диалогов (этот сюжет мы обсудим подробнее чуть позже)2.
По мнению Д. Франк, теория речевых актов «игнорирует динамическую и стратегическую природу естественного речевого общения», она «не учитывает внутреннюю "логику" в развитии диалога, а именно, использование участниками диалога стратегий регулирования и прогнозирования этого развития», она не основана «на постоянно "движущейся" точке зрения коммуникантов». В отличие от этого, Франк призывает учитывать, что «единицы общения в момент их интерпретации находятся в процессе конструирования», что «значимой для взаимодействия является не одна-единственная перспектива, а столько перспектив, сколько имеется коммуникантов»3.
Эти соображения становятся тем более обоснованными, если принять во внимание роль «третьего» в диалоге. Эту линию исследований коммуникации в значительной мере реализовал в своих работах И. Гофман, ей также уделяется особое внимание и в теории коммуникативных неудач. Под последними понимаются явления, естественно присущие непринужденному диалогическому общению, а именно, случаи несовпадения коммуникативных намерений говорящего и их прочтение слушающим)4. О. Н. Ермакова и Е. А. Земская развивают, наряду с другими авторами, довольно подробную типологию коммуникативных неудач, среди которых нам наиболее интересны случаи, возникающие в манипулятивных актах. Последние весьма часто представляют собой так называемую «языковую демагогию» как совокупность приемов «непрямого воздействия на слушаю-
щего или читателя, когда идеи, которые необходимо внушить ему не высказываются прямо, а навязываются исподволь путем использования возможностей, предоставляемых языковыми механизмами»1.
Парадиалогический дискурс как цель нашего дальнейшего анализа и есть пространство неограниченной практики подобного рода демагогии.
1.2.4. Семантико-когнитивный подход и речевой «негатив»
Перед лицом отмеченных особенностей диалогового общения оказывается уязвимым схематизм чисто семантического и когнитивного подхода. Хотя этот подход и относится к прагматическому аспекту речевого общения, и даже специально к политическому дискурсу, он остается в плену логического схематизма своей методологии. Яркий пример такого рода — работы Т. ван Дейка, довольно часто посвященные политическому (идеологическому) языку, однако вписывающие теорию прагматического понимания в «когнитивную теорию обработки информации»2.
В отличие от собственно прагматического анализа языка эта теория «основывается не только на правилах и концептах, но и на стратегиях и схемах, являющихся средством для быстрой и функциональной обработки информации»3. Именно эти схемы, — считает ван Дейк, — используются участниками коммуникации для определения характера речевого акта и его приемлемости в данной ситуации, в том числе с точки зрения слушающего4. В такой методологической перспективе участники коммуникации, в том числе политических диалогов, оказываются абстрактными субъектами взаимного познания, как бы априорно приспособленными для того, чтобы их изучали структурные лингвисты.
Таким же формализмом нередко страдает и так называемый «конверсационный анализ» (conversation analysis), специально изучающий структуру разговоров. В этой структуре выделя-

 1 Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / под ред. Т. Н. Уш а-
1 Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / под ред. Т. Н. Уш а-
ковой, Н. Д. Павловой. СПб.: Алетейя, 2000. С. 147-261.
2 Jacques F. Dialogiques. Recherches logiques sur le dialogue. Paris: Presses
Universitaires de France, 1979. P. 228 ff.
3 Франк Д. Семь грехов прагматики... С. 367.
4 Ермакова О. Н., Земская Е. А. К построению типологии коммуникативных
неудач... С. 31.
1. Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира. М.: Языки Русской культуры, 1997. С. 461.
2 Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / под ред. В. И. Гераси-
мова. М.: Прогресс, 1989. С. 14.
3 1ам же. С. 25.
4. Там же. С. 26.
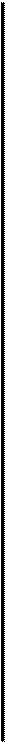 ются разные «условия», «элементы», «уровни», «характеристики», «измерения», «роли», «планы», «стратегии»1 и прочее, но за этим ворохом логических и технических терминов теряется нечто важное от специфики разговора в отличие от других типов речи. Структурные лингвисты, например, весьма озабочены «правилами обмена диалоговыми репликами», хотя в реальном общении люди крайне редко тщательно планируют свой разговор, т. е. продумывают, какие вопросы они будут задавать, какие ответы рассчитывают получить, и какие варианты ответов и реплик они заготовят на эти ответы собеседника и т. д. Другими словами, «разговоры обычно имеют сразу несколько функций, и не нужна никакая однозначная цель для "благополучного" достижения цели разговора»2. Непринужденные беседы вообще могут быть относительно бесцельны и безрезультатны, т. е. вестись ради них самих. Т. Лукман считает, что «разговоры обычно не являются рациональным действием в смысле Вебера»3.
ются разные «условия», «элементы», «уровни», «характеристики», «измерения», «роли», «планы», «стратегии»1 и прочее, но за этим ворохом логических и технических терминов теряется нечто важное от специфики разговора в отличие от других типов речи. Структурные лингвисты, например, весьма озабочены «правилами обмена диалоговыми репликами», хотя в реальном общении люди крайне редко тщательно планируют свой разговор, т. е. продумывают, какие вопросы они будут задавать, какие ответы рассчитывают получить, и какие варианты ответов и реплик они заготовят на эти ответы собеседника и т. д. Другими словами, «разговоры обычно имеют сразу несколько функций, и не нужна никакая однозначная цель для "благополучного" достижения цели разговора»2. Непринужденные беседы вообще могут быть относительно бесцельны и безрезультатны, т. е. вестись ради них самих. Т. Лукман считает, что «разговоры обычно не являются рациональным действием в смысле Вебера»3.
Перед лицом этого схематизма лингвистической трактовки диалога хочется реабилитировать философию языка, которую лингвисты склонны упрекать в спекулятивности и «эстетизме».
 2015-06-16
2015-06-16 571
571








