- Что за посмешище, - теряя, наконец, терпение,
крикнула Алиса. - Знаете что, вам впору ездить
на деревянной лошадке с колесиками.
- А у нее ход ровный? - с большим интересом
спросил Конник, хватаясь за лошадиную гриву,
чтобы снова не упасть.
Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Речь участников парадиалога эгоцентрична, поскольку не предполагает стремления стать на точку зрения собеседника, понять его позицию. Каждый в парадиалоге говорит как бы для себя и даже не обнаруживает потребности быть понятым и услышанным оппонентом. Но здесь и прекращаются аналогии с детской речью. Нельзя сказать, что участники парадиалога говорят сами с собой, просто думают вслух и ни к кому не обращаются. Есть ведь еще один важный участник любого политического парадиалога - его зритель, политическая «публика».
 1. Stewart S. Nonsense. Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature. Baltimore - London: The Johns Hopkins University Press, 1979. P. 85. Стюарт приводит пример текста с избытком сигнификации, который удивительно похож на приведенные нами цитаты, с тем только важным отличием, что мы цитировали как бы реальную коммуникацию, а у Стюарт речь идет о художественном тексте: «Была дикая, бурная ночь на Западном побережье Шотландии. Впрочем, для нашей истории это неважно, ибо действие не происходило на шотландском берегу. А что касается погоды, то она была такой же скверной, как и на Восточном побережье Ирландии».
1. Stewart S. Nonsense. Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature. Baltimore - London: The Johns Hopkins University Press, 1979. P. 85. Стюарт приводит пример текста с избытком сигнификации, который удивительно похож на приведенные нами цитаты, с тем только важным отличием, что мы цитировали как бы реальную коммуникацию, а у Стюарт речь идет о художественном тексте: «Была дикая, бурная ночь на Западном побережье Шотландии. Впрочем, для нашей истории это неважно, ибо действие не происходило на шотландском берегу. А что касается погоды, то она была такой же скверной, как и на Восточном побережье Ирландии».
В случае теледуэли Жириновского и Проханова эта публика представлена прежде всего аудиторией в телестудии и многомиллионными зрителями перед экранами телевизоров. Они образуют «со-адресат» коммуникативных посланий Жириновского и Проханова. И хотя публика прямо не участвует в их теледуэли, она всегда принимается в расчет дуэлянтами. Сидящие в телестудии — это не просто зрители, а бригада по производству аплодисментов, а за них еще надо побороться; а многомиллионная телеаудитория - есть актуальный и потенциальный «электорат». В этом смысле парадиалог Жириновского и Проханова противоположен по своей прагматике эгоцентричности детской речи. Тем не менее, он производит впечатление автокоммуникативного общения.
Это объясняется тем, что собеседники часто адресуют сказанное скорее публике, чем партнеру, с которым они непосредственно общаются. Уже сам этот «рамочный» факт задает массу смысловых несуразностей в любом публичном диалоге. Но независимо от этого, в случае нашей теледуэли трудно освободиться от ощущения, будто видишь на экране не общественных деятелей, а дурачащихся мальчишек. Поль Вирилио в книге «Стратегия обмана» обращает внимание на чисто эстетическую версию этого феномена: «Несколько лет назад труппа итальянских мимов показала парижским зрителям забавный спектакль, где дюжина взрослых людей, одетых в подгузники и слюнявчики, суетились на сцене, спотыкались, падали, кричали, дрались, водили хороводы и ласкали друг друга... Бурлескные персонажи не походили ни на детей, ни на взрослых, это были фальшивые дети или фальшивые взрослые - или, может быть, карикатуры на детей»1.
Описываемое П. Вирилио событие выражает тенденцию, уже давно замеченную многими философами и социологами. Й. Хейзинга еще в 30-е гг. XX в. говорил о характерной для своего времени «контаминации игры и серьезного», когда становятся не редкостью «политические выступления ведущих деятелей, которые нельзя оценить иначе как злостные выходки озорных мальчишек»2. Хейзинга видел в этом феномене симптом разложения, «псевдоигру», представляющую собой не творческие
моменты культуры, но формы, которые «более или менее сознательно используются для утаивания общественных или политических намерений»1.
Хотя речь Проханова и Жириновского трудно назвать детским лепетом, все же их теледискурс напоминает местами вербализацию детских сновидений или какую-то промысленную вслух мечту ребенка. Но самое интересное - это по-детски игровой характер коммуникативного поведения героев.
Если сравнить государственную власть с автомобилем, то большинство населения страны можно сравнить с детьми преддошко-льного и дошкольного возраста, которые удовлетворяются созерцанием этого красивого объекта, а также возможностью иногда покататься на нем в качестве пассажира. Политики же делятся на две резко отграниченные друг от друга категории: те, кто правит государственной машиной, и те, кто находится в оппозиции.
В демократических режимах различие властвующей партии и оппозиции проходит не по принципу власть-безвластие, а по принципу правительственная-неправительственная власть. Здесь настоящая оппозиция всегда имеет солидный кусок неофициальной власти и закулисного влияния. В нашем примере это выглядит так: властвующая партия — водитель, а механик автомобиля (или запасной шофер) - оппозиционная партия. В тоталитарных режимах оппозиции нет вообще, зато есть вождь - водитель автомобиля, и масса - его вечно благодарные пассажиры. В авторитарных же режимах оппозиция формально разрешена, но реально не допускается к управлению государственной машиной. И это сближает поведение такой оппозиции с игрой ребенка в дошкольном возрасте.
В дошкольном периоде дети уже знают о мире взрослых, о предметах их деятельности, и хотят ими оперировать. Поэтому, когда взрослые начинают что-то делать для ребенка своими взрослыми предметами, он кричит им: «Я сам!». Но взрослые отвечают: «Нельзя, ты еще маленький!». Это несоответствие между «Я сам» и «Нельзя!», потребностью ребенка действовать по-взрослому и невозможностью этого действия, разрешается у детей дошкольного периода в ролевой игре2. Нечто аналогичное
 1 Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: Гнозис, Фонд
1 Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: Гнозис, Фонд
«Прагматика культуры». 2002. С. 76.
2 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, Прогресс-
Академия, 1992. С. 332, 334.
1. Там же. С. 230.
2. В изложении специфики детского игрового поведения здесь и далее мы опираемся на работу А. Н. Леонтьева «Психологические основы дошкольной игры». См.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 481-508.
происходит с оппозицией в авторитарных режимах. Свое противоречие между желанием «порулить» государственной машиной и невозможностью сделать это она разрешает в формы поведения, структурно напоминающие «игру во власть».
Это хорошо было видно на выборах президента Путина в 2004 году, когда Жириновский выставил кандидатом в президенты не себя, а потешного персонажа своей партии. Другой пример такого рода - неоднократное формирование «теневых» (альтернативных) кабинетов министров в руководстве КПРФ. Про-хановскую газету «Завтра» тоже нельзя назвать серьезным оппозиционным изданием, потому что она жанрово обрамлена как нечто несерьезное, квазихудожественное: скетч, анекдот, сплетня, желтая пресса, лубок. Все, что в ней говорится, нельзя воспринимать буквально, как и реплики героев прохановских романов.
В эволюции политических передач российского ЦТ тоже нетрудно заметить аналогичную тенденцию: замена серьезных жанров (рассчитанных на анализ и компетенцию) игровыми, развлекательными передачами. Речь идет об изменении жанровых рамок и политических передач, смещении акцента в политических ток-шоу от talk к show, к игровым рамкам «дуэли», «ринга», гейм-шоу и т. п.
По А. Н. Леонтьеву, мотив детской игровой деятельности лежит не в ее результате, а в содержании самого игрового действия. В этом смысле данная игра является непродуктивной деятельностью, а значит, свободной от обязательств и ответственности взрослого поведения1. Таковой именно становится и игровая деятельность оппозиции авторитарного типа. Здесь надо провести четкое различие между игрой на результат, к которой относятся спортивные, биржевые, военные и прочие игры взрослых людей, а также все политические (публичные и закулисные игры) «взрослых» политических сил, соперничающих в борьбе за власть в условиях реальной (даже криминальной) политической конкуренции.
Вместе с тем, содержание и порядок детского игрового действия соответствует реальному (взрослому) действию. Дети симулируют (а не просто имитируют) в игре «взрослое» действие. Некоторые из его предметов (условий) этого действия замещают сподручными вещами, придавая их реальному значению игровой смысл (в нашем примере: вместо реального автомобиля мо-
 1 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики... С. 484.
1 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики... С. 484.
164 '
л быть взят стул и назван автомобилем). При этом структура самого реального действия в игре сохраняется и воспроизводится. Обязательно должен быть предмет под названием «руль» и кто-то под названием «водитель», который при помощи руля управляет «автомобилем» и т. д. В этом состоит смысл игры, ее наслаждение для ребенка и... для оппозиционного политика авторитарного типа. Неважно, что кандидат в президенты никогда не сможет выиграть выборы и стать президентом; что теневой кабинет никогда не выйдет на свет реальной политики; что оппозиционную газету покупают ради смеха, а не объективной информации. Ведь главный мотив такой деятельности - она сама, а не ее результат.
Если оценивать рамочные условия диалога Жириновского и Проханова (его жанр как телепередачи), то все происходящее напоминает детскую игру с фиксированными правилами. Участникам телешоу ставится игровая задача: выиграть голосование телезрителей и таким образом победить в теледуэли. Однако наличие игровой задачи нисколько не меняет непродуктивный характер самой деятельности, фиксацию ее мотива на самом процессе игры, а не на результате (что, помимо прочего, связано и с невозможностью объективного телеголосования). «Дуэлянты» тоже не обнаруживают никакой реальной заинтересованности в конечных результатах своего вербального сражения. Но - и здесь уже хромает наша аналогия - ими движет взрослое стремление дать бесплатную телерекламу собственной персоне и убеждениям, если они есть. Впрочем, их удовольствие от игры тоже нельзя исключать.
Это отличает парадиалог в форме телевизионного ток-шоу от серьезного диалога на телевидении. В последнем случае состязательный момент существенен для участников, причем не просто для их имиджа, но и для их профессиональной репутации. Повторяем: в данном случае налицо игра как состязание по типу спортивных игр, а не по принципу детских игр с фиксированными правилами (как в игре в прятки или в классики). В серьезных политических дебатах на телевидении участники не просто ведут (задушевный) разговор. Они сражаются, как на спортивном турнире или на ринге, но не кулаками или шпагами, а как в любом диспуте: аргументами и фактами, метафорами и символами. В этом сражении тоже есть свои писаные и неписаные правила, за соблюдением которых, помимо прочего, должен следить модератор. Модератор в том еще смысле модерирует, что
он усмиряет1 излишний пыл собеседников, выходящих за дозволенные рамки. В парадиалоге же модератор в любой момент может инвертировать эту роль и выступить в качестве провокатора, толкающего участников к отклоняющемуся поведению. В ролевых дошкольных играх детей всегда присутствует игровая роль и сюжет. В нашем случае это тоже имеет место. Сюжет — столкновение коммунизма и антикоммунизма в решающей идеологической схватке. Кто-то должен по сценарию «умереть» (дуэль - дело «нешуточное»!), а победитель «получит все». Роли распределены тоже четко: «последний солдат советской империи» (Проханов) и «первый демократ постсоветской России» (Жириновский). Причем эти роли открыты, и помимо общего (и внешнего для самой игровой ситуации) правила «дуэли», других правил не выставляется. Это дает полный простор для игровой фантазии и импровизации «дуэлянтов». Есть у них и любимые «игрушки», выбранные сообразно игровым ролям. Проханов как «последний солдат империи» любит солдатики и пушки. Как трехгодовалый крепыш елозит игрушечным танком по полу, имитируя езду, так и Проханов указывает на соловьевский игрушечный «барьер» для дуэлянтов и заявляет: «Вот мой танк!».
В эпоху якобинского террора французские дети играли маленькими гильотинками. Проханов играет в нацистский концлагерь, весело описывая в нем воображаемую участь оппонента. Жириновский, в свою очередь, вживается в роль первого посткоммунистического демократа. Отбрасывает в сторону «русского солдат(ик)а, омывающего сапоги в Индийском океане», и бормочет невнятицу2: демократия, гуманизм, пацифизм и даже право народов на самоопределение. При этом оба героя играют и в политическую полемику, в принципиальный идеологический спор; игрушками здесь выступают принципы, идеологии, великие политики, известные люди и даже фундаментальные вещи: политическая мораль, национальное прошлое, историческая память и т. д.
«Человек, - писал Йохан Хейзинга, - играет, подобно ребенку, для удовольствия и развлечения, ниже уровня серьезной
 1 См. лат. moderor, ari (умерять, удерживать в рамках, обуздывать) и соот
1 См. лат. moderor, ari (умерять, удерживать в рамках, обуздывать) и соот
ветственно moderator (управляющий; возница, кормчий; учитель, наставник
юношества).
2 Невнятица - это человеческая речь, лишенная смысла. «Сама невнятица не
есть заблуждение; таковым является вера в то, что с помощью невнятицы пе
редается информация о предметах». См.: Бохеньский Ю. Сто суеверий: крат
кий философский словарь предрасудков. М., Прогресс-VIA, 1993. С. 107.
ясизни. Он может играть и выше этого уровня, играть с красотой и святыней»1. В политическом парадиалоге мы имеем нечто третье: человек играет с красотой и святыней, но ниже уровня серьезной жизни.
Парадиалог Жириновского и Проханова - это не просто детская игра, а симуляция детской игры вне детства. Поэтому для систематических аналогий здесь особенно интересны те игровые формы, которые характеризуют переход от одного периода детства к другому, а также от детства к взрослому состоянию2. Но ребенок переживает рубежные формы игры на пути к взрослому состоянию. Участники парадиалога как бы идут в обратном направлении: от взрослых политических игр к детским ролевым играм и играм с правилами.
Для нас из этих рубежных игр наиболее интересны драматизация и греза. В игре-драматизации мотив играющих сосредоточен на эстетических качествах воспроизведения типических черт реального поведения. В примере с автомобилем это выглядело бы как стремление не просто «поиграть в шофера», но разыгрывать сцену вождения автомобиля, с подчеркиванием всех типических моментов этого процесса. Аналогичным образом, диалог Жириновского и Проханова -это не просто инфантильно-игровое воспроизведение общих черт (схемы) реального, серьезного разговора о политике, но творческое, квази-художественное действо, почти спектакль. Жириновский придает этот комично-драматический элемент такой репликой: «Это Ваш суд. Ваш, Проханов, Московский трибунал!» и т. п.
Аналогии с игрой-фантазированием подходят в нашем случае в силу чисто вербального характера самой деятельности «дуэлянтов». В примере с автомобилем это будет соответствовать ситуации, когда дети забрались в него, но не стали играть «в шофера», а предались фантазированию о том, как они совершают на автомобиле экзотическое путешествие. Сравним аналогичный дискурс «взрослых детей»:
ЖИРИНОВСКИЙ. Я буду хоронить вас, я оплачу все поминки.
ПРОХАНОВ. Но из могилы высунется костлявая рука и схватит Вас за кадык, и утянет туда!
ЖИРИНОВСКИЙ. А я бульдозером, бульдозером!
 1 Хейзинга Й. Homo ludens // Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Про
1 Хейзинга Й. Homo ludens // Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Про
гресс, Прогресс-Академия, 1992. С. 31.
2 См.: Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры... С. 506-507.
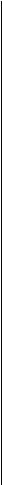 ПРОХАНОВ. А вы уже там. А советские солдаты придут и воткнут штык в Вашу могилу!
ПРОХАНОВ. А вы уже там. А советские солдаты придут и воткнут штык в Вашу могилу!
ЖИРИНОВСКИЙ. Вот почему... вот почему вся Европа осуждает, что ВЫ даже оттуда, из могилы, будете хватать нас за ноги... (хохот в студии).
Надо отдать должное наблюдательности телеведущего Соловьева: он не только правильно отметил детский статус игрового поведения своих дуэлянтов, но даже точно определил его дошкольный уровень: «Разбирайте игрушки, возвращайтесь в песочницы, потому что у вас пока дискуссия на уровне, которая заканчивается в шестилетнем возрасте».
Таким образом, в поведении соловьевских дуэлянтов можно усмотреть целый ряд игровых типов, аналогичных формам детской игры. Но коммуникативный статус и функция игры в парадиалоге совершенно иные, чем статус игры у детей. Для последних игра выступает формой творческого освоения мира и развития индивидуальности. В известном смысле детская игра просвещает, а вот симуляция этой игры в парадиалоге развращает, систематически пародируя и абсурдируя реальные смыслы и ценности «взрослого мира». Как это ни покажется парадоксальным, но именно инфантильно-игровые моменты поведения дуэлянтов гораздо лучше, чем содержание их речей, свидетельствуют об авторитарном характере их политических личностей.
 2015-06-16
2015-06-16 268
268








