Проанализируем материалистическую мысль, постараемся указать на её особенности, так резко отличающие её от других об- разов мысли, и нам ясно обрисуется неосновательность принима- емых материалистами исходных точек их мышления, от которых они начинают свои выводы и до которых они доводят свои окон- чательные заключения.
Как ни многочисленны и ни разнообразны материалистиче- ские учения, однако во всех есть много общих приёмов и совер- шенно тождественных допущений.
Для большей наглядности возьмём любую из их систем, например, их космогонию.
Все материалистические космогонии утверждают, что мате- рия существует от вечности, что она от вечности обладает извест- ными качествами и свойствами, которых в ней так много и во вся- ком случае совершенно достаточно, чтобы быть в состоянии само- стоятельно и без посторонней внешней помощи или вмешатель- ства совершать акты творчества и поддерживать во всём сотворён- ном полный порядок, гармонию и благоустройство. Вся вселенная, все миры, все явления природы, все существа, живущие на земле и всё, что мы видим, есть не более как следствие проявления свойств и качеств материи. «В природе нет ничего, – восклицает Бюхнер, – кроме атомов и пустого пространства». И это составляет девиз материалистов. По их мнению, все силы химические, физи- ческие и механические, всё живущее, сама жизнь со всеми её про- явлениями органическими и разумными, сила воли, мысль, логика, ум, сила речи ничем, в сущности, не отличается от простой хими-
 ~ 204 ~
~ 204 ~
ческой реакции, ибо всё это составляет продукт проявлений ка- честв и свойств материи.
Материалисты полагают возможным себе представить:
1) Что материя, не обладая сама разумностью, способна про- изводить самостоятельно все самые разумнейшие, мудрейшие и сложнейшие творчества без всякого участия, или руководства, или помощи какого-либо Разума, как находящегося внутри материи, так и вне её. Их учение в этом именно и заключается: что неразум- ные, бессмысленные и неодушевлённые атомы, бесцельно бродя в пространстве, творят разумнейшие акты. Если бы материалисты допустили разум в каком бы то ни было виде, или где-нибудь, то их учение уже не было бы материализмом. Если бы они допустили разум внутри атомов или где-нибудь, но внутри самой материи, то всё их учение превратится в пантеизм; если бы они допустили ра- зум, находящийся в природе, но вне атомов и вообще вне материи и что разум этот имеет возможность влиять на материю или руко- водить ею, то всё их учение превратилось бы в дуализм.
2) Материалисты полагают возможность допустить, что мате- рия, без всякой посторонней помощи, без какой бы то ни было по- сторонней, но вне её лежащей силы, или энергии, или воли, или какого-либо внешнего импульса, или силы возбудителя, или пер- воначального толчка, способна сама порождать достаточно силы, чтобы управлять всеми явлениями природы и даже движениями миллиардов планет, летящих с незапамятных времён с неизмери- мыми скоростями, и пополнять весь расходуемый при сём запас энергии единственно только качествами и свойствами, заключаю- щимися в материи.
3) Материалисты полагают возможным допустить, что без- жизненная, бессмысленная, инертная материя способна была по- родить жизнь на земле, как одно из свойств и качеств своих и что она по тем же причинам и до сего времени проявляет жизнь и ра- зум, как продукт свои на земле.
Вообще, материалисты отвергают всякую предварительную цель в природе или какой-нибудь заранее обдуманный план или предначертания в последовательности действий явлений и фактов, сменяющихся в природе; по их учению те или другие качества и
 ~ 205 ~
~ 205 ~
свойства материи, чтобы произвести одно или другое явление при- роды, вызываются каждый раз роковыми и неизменными законами случайности, законами причинности или вообще законами при- роды.
В общих чертах все материалистические космогонии учат оди- наково и этот их взгляд с разными детальными отступлениями применяется ко всем явлениям природы во всей вселенной, от са- мых обширных и грандиозных движений планет, образования но- вых созвездий и планетных систем и до прозябания малейшей ин- фузории. Всюду и везде фигурирует материя и вещество, всюду и везде одни качества и свойства, которые творят чудовищные дела в силу законов природы.
Деистические системы принимают, что вечен один Бог – Дух, Всемогущий, Премудрый, что всё, что есть в природе видимое и невидимое, – всё сотворено Его Всесильною и Разумною волею, всё, что сотворено, должно было иметь начало, а, следовательно, от вечности ничего существовать не могло, вечен один Бог.
Всё сотворённое Богом охраняется, управляется и руково- дится Им. Нет конца попечению Божию о мире; Бог бесконечен в своих предначертаниях и Своём предвидении и ведёт всё во все- ленной к благому концу. Для Бога нет ничего ни большого, ни ма- лого, ни великого, ни ничтожного, каждая инфузория охраняется Им и вызывает Его святое попечение в одинаковой степени, как и мир, как и вся вселенная, ибо для Существа бесконечного нет пре- дела Вездесущию, Он всюду и везде одновременно.
Вся система деистов необыкновенно полна, логична, ясна и последовательна. Нет ничего непонятного и недоговорённого, всё вытекает одно из другого так просто, естественно и наглядно; вся- кий вывод основан на предыдущем выводе, одинаково неоспори- мом для наших чувств; и таким последовательным образом стро- ится вся система мироздания, и самым простым и естественным путём она совершенно незаметно доходит до самых премудрых и великих истин, которые при всяком другом способе мышления остаются вполне непонятны и не выяснены.
Этого не отвергают даже и материалисты. Но они всегда вос- стают против Главного Элемента, на котором построены все деи- стические космогонии и которого материалисты никак признать
 ~ 206 ~
~ 206 ~
не могут, ибо они Его не видят, не чувствуют и не находят в своей науке, а потому требуют, чтобы им доказали Его существование на основании их же науки – этот Главный Элемент есть Бог.
То, что легко доказать одному, то очень трудно доказать дру- гому. Спросите, есть ли Бог у необразованной части народонасе- ления, которая составляет 99/100 всего числа, развитие которой не затемнялось научными предвзятыми мыслями; вся их жизнь шла естественно, а потому незначительное умственное развитие этих людей не преобладает над нравственным, – они ответят вам: «Ка- кое же может быть сомнение, если я вижу Его всюду кругом себя и в себе самом, как могу я на минуту усомниться в Его существо- вании и попечении обо мне?» Задайте тот же вопрос всем столпам науки, великим учёным всех времён и народов, вы также получите утвердительный ответ; они скажут вам: «В существовании Бога со- мневаться нельзя; без Бога ничего ни на один миг быть не может, и если бы Бог отступился от мира, то всё моментально рассыпа- лось бы в прах, и не было бы ничего, ибо всё в Нём, и Он во всём и без Него никакое существование немыслимо».
Только одни материалисты ответят вам: «Ничего не знаем, до- кажите. И им доказать существование Бога положительно невоз- можно. Как докажу я слепорождённому, что я вижу перед собою облако? Он сам не видит, никаким уверениям в ясности моего зре- ния не верит и требует, чтобы я дал ему ощупать облако? Как до- кажу я человеку, у которого паралич нравственного органа и пол- ная неспособность чувствовать и понимать что-либо отвлечённое и духовное, что я ясно чувствую в себе некий духовный элемент, сливающий меня с природою видимой и невидимой? Мои чувства и все мои внутренние понимания себя и окружающей меня жизни положительно устраняет всякое сомнение в необходимости при- знать существование Единого Всеобъемлющего и Всесозидаю- щего Начала?
Положение это ещё более усложняется тем обстоятельством, что требуется представить доказательства, пользуясь одною лишь материалистическою или положительною наукою. Ибо никакой другой материалисты не признают, и как только умозрения станут удаляться от законов материи и вещества, они объявляют, что, как
 ~ 207 ~
~ 207 ~
ни убедительны доказательства, но человек психически несостоя- телен, и остаются при своей материалистической космогонии.
Обратимся к ней и разберём, насколько она полна и доказа- тельна. Материалисты чрезвычайно строги ко всем трудам, вы- шедшим не из их лагеря, и всегда отвергают их, говоря, что: «по- ложение, не доказанное научно, должно быть отвергнуто». На этом основании следует ожидать, что все материалистические по- ложения педантически точны, ясны и доказаны без малейшей ги- потетичности. Посмотрим, так это на самом деле?
Главные основания, на которых материалисты строят свою космогонию и которые в настоящее время желательно проверить, следующие:
1) Вечность материи.
2) Свойства и качества материи.
3) Законы случайностей и законы причинностей.
4) Законы природы. Приступим к их разбору.
I. «Материя вечна», говорят материалисты. Первое, что должно нас удивить, это то, что материалисты позволяют себе го- ворить о вечности. Разве вечность поддается опыту и наблюде- нию? Они ведь сами отняли у себя право выражать свои убеждения о всех подобного рода вещах, и о вечности их наука имеет менее права выражать свои суждения, чем о многом другом отвлечён- ном.
Но, кроме того, можем ли мы себе представить вечную мате- рию? Вечность не измеряется цифрами. Какое бы мы большое число ни написали и сколько бы этих цифр себе ни представили, мы никогда до вечности не дойдём. Говоря о материи что-нибудь вещественное, мы должны положить материю одного вида, т.е. тоже вещественную, реальную, или цифровой, но ни в каком слу- чае не отвлечённую и не вечную. Допустим вместе с материали- стами, что матерая существует очень давно, что она претерпевала миллионы раз различные преобразования из одного вида в другой, что нельзя выяснить, сколько лет она существует, – мы всё-таки можем допустить, что она существует вечно.
 ~ 208 ~
~ 208 ~
Но обратимся к материалистической науке и спросим: что до- казывает, что материя вечна? К нашему изумлению окажется, что это ровно ничем не доказано. Это гипотеза ненаучного характера; это простое допущение или представление. Материалисты, видя, что при химических реакциях, преобразовываясь из одного рода в другой количество материи не изменяется, заключили, что мате- рия не пропадает и не приобретается. В этом же факте они увидели новое доказательство древнейшей теории о вечности материи. Тут нет ни логики, ни последовательности. Весь вывод, который можно сделать из этого факта, состоит в том, что при известных нам химических реакциях количество материала остаётся одно и то же; но можем ли поручиться что мы знаем все химические ре- акции? Может быть, большинства их мы совсем не знаем. Нако- нец, материя претерпевает множество других преобразований, фи- зических, механических, которые одинаково могут менять количе- ство материи.
Наш мир, уносясь в пространство с неимоверной быстротой, не теряет ли части своего воздуха на своём пути; мы этого не знаем, но есть большая вероятность что это так, а может быть, он при этом полёте приобретает ещё что-нибудь из окружающей среды, – опять ничего не известно. Наконец, прочтя, кинетическую гипотезу Ярковского, надо очень сильно задуматься и спросить себя; не растёт ли, в самом деле, наша земля, и тогда вопрос о по- стоянном количестве материи на нашей земле будет вопросом со- вершенно праздным.
Но главное заблуждение состоит совсем не в том, вопрос по- стоянства количества материи в химических реакциях не имеет ни- чего общего с вопросом о происхождении самой материи. Материя могла быть сотворена вчера, а сегодня она может доказывать нам постоянство своего количества при химических реакциях; для этого нет ещё основания предполагать материю не только вечной, но и древней.
Но как бы мы в самом деле мысленно ни отдалили срок появ- ления материи, вопрос о том, откуда взялась материя, остаётся, тем не менее, крайне интересен. На это, конечно, в учении материали- стов ответа нет. Они нашли возможным остановиться на совер- шенно бездоказательном представлении, что материя вечна, и это
 ~ 209 ~
~ 209 ~
ошибочное представление принимают за исходную точку своего дальнейшего мышления, на которой опять строят свои теории.
Более пытливые умы, даже из признающих вечность материи, конечно, спросили бы себя, а откуда же могла взяться материя? Сотворена ли она или появилась сама? Как и откуда она появи- лась? Какой первоначальный вид её? Что заставило её принять этот вид? И т.д.
Учёные, которые продолжали свои умозаключения и касались причин и начал, приходили всё к одному и тому же заключению, что первоначально существовала первичная материя, чрезвычайно тонкая; учёные её называли по-разному. Но всегда сходились на том, что она должна была существовать и что она есть результат акта творчества Разумной и Бесконечной Силы, которая есть Бог.
В заключение мы спросим: какое же из двух учений более пра- вильно, материалистическое, или деистическое? Существование Бога, Творца вселенной, вне всякого сомнения; это подтверждает наука в лице своих лучших представителей, это подтверждают нам наши чувства, подтверждает премудрый и разумный порядок и гармония, царствующие в мире, и, наконец, полная невозможность представить себе всё существующее и живущее без Всесильного и Всеобъемлющего Промысла, руководящего всем. Положение ма- териалистов о вечности материи, с этой точки зрения, должно по- казаться чистейшим заблуждением.
Но откинем всё это, примем временно материалистическое мировоззрение и вообразим себе, что мы тоже нравственно слепы и не в состоянии охватить всё величие деистического учения. Со- гласившись с материалистами, что материя вечна, спросим себя, что логичнее допустить: что некоторое Разумное Существо сотво- рило мир из этой имевшейся, будто бы, налицо вечной материи, или что бессмысленная, бездушная, инертная материя, совер- шенно случайно носящаяся в пустом пространстве, совершает пре- мудрейшие акты творчества? Где в природе видели мы, чтобы не- что бессмысленное творило разумное, чтобы материя творила жизнь?
В природе мы никогда не видали никакого аналогичного факта, откуда могла явиться подобная мысль. Но, во всяком слу-
 ~ 210 ~
~ 210 ~
чае, где же доказательства? Всё это голословно, невероятно и не- логично.
II. Свойства и качества материи. Ещё до Эпикура материа- листы-философы учили, что материя обладает разными свой- ствами и качествами, вследствие которых она производит все яв- ления в природе, иногда даже самые сложные и чудесные, напо- минающие акты творчества. Эпикур заимствовал это учение у своих предшественников и сам развивал его и дополнил.
Научных доказательств учение это совсем не имеет; учение о материи не только во времена Эпикура, но и в настоящее время не стоит на такой высоте, чтобы быть в состоянии точно доказать, со- ставляют ли силы следствия свойств материи, или наоборот. Та- ким образом, и это положение материалистов не может быть даже причислено к числу научных гипотез, ибо научная гипотеза должна иметь верные и бесспорные умозрительные доказатель- ства, построенные на опытных данных, здесь же ничего подобного мы не видим.
Это должно быть названо просто допущением или голослов- ным представлением. Древние материалисты считали это положе- ние настолько очевидным при своих малых познаниях сущности материи, что не трудились даже доказывать его.
Кроме того, что оно легко понимается, оно чрезвычайно удобно и прекрасно маскирует незнание учёными вопросов сущ- ностей и начал. Что может быть более удобно, как объяснение всех явлений природы проявлением качеств и свойств материи, в осо- бенности когда нет необходимости указывать, какое именно каче- ство проявляется, каким образом и вследствие каких причин. Ведь это позволяет каждому незнающему человеку скрывать своё не- знание за этими голословными заявлениями о качествах и свой- ствах, как за каменной стеной. Какое бы непонятное явление ни случилось в природе, всё объяснялось чудесными свойствами ма- терии, и это представление, в сущности совершенно ненаучное, маскировало всё научное незнание людей и выставляло их знаю- щими.
Опровержений этому положению появлялось слишком много, чтобы можно было упомянуть хотя о сотой части их; скажем
 ~ 211 ~
~ 211 ~
только, что против него писали: Ньютон, Декарт, Гюйгенс, Бер- нулли, и, наконец, Вольтер направлял свои злые сатиры на науку, допускающую такие несообразности. В опровержение этих пре- словутых и никому не понятных качеств материи, никем не выяс- ненных и ничем не подтверждающихся, больше всех писал Лейб- ниц и называл их qualitas occulta. В то время как столь великие умы протестовали против этого положения, оно от древних мате- риалистов, в полном своём объёме и без малейших изменений, пе- реходило к материалистам средних веков, а от них со временем перешло и к современным. Ничто не было в состоянии уничтожить или пошатнуть представление невежественное, но соответствую- щее низкому уровню нравственного развития общества.
Современные материалисты убеждены, что это положение в последнее время доказано Молешоттом и Бюхнером, которые находили также возможным признавать, что силы составляют свойства материи, но подобных доказательств и следа в науке нет. Молешотт и Бюхнер совсем и не думали доказывать этого, а те ме- ста, в которых они упоминали о свойствах материи, должны быть признаны лишь одобрениями давно, будто бы, известных и дока- занных систем, но никак не доказательствами новой теории.
Вот что говорит Ланге (История материал., т.II, стр. 184, 185);
«В молешоттовском „Круговороте жизни“ очень длинная глава, озаглавленная „Сила и вещество“, содержит главным образом по- лемику против аристотелевского понятия о силе, против теологии, против принятия сверхчувственной силы и т.п., но в ней слишком мало указаний и полное отсутствие доказательств об отношении простой силы притяжения или отталкивания между двумя ато- мами к самим атомам, которые предполагаются носителями этой силы. Мы слышим, что сила не есть толкающий Бог, но мы не слы- шим, как же собственно она это делает, чтобы, начиная от ча- стички вещества через пустое пространство вызвать движение к другой частичке. В сущности, мы получаем только один миф вме- сто другого мифа».
«Именно то свойство вещества, – говорит он, – которое делает возможным его движение, мы называем силой. Основные веще- ства обнаруживают свои свойства только по отношению к другим.
 ~ 212 ~
~ 212 ~
Но если они недостаточно близки, при надлежащих обстоятель- ствах, то они не обнаруживают ни сталкивания, ни притяжения. Ясно – здесь недостаёт силы, но она незаметна нашим чувствам, потому что нет случая к достижению. „Где бы ни находился кис- лород, он обладает сходством с кали“…
В этом месте сочинений мы застаём Молешотта в полном раз- гуле самой бездоказательной схоластики с таким авторитетом, что можно подумать, что он сам творил мир; его „сродство“ есть пре- восходнейшее качество, как того только возможно требовать. Оно сидит в кислороде, как бы с человеческими руками. Если прибли- зить кали, то руки сейчас же его хватают; если нет, то всё же су- ществуют руки и желание хватать кали.
Бюхнер ещё менее Молешотта вникает в отношение силы и вещества, хотя самое известное своё сочинение озаглавил этими понятиями. Только мимоходом выставлено его положение: „Сила, которая не обнаруживается, не может существовать“. Это, по крайней мере, здравое воззрение в противоположность указан- ному олицетворению человеческого отвлечения у Молешотта. Са- мое лучшее, что Молешотт говорит о силе и веществе, есть длин- ное место из предисловия Дю Буа Реймона к его исследованиям животного электричества, но именно самый ясный и самый важ- ный отдел этого предисловия пропущен у Молешотта».
Призвать эти мимоходные соображения за доказательства столь важных и сложных научных положений нет никакой воз- можности. Доказать, что материя обладает такими неограничен- ными качествами и свойствами, очень трудно. Если бы даже мате- риалистам и удалось доказать, что некоторые силы действительно составляют свойства материи, то ведь этим бы ещё дело не огра- ничилось; этого было бы слишком недостаточно. Чтобы сделать свою теорию доказанной, им следует доказать, что все силы, ре- шительно все, которые существуют в природе, составляют свой- ства материи, а этого доказать нельзя: во-первых, потому что в природе есть множество сил, которые нам положительно неиз- вестны. Разве может человек, слабое и ничтожное создание, ду- мать, что он когда-нибудь познает все силы в природе, всю её энер- гию, все причины, вызывающие движение и преобразование в мире, одним словом всю Премудрость Создателя и весь строй Его
 ~ 213 ~
~ 213 ~
святого попечения о вселенной? Во-вторых, из известных нам сил, конечно, найдутся такие, которые могут казаться свойствами ма- терий, но эти силы всегда возбудят научные несогласия между учёными; одни будут думать так, а другие иначе; но никто пока ещё не решится утверждать это, ибо наши знания законов материи ещё слишком малы. Ибо из известных нам сил найдётся ещё боль- шее число таких, которые ни в каком случае не могут быть названы свойствами материи; и ни один учёный никогда не мог бы быть противоречащего о сём предмете мнения.
При современном состоянии наук большинство физиков несо- мненно выразится, что они более склонны признать материю пас- сивной, а силы активными во всех явлениях. Разбирая ли материю, двигающуюся в бесконечном пространстве межпланетного эфира в виде солнц, планет, комет и тел всякого рода, или перейдя затем в область более ограниченную, в ту среду в которой мы её видим. Сила оказывается в большинстве случаев самостоятельной как по силе своей, по форме, так и по своим проявлениям. Разве звук, свет, магнетизм и электричество принадлежат материи? Разве они составляют нераздельное качество или свойство материи? Можно ли хоть на минуту усомниться, что силы, развивающиеся в дина- момашинах, составляют свойство материи? Солнечная теплота произвела растения, которые превратились в каменный уголь и возвращают сложенную в них силу непосредственно электриче- ской энергией. Силы могут развиваться очень большие, но ни один человек не признает (если не замешаются предвзятые идеи), что во всём этом акте материя играет даже не пассивную, но одну лишь передаточную роль, а всю активную роль играют силы. И таких примеров можно привести множество.
Нет, опыты показывают совершенно противное: это только различные виды движения частиц. Причина движения должна ле- жать вне частиц, что правильнее, понятнее и логичнее; единствен- ное затруднение – при сём объявляются следствия, а не причины, ибо при сём надо допустить, (чего материалисты никак допустить не хотят), что кто-нибудь или что-нибудь даёт форму этому дви- жению и управляет этими силами. Сами ли силы управляются, одна ли Верховная Сила обнимает их всех, – это уже вопрос вто-
 ~ 214 ~
~ 214 ~
ростепенный; во всяком случае, не материя и не частицы управ- ляют силой, иначе самой материи надо приписать, если не разум, то нечто вроде разума, какие-нибудь отправления свободной воли, что также не может быть допущено материалистами. Материя все- гда и во всех случаях своего движения есть предмет пассивный и страдательный.
О жизненных явлениях, как результате свойств и качеств ма- терии, мы позволим себе совсем умолчать. Давно доказано, что жизнь порождается только жизнью, и никакие опыты о произволь- ном зарождении никогда не приводили к благоприятным резуль- татам. Конечно, Эпикуру это могло быть неизвестно, но современ- ные материалисты должны же это знать и постараться ответить на вопрос, кто или что вдохнул первый задаток жизни на земле, чтобы она имела возможность разрастись и размножаться.
Материалисты очень часто, вместо того, чтобы постараться разъяснить самое понимание какого-нибудь явления, ограничива- ются тем, что делают себе о нём представление или заменяют по- нятие словом – и считают всё выясненным, в то время как даже и к изучению данного представления ещё не приступали. К этим словам или к представлениям так привыкаете все, что их не заме- чаете. Например: «жизненные свойства материи», «галлюцина- ция», «воображение», «экстаз», «сомнамбулизм», «атом», «анесте- зия», «аффект», «каталепсия», «химическое сродство», «сила»,
«ежедневный сон человека» и т.д., и т.п., – и таких слов употреб- ляются тысячи, которые, будучи совершенно не поняты и неразъ- яснены положительными науками, принимаются за понятия и даже за исходную точку логического, будто бы, хода мышления. От них начинают свои доказательства и к ним приводят свои вы- воды, решительно не понимая самой сути явлений, которые обо- значены этими словами.
«Мы верим во что-либо не потому, что оно действительно ис- тинно, – сказал Паскаль, – но мы считаем истинным то, что мы любим, к чему мы привыкли. Привычка есть вечное препятствие человеческого прогресса. Мы любим истину не потому, что она истина, но потому, что нам кажется, что она согласуется с теми воззрениями, которые мы привыкли считать правильными». Очень
 ~ 215 ~
~ 215 ~
немногие, и только люди с действительно развитой душой, пре- данные своему делу беспредельно и безусловно, поставившие себя независимо от предрассудков и предвзятых идей, оказываются до- статочно сильными, чтобы отрешиться от рутины СВОИХ науч- ных привычек и принципов. Это труднее, чем можно себе вообра- зить; для этого надо иметь правильное понятие о действительном значении своей науки и о значении и смысле жизни на земле, не умаляя, но и не превознося ни одного из них. Надо уметь пра- вильно сопоставить одно с другим и определить каждому своё ме- сто; тогда только человек будет в состоянии сосредоточить всё своё внимание на одной высшей истине в силу твёрдого убежде- ния, что никакое знание никогда не может быть вредно, какими бы признаками ни было бы оно окружено.
Попробуем попросить объяснения по существу у позитивиста, что такое, например, «жизненные свойства материи», или что та- кое «галлюцинация», «экстаз», «атом» – он удивится, как можно задавать подобные вопросы, или вообще затрагивать эти запре- щённые научными вековыми обычаями темы; он почтёт вас ерети- ком науки и ответит вам с тщеславным достоинством, что слова эти достаточно сами себя обрисовывают и не требуют других по- яснений.
Но как же это?!.. Если какая-нибудь подмётка на сапоги вызы- вает для поставки своей в армию тысячи разных условий, которым она должна удовлетворять, если о простом порезе на пальце или подседе на лошадиной ноге пишут многотомные сочинения и по- лучают такие же опровержения, то последовательно ли, говоря о нашей душе, о всей сути жизни нашей, которая в сущности и под- разумевается под словом «жизненные свойства материи», отделы- ваться одним названием, не давая ровно никаких объяснений; или, говоря об атоме, из которого, по мнению позитивистов, состоит весь мир и которым он управляется, – ничего не сказать об его сущности и природе?!
Этот приём науки маскировать в себе всё непонятное, чтобы придать себе большее значение и большую цельность и закончен- ность; чего в сущности в известных случаях и не бывает, – состав- ляет чрезвычайно важную ошибку, не только допускаемую по
 ~ 216 ~
~ 216 ~
необходимости, но иногда практикуемую в самых обширных раз- мерах; он очень много содействует узкому и поверхностному ми- росозерцанию и придаёт всей науке тщеславный и деспотический вид, а в некоторых случаях прямо лживый смысл, позволяющий злоупотреблять научными выводами. Для примера возьмём вето
«Философию Бессознательного» Эдуарда фон-Гартмана; это гро- мадный труд, находящий себе миллионы поклонников во всех странах света; он многими выставлялся на такую высокую степень гениальности, что может будто бы оспаривать пальму первенства у лучших философских систем, – и что же мы находим в нём? Как только дело дойдёт до чего-нибудь непонятного, превышающего программу позитивизма, чего-нибудь долженствующего служить началам выяснения сущности или начала явлений или фактов из философии, обрывается всегда на одном и том же: это всё, говорит Гартман, действия «Бессознательного» и как только встречается какой-нибудь ещё неразъяснённый опытной наукой вопрос, – это просто действие «Бессознательного», – повторяет он, в полной уверенности, что это ничего, в сущности, не выражающее слово, при том значении, которое ему угодно дать, приобретает особую силу, способную разъяснить всё, устранить все трудности понима- ния; вследствие чего разбираемое явление или факт становятся будто бы выясненным. Это слово «бессознательное» служит ему каменной стеной или непроницаемой бронёй, за которую он очень удачно прячется каждый раз, когда является необходимость отве- чать на те недосягаемые для науки вопросы, которые сами напра- шиваются, вследствие затронутых его философией тем.
Ф.А. Ланге даёт весьма меткое сравнение этой системы, при- нятой Гартманом; он находит, что американские индейцы делают постоянно совершенно то же самое. Когда они видят что-нибудь для себя непонятное или неразъяснимое – они говорят “devil devil” (чёрт, чёрт) и думают, что этим они решительно всё себе разъяс- нили (Истор: матер. т.II; стр. 267).
III. Закат случайностей и причинностей. Ньютон сказал:
«Чем дальше человек проникает в тайны природы, тем яснее перед ним открывается Единство Предвечного Плана». Но материалисты не разделяют с ним этого мнения. Они находят, что Предвечный План не может быть доказан наукою, и потому им кажется, что
 ~ 217 ~
~ 217 ~
несравненно научнее предположить, что миром управляют за- коны, из которых мы теперь разберём – закон причинностей и за- кон случайностей.
Вся атомистика материалистов была бы мифом, но им самим не понята и не наглядна, если бы для придания ей законченности материалисты не ссылались во всех непонятных местах своего учения на существующую будто бы в природе безусловную и не- ограниченную силу закона случайности или закона причинности, управляющих будто бы вселенной, вызывающих будто бы сами собой, без всякой разумной причины, все явления природы и даже формы существа. Эти законы составляют постоянную исходную точку всех материалистических систем, от которых они начинают свои выводы и до которых не доводят их, как только что-нибудь помешает им вести свою теорию дальше.
Например, Джон Ст. Милль; в своей «Системе логики» стр. 106, говорит: «Я убеждён, что каждый, кто привык к абстракции и анализу и правильно употребляет свои способности, как скоро его воображение приучилось питать это понятие, нимало не затруд- нится представить себе что, например, в одной из твердей, на ко- торые теперь астрономия разделяет вселенную, могут следовать друг за другом события произвольно и без определённого закона; и в нашем опыте или в нашем уме нет ничего; что могло бы соста- вить достаточное или в действительности лишь какое-нибудь ос- нование для того, чтобы думать, что это нигде не бывает».
Отсюда можно ясно заключить, что Милль, становясь на сто- рону материалистов, считает вместе с ними, что вера в закон при- чинности есть прямой результат непроизвольной для самого чело- века индукции, которая может допустить, что на нашей земле, точно так же, как в самых отдалённых твердях могли бы возникать и образоваться не только целесообразные явления, не только от- дельные, но и целые миры без всякой разумной причины, без вся- кой цели, совершенно случайно и непроизвольно.
Это что-то очень трудно понимается, однако, признаётся всеми материалистами. Атомы, бродя в пространстве, непроиз- вольно, через свои столкновения и удары с соседними, также без- личными и неразумными атомами, без всякой причины, а часто случайно, могут составлять тела, целые миры разумных существ,
~ 218 ~
образовывать в них мысль, сознание, разум, нравственность, со- весть и т.д. – и всё это совершенно случайно...
Простая логика должна опровергать подобную силу случайно-
сти.
Руссо в одном своём сочинении говорит: «Если бы мне ска-
 зали, что в соседней комнате рассыпался типографский шрифт и что случайно при падении шрифта на пол из букв сложился пер- вый стих Энеиды, то я даже не поднялся бы с места, чтобы посмот- реть, правду ли мне говорят».
зали, что в соседней комнате рассыпался типографский шрифт и что случайно при падении шрифта на пол из букв сложился пер- вый стих Энеиды, то я даже не поднялся бы с места, чтобы посмот- реть, правду ли мне говорят».
Он вполне прав. В общежитии всякий назвал бы подобного рода допущения чистейшим абсурдом, недостойным никаких опровержений. Какой бы охотник согласился, выйдя в поле, стре- лять вправо и влево без разбора куда и зачем, думая, что этим спо- собом он убьёт больше дичи, чем если бы он её отыскивал и стре- лял с прицелом только после того, как отыщет дичь? Кто согла- сится, иметь вид написать какую-нибудь философию, взять в руки перо, писать всю свою жизнь, писать, не размышляя разный набор фраз, надеясь на то, что случайно из этого бессмысленного набора глупостей выйдет когда-нибудь философия? Ведь подобных лю- дей никто не задумался бы посадить прямо в сумасшедший дом, а совершенно такие же мысли и допущения, родившиеся в голове авторитетных, патентованных наукой лиц, принимаются за вели- кие идеи, находящие себе миллионы последователей, несмотря на всю бездоказательность этих идей, на полный разгул несдержан- ной фантазии, в защиту которой не говорит ни один факт. Простой здравый ум должен отвергнуть всё это, ибо обыкновенная логика до этого дойти не может.
Это ошибочное понимание законов причинности так же старо, как и сам материализм, и внушалось ещё Эпикуром, хотя во все времена человечества вызывало удивление своею нелогичностью. Это воззрение очень редко оспаривалось, ибо заключает в себе настолько наглядную и произвольную погрешность, понятную каждому, что всякому более или менее научному человеку оспа- ривать её делалось смешно и совестно. Ещё Эпикур принимал воз- можным для атомов уклонения их от прямой линии без всякой причины; Кант, всегда более чем деликатный по отношению к чу-
 ~ 219 ~
~ 219 ~
жим мнениям и всегда умеренный в своих выражениях, не мог, од- нако, воздержаться, чтобы не назвать прямо это воззрение бес- стыдным (Allg. Naturgesch. Hartenst. I, S. 217).
Как можем мы причину явления искать в самом явлении? Это совершенно ненаучно. Как можем мы в самой грозе искать при- чину её возникновения, в самом человеке искать причину его жизни, в самой планете искать причину её движения? – Ведь это ряд ни с чем не сообразных абсурдов.
Ф.А. Ланге, в своей «Истории Материализма», стр. 54, проте- стуя против вышеприведённой выдержки из «Логики» Миля, го- ворит: «Вследствие подобного же понятия причинности происхо- дит то, что обезьяна хватает лапою позади зеркала, или оборачи- вает насмехающийся снаряд, чтобы найти причину появления сво- его двойника. Вследствие понятия причинности происходит то, что дикарь приписывает гром колеснице Бога, или воображает при солнечном затмении дракона, который хочет проглотить раздая- теля света. Закон причинности заставляет трудного ребёнка соеди- нить благодетельное появление матери с своим криком и порож- дает этим путём опыт. Привилегированный же глупец, приписы- вающий всё случаю, мыслит себе (если он вообще мыслит) случай, как демоническое существо, коварство которого заключает в себе достаточное основание для всех его напастей».
Чрезвычайно трудно, занимаясь постоянно положительными науками или преследуя материалистическое мировоззрение и при- выкнув думать, что ничего духовного в природе нет, – перейти по- том к правильному и свободному пониманию почвы чистого иде- ализма. Несмотря на то, что многие, более развитые, сами собой доходят до убеждения, что позитивизм слишком поверхностно изучает природу, и чувствуют естественное влечение проникнуть глубже своими познаниями в тайный смысл вселенной, но при- вычка старого образа мысли постоянно сбивает их с пути и вовле- кает в невольные заблуждения. В этом очень часто сознавались сами атеисты; например, Фейербах, самый отъявленный пропаган- дист атеизма (Философия будущего, 43 года, стр. 23), не мог умол- чать об этом невольном тормозе человеческой мысли, сказав: «Кто сосредоточивает свой ум и сердце только на вещественном, на чув-
 ~ 220 ~
~ 220 ~
ственном, тот фактически отрицает реальность сверхчувствен- ного: потому что (для человека по крайней мере) только то дей- ствительно и реально, что составляет предмет реальной и действи- тельной его деятельности». И в этом случае Фейербах больше чем прав. Редко встречаем мы человека, который работал бы над своим внутренним духовным развитием и заставлял бы себя думать так, как думали великие умы и нравственно развитые люди. Напротив, мы несравненно чаще встречаем принцип отвергать всякий авто- ритет даже людей гениальнейших; и каждый находить возможным дойти самому до высших истин и высшего знания, всякий убеж- дён, что сам ничуть не глупее каких-то Декартов, Ньютонов, Гум- больдтов и Кантов, и решительно не желает, да и не может сам знать верную оценку своих сил, способностей и внутреннего раз- вития.
Вот причина, отчего все материалистические учения и си- стемы были всегда более популярны, чем всякие другие, более трудные.
Учения материалистов во все времена делались очень скоро известными и всегда проникали скорее всяких других во все слои общества. И это весьма естественно и очень понятно.
Представим себе молодого ещё не окрепшего в своих знаниях науки, человека, который, заинтересовавшись вопросом жизни, вздумал бы, понадеясь на свои силы ума, обратиться к изучению философии без дельного и всесторонне образованного руководи- теля, – он непременно увлёкся бы учением материалистов. Во-пер- вых, потому что не может один человек прочесть все философии, существующие в мире – их тысячи. Не будучи в состоянии про- честь всё, он, конечно, возьмёт на выдержку самые популярные и известные системы, а они-то как раз и есть материалистические. Во-вторых, избрав для своего изучения несколько теорий, может ли он, нетвёрдо знающий науки, быть разумным судьёй в степени правильности и непогрешимости суждения какой-нибудь из них? Ведь явных и грубых ошибок ни в какой теории нет, есть неточное объяснение фактов, сбивчивые толкования начальных принципов. Все ошибки каждой теории заключаются в неуловимом уклонении от истины, в неправильном взгляде на вещи; надо быть хорошо об- разованным человеком и во всяком случае иметь правильный
 ~ 221 ~
~ 221 ~
взгляд на мир, чтобы уловить и тонко оценить эту неверность, а на этих-то мелочных уклонениях и построены все те следствия, кото- рыми так радикально отличаются материалистические теории от философских.
Следовательно, каждый неизучивший специально предмета наук и обладающий достаточной силой логики, чтобы верно оце- нить правильность суждения каждой из представляющихся его усмотрению теорий, может только увлечься какой-нибудь из них, но не судить о ней, не изобличать её в ошибках и заблуждениях.
Как только одна из теорий или систем ему понравится больше других, он сейчас и принимает её, как правило и руководство в жизни. Но почему же он должен увлечься непременно материали- стической или атеистической теорией? А вот почему: весь период нашего образования, т.е. с самой молодости до самой возмужало- сти, а иногда половину всей жизни нашей, мы занимаемся изуче- нием наук, в которых никогда и ничего о Боге не слышим. Мы до того отстаём от этого понятия, до того привыкаем к атеизму науки, что безбожие науки отражается и на нашей жизни; мы невольно думаем, что так как Бога нет в науке, следовательно, Его нет и в природе, и никто и никогда не говорил нам противоположного.
Мы чуждаемся, если нападаем на какую-нибудь философскую систему, открыто говорящую о Боге, душе или свободной воле, мы удивлены ею и думаем, что напали по ошибке на какое-нибудь ду- ховное сочинение, на наших устах появляется улыбка, нам как будто совестно читать эту книгу, и по невольному чувству при- вычки подрывается в нас весь авторитет к ней.
Нам дико встретить имя Бога в философии, ибо мы никогда Его в нашей науке не встречали, и наоборот – мы чувствуем себя в своей сфере, когда возьмём Бюхнера, Бруссе, Кабаниса, Фейер- баха и т.д., мы чувствуем, что-то своё, привычное; они самым по- нятным образом выясняют нам факты, совершенно в духе нашего понимания; и с каким апломбом, и с какою уверенностью защи- щают они свои положения. В материалистических учениях вы сплошь и рядом встретите такие обороты речи: я утверждаю, я отвергаю, этого нет, это не существует, наука присудила, наука произнесла свой приговор, наука осуждает подобное; – и всё это нравится, всё это в духе времени; эта уверенность, эта сила речи
 ~ 222 ~
~ 222 ~
поневоле заставляют всех, поверхностно знающих предмет, следо- вать за ними и преклоняться перед этими учениями. Это совер- шенно естественно: ошибок в теории науки молодёжь уловить не может, а наружная форма так увлекательна и так понятна.
Истинный смысл науки не так понятен; и сама наука по наруж- ной своей форме далеко не так самоуверенна; истинная наука да- лека от всякой гордости, она не имеет и тени даже подобного апломба. Наука ищет и изучает, она работает и предлагает свои выводы для проверки. Вы нигде у серьёзно учёных людей, живу- щих для своей науки, не встретите: утверждаю, запрещаю, прика- зываю; – это совершенно ненаучные приёмы. Ньютон говорит:
«Нам кажется, предыдущие наблюдения дают нам право предпо- ложить....» Кеплер говорит: «Я предлагаю на ваше обсуждение эти гипотезы... может быть закон таков» и т.д. В истинной науке вы встретите только подобные обороты речи, вполне скромные и вполне соответствующие тому глубокому смыслу и правоте, за- ключающейся в самом учении. Ньютон сказал: «Я похож на ре- бёнка, собирающего раковины на берегу моря».
Материалисты же своими фразами вводят в заблуждение тех, кто не имел возможности знать столько, сколько они сами знают. Они пользуются своим преимуществом и увлекают внешней сто- роной своих доводов и часто бездоказательных положений. Они слишком часто забывают, что, явившись посредником между наукой и её искателями, надо совершенно точно объяснять факты, надо оставаться верным и скромным служителем науки.
«Известно, что нелепость, предложенная дерзко и без уловок,
– говорит Жантильи, – имеет иногда странное могущество; она ослепляет, как правило... Как только раз ум имел слабость сомне- ваться в видимой нелепости – он погиб. Как нечего более ожидать от ума, требующего доказательства очевидности, так тем более нельзя надеяться на ум, ожидающий опровержений нелепости, ко- торая есть очевидное заблуждение. Очевидность нечего доказы- вать; нелепость нечего опровергать. Философия тут останавлива- ется.... Тогда ум, лишённый точки опоры очевидности и под- держки нелепости, выходит из границ разума и покидает здравый смысл и может дойти до любой нелепости». (Атеизм опровер. Наук., стр. 143).
 ~ 223 ~
~ 223 ~
Как много погубил молодёжи один из современных филосо- фов, воскликнув: «Небо теперь очищено, мы свели оттуда Бога!» Грустно и тяжело смотреть, как эти праздные речи с некоторым особым увлечением повторяются людьми, от которых, судя по их образованию, можно было бы ожидать более серьёзного отноше- ния и более осмысленного суждения о таких воззрениях, которые служат основой всей нашей жизни и составляют критериум всего нашего существа.
IV. Законы природы. Одно из самых распространённых между материалистами представлений, которое чрезвычайно дополняет все их системы и делает многое совершенно непонятное – понят- ным, это представление о законах природы.
Материалисты говорят, например, что материя, пользуясь сво- ими свойствами, производит все тела в мире. Атомы, через непо- средственный ряд комбинаций, слагаются иногда в самые причуд- ливые формы и образуют самые сложные вещи, например, глаз че- ловека. Всякий, конечно, задумается над этим; как в самом деле бессмысленные, неразумные атомы, простые бездушные шарики, вроде нашей охотничьей дроби, случайно насыпанные в каком-ни- будь уголке человеческого тела, вдруг сложились так, что сделали глаз, и почему этот глаз сделался на том месте, где ему надлежит быть, а не где-нибудь под мышками или на пятке. Это весьма ло- гичный вопрос, на который ответить было бы очень трудно, если бы каждый раз не являлось на выручку представление о законе природы. Ведь это закон природы, отвечают материалисты, и всё становится ясным. И в самом деле, если в природе есть закон, ко- торый направляет действия всех атомов, и они слагаются в силу законов природы, то что же остаётся ещё объяснять? Всё стано- вится понятным для человека, не привыкшего додумываться до конца.
Разберём, какими законами управляется вселенная и может ли быть такой закон природы, который играл бы активную роль в яв- лениях природы, направляя всё существующее к целесообразным действиям. Вопрос этот в подробности разобран Н.Я. Данилев- ским в его книге «Дарвинизм» (т. II, стр. 516–520), а потому мы имеем возможность его прямо заимствовать оттуда.
 ~ 224 ~
~ 224 ~
«Слово „закон природы“, так же, как и слово „развитие“, вво- дит многих в большие заблуждения. Как, подведя явление под раз- витие, думают, что получили его объяснение, точно так же ду- мают, что сделали это, когда говорят, что подвели его под закон. Выражение „закон природы“, очевидно, метафорического проис- хождения; например, я скажу:
„Раб слепой слепых законов, Мчится поезд в тьме ночной“.
(Гр. А.А. Голенищева-Кутузова).
В стихах, дело которых представлять нам живые, смелые, кра- сивые, величественные, увлекательные образы, – что прекрасно. Метафора – их область. Я даже не придерусь к тому, что поезд соб- ственно никак уже не раб слепых законов, а целесообразнейших намерений, выразившихся в постройке дороги, кладке рельсов, устройстве машины, в коих всякая малость была предусмотрена, целесообразно соображена и разумно выполнена, в гораздо боль- шей степени, нежели простая дорога и экипаж, везомый лошадьми и правимый кучером. Слепота очевидно относится тут к законам упругости паров; но пары ведь – или просто бы шипели и свистели, выходя понемногу и увеличивали бы влажность окружающей ат- мосферы, или разорвали бы котёл, а не везли бы поезда, совер- шенно как и те силы, которые действуют в организме, да и во всём мире, ничего толкового бы не произвели, или даже ровно, ничего бы не произвели, если слепо строили организмы или миры. Но стихи всё-таки хороши, и дело в том, что внимание явлений, в них выраженное, вполне соответствует тому, которое соединяют с по- нятием о законах природы не только образованные люди, но и многие учёные, – понимание, по которому явление есть раб, ис- полняющий некое веление некоей слепой воли – закона. Очевидно, что это метафора, а метафоры, метафорический смысл которых за- быт, всегда производят великую путаницу в головах человеческих, как, например, и понятие развития, которое также ведь метафора. Но мало метафор, которые бы столько путали, как метафора „за- кон природы“. Берётся одна сторона явлений, представляющая частную аналогию; по этой аналогии наименовывается предмет
 ~ 225 ~
~ 225 ~
или явление; пока дело совершенно невинное, – но это происхож- дение метафоры скоро забывается, и всё выражающееся в метафо- рическом названии принимается за полную аналогию, за тожде- ство – и путаница готова!
В самом деле, как представляется людям, не получившим есте- ственно-научного образования или весьма поверхностно к нему относящимся, знаменитая Ньютонова формула? Во-первых, её называют законом природы, хотя она и нечто гораздо высшее, как сейчас покажу; далее думают (и это опять говорю по опыту), что это некая уловка, некий фортель, в одной части которого приду- мано, что притяжение действовует в прямом отношении, а в дру- гой части как-то обратно; и затем в первой части просто во сколько раз больше масса, во столько же раз и сильнее должна она притя- гивать, а во второй части не просто, а ухищрением, это притяжение должно ослабевать в квадратном отношении. Штука преудиви- тельная. И вот в эту-то штуку, уловку, в этот фортель и в это ухищ- рение проник Ньютон, как бы отпер секретный замок. Конечно, люди мало-мальски естественно-научно образованные так не ду- мают, но всё-таки многие и очень многие и из них вполне отреша- ются от ошибочности в понимании выражения „закон природы“, ошибочности, приставшей к нему от его метафорического проис- хождения, и всё ещё приписывают этим законам какое-то таин- ственное, мистическое, объяснительное значение.
В выражении „законы природы“ аналогия, послужившая по- водом к этому метафорическому термину, заключается в сходстве обязательности, замечаемой в известном порядке явлений, с обя- зательностью поступков людей, повинующихся гражданскому за- кону. Но закон гражданский есть нечто и извне обязательное и извне объясняющее характер поступков с ним сообразных. На во- прос, почему вы так-то и так-то поступаете – даётся ответ: потому, что так повелевает закон, – и вы понимаете поступок, т.е. нет ни внешнего повеления, нет ни объяснительной причины, пока так называемый закон природы есть не более как закон. Например, в Европе средним числом рождается 106 мальчиков на 100 девочек. Это называется законом; но кто или что повелевает этому так быть? И где тут объяснение явлению? – ни того, ни другого не видно. То же самое будет и относительно более точных и строгих
 ~ 226 ~
~ 226 ~
законов, например, относительно знаменитых Кеплеровых зако- нов. В первом отношении ясно, что обязательность тут внутрен- няя, а не внешняя. И потому правильнее было бы говорить об обы- чаях, чем о законах природы; потому что обычай в себе самом но- сит свою обязательность. Другое преимущество заключалось бы в том, что исполнение обычая гораздо сильнее обеспечено, чем ис- полнение законов. В самом деле, какой закон исполняется так строго и точно лицами ему подлежащими, как, например, обычай делать визиты на новый год членами общества, признающими это правило? Хотя аналогия была бы полнее и метаформа правильнее, но всё-таки осталась бы метафорой. В сущности же закон природы есть не что иное, как явление или факт не единичный, а известной общности, – общности, могущей распространяться и на очень ма- лое число единичных явлений или фактов, даже всего на два, и на очень большее число их, даже на все. Это будут законы частные и законы общие, между которыми различие только количественное. Все планеты движутся по эллипсам! Что это такое? – это есть об- щее, замеченное в форме всех планетных путей. Велик или мал их эксцентриситет, то или иное взаимное наклонение плоскостей этих путей, во всём этом и во многом другом они могут различе- ствовать – это будут единичные, индивидуальные для каждой пла- неты факты, а эллиптичность орбит есть их закон. Но чем же закон отличается от этих единичных фактов? – Ничем, кроме его общно- сти для всех планет, потому что из него, как из закона, не видно ни причины факта, ни того, что составляет его обязательность, совер- шенно так же, как и в том, что на 100 девочек рождается 106 маль- чиков, как и в том, что при известном роде лихорадки пароксизмы появляются каждый день, – что также для этой лихорадки состав- ляет закон, т.е. общее явление, между тем как многие другие могут быть (и действительно бывают) различными, особенными для каж- дого больного индивидуума. Причины периодичности мы и тут не знаем, в чём и откуда её обязательность, или, лучше сказать, мы самую ту констатированную общность, метафорически называя законом, как бы принимаем за обязательность. Если вместо одних планет мы возьмём все тела нашей солнечной системы, т.е. и ко- меты, мы должны будем сказать, что вообще они движутся по кри- вым, называемым коническими сечениями, к числу коих принад-
 ~ 227 ~
~ 227 ~
лежит и эллипсис. Закон получит бóльшую общность, будучи об- щим явлением для большего числа орбит, но все прочие свойства его не изменяются, ничего он нам по-прежнему не объяснит, и не укажет, чему приписать его обязательность?
Но не только закон природы, всё равно частный или общий, ничего не разъясняет, – он и есть именно то, что преимущественно, даже почти исключительно требует объяснения. Объяснение част- ного, отдельного факта с одной стороны малоинтересно, а с другой
– по большей части невозможно, потому что он зависит от пере- крещивания множества неуловимых причин и обстоятельств. Так, в вышеприведённом астрономическом примере, кто может ска- зать, почему такая-то планета имеет именно такое, а не другое наклонение её орбиты к плоскости? Но эллиптичность всех этих орбит, будучи законом, т.е. общим фактом, с одной стороны и вы- зывает объяснение, требует его, а с другой объяснение это стано- вится возможным, и Ньютоном дано. Это объяснение также назы- вают законом, но совершенно неправильно. Это объяснение за- ключается в гипотезе существования притягательной силы, свой- ственной всякой доле материи и распространяющейся равномерно во все стороны; и объяснение это, заметим, есть метафизическое предположение, как и всякое действительно объясняющее начало, а никак не закон природы. Так же точно: какой интерес и какая возможность объяснить тот единственный факт, что безводная сернистая кислота состоит из 32 частей серы и 32 кислорода, а без- водная серная из 32 же серы, но 48 кислорода? Но если мы найдём, что вообще тела соединяются в немногих простых между собою отношениях и взаимно замещаются в таковых же, т.е. получим об- щий факт, так называемый закон, то явится интерес, и даже при- нудительный интерес, а вместе и возможность объяснения его, как это сделал Дальтон атомистическою гипотезою, т.е. предположе- нием существования мельчайших, абсолютно неделимых частиц, составляющих материю или вещество. Этот предполагаемый ато- мистический состав материй никак не может быть назван законом природы (предполагая даже полную достоверность гипотезы), а так же точно, как и сила притяжения, есть объяснительное начало, и опять-таки метафизическое.
 ~ 228 ~
~ 228 ~
Итак, законы природы суть не что иное, как факты или явле- ния различной степени общности; но именно это-то общее в них и требует объяснения, и, конечно, само себя объяснить не может. То именно, что факты не остаются в своей единичности, а сводятся во всё более и более общие категории фактов и явлений, – это, и только это, собственно, и требует себе объяснения».
Одним словом, и в этом случае повторяется также ошибка ма- териалистов, которая проходит через всё их учение. Они составили себе представление о всесильных законах природы, не проанали- зировав, какую действительно роль играют законы в природе и не позаботившись уже нисколько о каком бы то ни было, хоть малей- шем, доказательстве своего постоянно применяемого представле- ния.
В сущности же говоря, представление «закон природы» должно всецело быть причислено к простым грамматическим ме- тафорам, через посредство которой замаскировано какое-то со- вершенно непонятное и не изученное наукой явление природы. Это явление, природы как раз требовало бы изучения и разъясне- ния, которого наука, не выходя из узких рам позитивизма, дать не может, а следовательно, оно до преобразования программы пози- тивизма останется вечно неизученным.
Однако Бюхнер и Молешотт настаивают на своём и воскли- цают: «Никому непонятно, – говорит Бюхнер в своём Stoff und Kraft, – как вечная, управляющая миром причина может согласо- ваться с неизменными законами. Или законы природы управляют, или вечный ум; вместе им существовать нельзя: между ними были бы постоянные столкновения. Если бы миром управляла вечная мудрость, законы природы были бы излишними; или же, напротив, неизменные законы природы управляют миром, они исключают всякое вмешательство Высшего Разума».
«Если какая-либо личность, с какой-нибудь целью, управляет материей, – говорит – Молешотт, – закон необходимости исчезает в природе. Каждое явление делается достоянием случайности и произвола».
На два эти положения ответить очень легко, тем более, что они сами по себе неверны. С одной стороны, материалисты не хотят
 ~ 229 ~
~ 229 ~
допустить возможности, чтобы Предвечная Мудрость могла со- гласоваться с законами, а с другой стороны они вместе с деистами находят, что идея неизменности и постоянства в природе гораздо более согласуется с идеальным совершенством неведомого Суще- ства, которого мы называем Богом, чем идея изменяемости и про- извола.
Не странно ли утверждать, что постоянство, порядок и гармо- ния, царствующие в природе, составляют признак отсутствия Выс- шего разума? Деисты понимают это в обратном смысле: постоян- ство и мудрость, которую мы видим в законах природы, доказы- вают мудрость в причинах возникновения этих законов; именно эти законы и показывают им Вечный Разум, правящий вселенной. Материалисты же хотят видеть беспорядок и произвол в природе, чтобы признать существование Бога.
Для сравнения возьмём орган. Он прекрасно сделан; все звуки, выходящие из него, удовлетворяют всем законам гармонии и ме- лодии; он совершенно машинально производит самые упоитель- ные мелодии, и, конечно, не может взять ни одной фальшивой ноты, ни одного негармоничного звука. Материалисты нашли бы в этом отсутствие интеллигентной воли строителя его и признали бы её только тогда, когда бы он стал фальшивым.
Разве идея о законе в государстве исключает идею о правите- лях страны? Разве мы не видим опровержения слов материалистов в административном строе каждого государства? Разве каждое государство не имеет столько законов, что, можно сказать, всякий шаг подданных рассчитан и предусмотрен ими и, тем не менее, правителям остаётся ещё достаточно дела при управлении своими странами? Тем более это должно относиться к Управлению Все- ленной.
Мы спросим: Кто дал эти законы природе? Кто устроил эту производительность? Кто дал природе постоянное стремление к развитию и к прогрессу? Кто дал атомам их премудрый строй и способности составлять материю? Материи – силу производить жизнь? Кто выдумал живых существ? И кто дал им их формы и органы, приспособленные к достижению одних и тех же целей? Кто заботится о сохранении неделимых и родов, дав им ткани, ко-
 ~ 230 ~
~ 230 ~
стяную основу, механизм движения и предусмотрительный ин- стинкт? Кто одарил их всеми разнообразными способностями, со- образно назначению своему и тому положению, которое они должны занимать в мире? Одним словом, – если сила жизни од- ного свойства с молекулярной силой, – кто же произвёл её? Не от того ли они отвергают Творца, что Он не произвёл этого, так ска- зать, собственными руками? Зачем хотят сделать они из Бога чер- норабочего, ворочающего атомами, по своему произволу без вся- кого порядка? Ни один мудрый правитель страны никогда не от- ступал от изданных им же самим законов; разбирать же форму управления, принятую Богом для поддержания и хранения своих творений, было бы, во всяком случае, преждевременно, если не со- всем невозможно, человеку, который не может даже познать Его своими слабыми чувствами. Довольно же и того одного, что пра- вильное понимание науки позволяет нам, в настоящее время, с полным убеждением признать, что мир управляем Разумной Во- лей, и это уже шаг громадный, который должен изменить весь взгляд науки как на самого человека, так и на всю вселенную и на все отношения наши ко всей природе. Поэтому совершенно по- нятно, отчего всё истинно учёное человечество, как мы раньше уже видели, люди глубоко и разумно верующие.
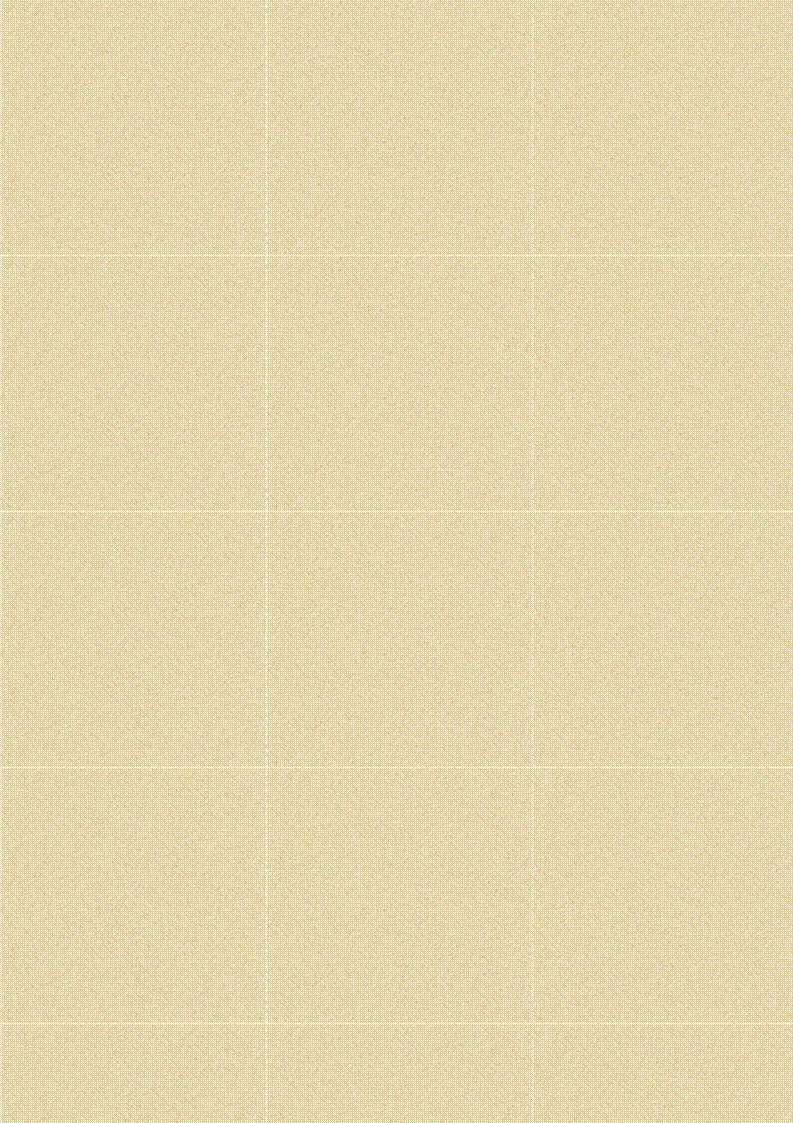 ~ 231 ~
~ 231 ~
 2015-09-06
2015-09-06 330
330








