мунистами, т.е. поскольку коммунисты с Россией, постольку и я с ними...; признаю, что мне судьбы РКП гораздо меньше интересны, чем судьбы России, РКП для меня только звено в истории России;...признаю, что, быть может, я во всем неправ, — но тут-то я хорошо знаю, что иначе, чем я пишу, я писать не могу, не умею, не напишу, если б — и хотел себя изнасиловать: есть литературный закон, который не позволяет, не дает возможности насиловать литературные дарования — даже своим собственным мозгом, — и пример для этого — положение всей нашей современной литературы»219.
Именно этот закон, который оказывается как бы сильнее писателя и лишает его возможности говорить неправду, и приводит его к импрессионистическим эстетическим позициям, лишает его возможности образовать единый идеологический — соцреалисти-ческий — центр в произведении, показать долженствующее вместо сущего — лишает его возможности лгать.
Ложь Пильняк не переносил органически. «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, — ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская»220. Слова, сказанные одним из героев писателя, точно характеризуют позицию самого автора, который в рассказе «Расплеснутое время» (1924) так определил и свое место в искусстве, и место литературы в жизни общества: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией»221.
|
|
|
Принципы типизации (модернистский роман В. Набокова)
Вероятно, самим фактом своего литературного и общекультурного бытия модернистская тенденция в искусстве как бы сдерживала и до определенной степени уравновешивала деятельность антисистемы, воплотившейся в нормативизме. Это противостояние могло быть выражено в явно декларированном социальном

 т Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце//Дружба народов. 1989. № 1. С. 150. 204
т Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце//Дружба народов. 1989. № 1. С. 150. 204
219 Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82-83.
22(1 Дружба народов. 1989. № 1. С. 148.
221 Пильняк Б. Расплеснутое время. М., 1990. С. 73.
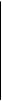
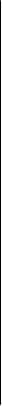
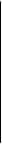 ■■V
■■V
Модернизм
Принципы типизации

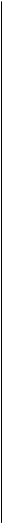
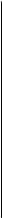
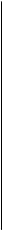
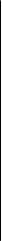
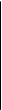
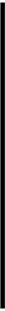 афосе, как это случилось в творчестве Б. Пильняка, в отрицании еких моделей и шаблонов, складывающихся в 20-е годы (любовь к кппине или колбасе, как в «Зависти» Ю. Олеши), в открытой полешке с социальными типами, стремящимися к гегемонии («Собачье ердце» М. Булгакова). Но это противостояние могло выливаться и в юрмы крайнего аполитизма, в формы решительного общественно-> песлужения, ставшего пафосом творчества В. Набокова.
афосе, как это случилось в творчестве Б. Пильняка, в отрицании еких моделей и шаблонов, складывающихся в 20-е годы (любовь к кппине или колбасе, как в «Зависти» Ю. Олеши), в открытой полешке с социальными типами, стремящимися к гегемонии («Собачье ердце» М. Булгакова). Но это противостояние могло выливаться и в юрмы крайнего аполитизма, в формы решительного общественно-> песлужения, ставшего пафосом творчества В. Набокова.
Но при всей разности творческих позиций модернистов, мы 1ожсм говорить о некой общей черте модернистской литературы, о'шолившей ей встать в оппозицию к соцреализму. Суть в том, го модернизм предложил литературе совершенно иные принци-м восприятия человеческой личности и окружающего ее мира. 1одернизм создал как бы иной контекст бытия, и личность в этом онтексте обрела совершенно иные контуры. Это оказалось воз-южным благодаря новым для литературы принципам художествен-ОЙ типизации.
|
|
|
Один из героев романа В. Набокова «Король, дама, валет» удач-ивый и талантливый предприниматель по фамилии Драйер ми-олетно увлечен созданием искусственных манекенов, способных, цнако, двигаться почти как живые люди. «В тишине был слышен иг кий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: ужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под ышкой, — и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало <учно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались 1ишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, — сосредо->ченное и приторное выражение, которое он видел уже много раз. онечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и яг ко сработаны, — и все-таки от них теперь веяло вялой скукой, — обенно юноша в штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что >лодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна I них — в смокинге — смущенно замедлила шаг, устали и две другие, I движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от устало-и, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером 1мер посреди сцены, — хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как 'Д'о прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих со-ем. Изнеможение. Молчание»222.
Этот малозначительный, казалось бы, эпизод очень показате-|| не только для творчества В. Набокова, но и для нереалистичного модернистского романа вообще. Суть в том, что его глав-
ной чертой является отсутствие характера в традиционном смысле этого слова. Перед нами не столько характер, сколько... манекен, кукла, своего рода автомат, литературным провозвестником которого был Э.-Т.-А. Гофман. Главным и единственным характером в таком романе оказывается характер... самого автора, герои же — в явно подчиненном положении, они мыслятся не как самостоятельные образы, наделенные собственной волей, неповторимой индивидуальностью, но как исполнители воли авторской, даже самой причудливой и нереальной. В результате персонажи являют собой не столько характер, сколько эмблему, реалистический критерий их оценки просто неприемлем.
Набоков очень редко давал интервью, но несколько исключений он все же сделал. Одно из них — интервью, данное своему университетскому ученику А. Аппелю в 1966 г. Понимая невозможность подойти к героям писателя с традиционных реалистических позиций, ученик задает своему учителю наивный и в то же время каверзный вопрос:
— Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в
некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось
ли с Вами подобное?
Набоков не заставил себя ждать в опровержении этой удивительной черты реалистического романа, когда герой как бы оживает под авторским пером, начинает действовать как бы самостоятельно, эмансипируясь от авторской воли:
— Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми про
исходит такое, — это или писатели очень второстепенные, или вообще
душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем со
знании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал.
В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность
и прочность отвечаю я один.
В самом деле, у Набокова начисто отсутствует доверие к герою, к художественному образу, характеризующее русский реалистический роман. Его герои лишены самых, казалось бы, естественных человеческих эмоций, а если и наделены ими, то в пародийной форме. Это заметили еще первые критики его творчества: «Лолита», например, роман о любви, но любви-то там как раз и
|
|
|
" Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 271.
223 Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы. 1988. №10. С. 168.
Модернизм
Принципы типизации

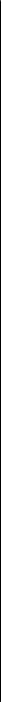
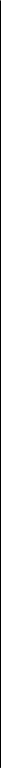
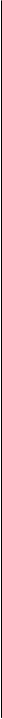
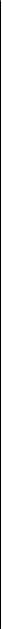 нет — есть болезненная, скорее, физиологическая и психопатическая страсть, нежели духовное парение. В ситуации любви его герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными, как гроссмейстер Лужин, как герой рассказа «Подлец», а женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь», героиня романа «Камера обскура»).
нет — есть болезненная, скорее, физиологическая и психопатическая страсть, нежели духовное парение. В ситуации любви его герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными, как гроссмейстер Лужин, как герой рассказа «Подлец», а женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь», героиня романа «Камера обскура»).
В отношении Набокова к своим героям сказались не только элементы модернистской эстетики, но и черты характера самого автора: индивидуализм, возведенный в жизненный принцип, желанное творческое и личное одиночество как следствие презрения к подавляющему большинству живших и живущих, неприятие соседства в любых его формах: от соседства в лифте или в трамвае, от которого страдает Ганин в «Машеньке» или Годунов-Чердын-цев в «Даре», — до неприятия соседства литературного, подчас болезненно воспринимаемого самим Набоковым. Отсюда же недоверие простым и естественным человеческим чувствам, таким как любовь (любовь у героев Набокова как-то своеобразно вывернута и, в сущности, искалечена), активное неприятие женского начала — от «Лолиты» до «Защиты Лужина». В результате в творчестве Набокова происходит разрушение традиционного реалистического характера, что является вообще характерной чертой модернистского романа. Обусловлена она принципами мотивации человеческого характера, принципиально различными для модернизма и реализма.
Довольно долго в наших работах бытовало мнение, что в отличие от героя реалистического романа, сознание которого детерминировано социальной и общекультурной средой, герой модернистской литературы не мотивирован ничем. Разумеется, это не так. Герой модернистского романа тоже детерминирован, но эти мотивации — совсем иной, нереалистической природы. В чем же их суть, каковы они?
|
|
|
Если мы с этой точки зрения посмотрим на роман Набокова «Приглашение на казнь», то увидим, что все драмы главного героя Цинцинната Ц. происходят от его... непрозрачности. В мире, где живет Цинциннат, прозрачны все, кроме него. «С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковенное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной систе-
ме как бы оптических обманов...»224. Что означает эта странная и скрываемая к тому же от других «непрозрачность» героя? Некая метафора, объясняющая трагедию человека, лишенного в тоталитарном обществе права «непрозрачности», права внутренней жизни, сокрытого индивидуального бытия? Возможно, и так — но лишь такой трактовкой нельзя объяснить главную сюжетообразу-ющую метафору романа — метафору непрозрачности, приведшую героя к тюрьме и страшному приглашению на казнь. Метафора модернистского романа в принципе неисчерпаема, несводима к однозначному, эмблематичному толкованию. И пусть Цинциннат Ц. не настоящий (в традиционном, реалистическом смысле) характер. Ему не присуща сложность героя романа М. Шолохова или М. Горького, его мотивации лежат не в сфере социально-исторического процесса, трагические разломы которого пришлись на судьбу Клима Самгина или Григория Мелехова. Но будучи определен всего лишь единственной своей чертой — непрозрачностью в прозрачном, проникнутом солнцем светлом мире — Цинциннат не менее сложен, чем герои реалистической литературы. Пусть его движения похожи на поступь тех самых манекенов, от которых устал Драйер, но понять и определить его суть раз и навсегда, однозначно — в принципе невозможно. Просто сложность его совсем иная и состоит в другом.
Проблема мотивации характера приобретает иногда ироническую окраску. Так, Шариков из «Собачьего сердца» М. Булгакова «детерминирован» скальпелем профессора Преображенского, а реальные обстоятельства социальной действительности, породившие этот и подобные ему типы, не исследуются. Из этого вовсе не следует, что Шариков нетипичен. Он как раз очень типичен и широко укоренен не только в 20-х годах, но и в современности. Это говорит лишь о том, что модернистская литература способна не менее чутко отражать социальные типы, чем реалистическая. Нарочитое снижение мотивации характера можно увидеть в романе Ю. Олеши «Зависть»: Андрей Бабичев, новый делец, бизнесмен социалистической формации, детерминирован... вкусной и дешевой колбасой, которая становится целью его личного и социального бытия. Он строит «Четвертак», быструю, вкусную, дешевую общественную кухню, где всего за четвертак можно будет пообе-
224 Набоков В. В. Приглашение на казнь//В. В. Набоков. Избранные произведения. М., 1989.
14 - 4063
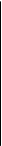 Модернизм
Модернизм
Принципы типизации


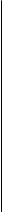
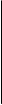

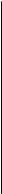
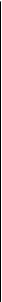
 дать. В каждом из героев «Зависти» гротескно заостряется какая-то одна черта: Бабичев любит колбасу так поэтично, как можно любить только женщину, его приемный сын Володя Макаров объясняется в любви к машине, Иван Бабичев неразлучен с подушкой, которая воплощает мир интимных, семейных отношений. Все эти детали выступают началом, формирующим гротескный характер. Суть в том, что модернистский роман предложил литературе совсем иную концепцию личности, чем роман реалистический. Это не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств. Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой характера (а она вообще может отсутствовать, персонаж модернистского романа может быть совершенно алогичен), сколько полной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Герой набоковского романа полностью «бесправен» и абсолютно зависим, никакой диалог на равных между голосом автора и героя, как, например, в полифоническом романе Достоевского, в принципе невозможен.
дать. В каждом из героев «Зависти» гротескно заостряется какая-то одна черта: Бабичев любит колбасу так поэтично, как можно любить только женщину, его приемный сын Володя Макаров объясняется в любви к машине, Иван Бабичев неразлучен с подушкой, которая воплощает мир интимных, семейных отношений. Все эти детали выступают началом, формирующим гротескный характер. Суть в том, что модернистский роман предложил литературе совсем иную концепцию личности, чем роман реалистический. Это не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств. Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой характера (а она вообще может отсутствовать, персонаж модернистского романа может быть совершенно алогичен), сколько полной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Герой набоковского романа полностью «бесправен» и абсолютно зависим, никакой диалог на равных между голосом автора и героя, как, например, в полифоническом романе Достоевского, в принципе невозможен.
Это происходит потому, что характеры модернистского рома-па мотивированы совершенно иначе, чем в реалистической литературе. Если драма Цинцинната Ц. мотивирована его непрозрачностью («Приглашение на казнь»), вся жизнь, все сознание и мироощущение Гумберта Гумберта — страстью к девочке-подростку («Лолита»), то характер гроссмейстера Лужина («Защита Лужина») сформирован логикой шахматной игры, которая заменила ему реальность. Первой и истинной действительностью для него является пространство шестидесяти четырех клеток.
В подобных принципах мотивации характера проявляется важнейшая черта концепции человека, предложенной русским модернистским романом XX в. Отношения между героем и действительностью оказываются искривленными и алогичными. Герой, вглядываясь в реальную жизнь, будь то жизнь социальная или сугубо частная, пытается постигнуть ее — и не может сделать этого. Возникает характерный мотив бегства от враждебного, чуждого, алогичного мира. Поэтому защита, которую пытается выработать Лужин, направлена не только на организацию противодействия а гаке белых фигур, но и на противодействие реальности, пугающей и отталкивающей, втягивающей в себя каждого человека без изъятия — даже вопреки его воле.
Здесь возникает закономерность, осмысленная литературой XX в. Если герой классической литературы мог уйти от взаимодействия 210
с историческим временем, как это с успехом делают, например, герои «Войны и мира» Берги, Курагины, Друбецкие, и лишь немногим удается совместить опыт своей частной жизни с большим временем истории, то для литературы XX в., начиная с Горького, вовлеченность каждого в круговорот исторических событий является фактом непреложным. В этом — отражение самого века, и у Набокова эта закономерность выявляется ни с чуть не меньшей остротой и драматизмом, чем в реалистическом романе Горького. Мало того, это становится своего рода эстетическим принципом романного жанра в русской литературе нашего века.
Вспомним еще раз, как, размышляя о композиции своего будущего романа, отец Лужина, посредственный писатель, формулирует, тем не менее, эстетический принцип жесткой и далеко не всегда желанной взаимосвязи личности и исторического процесса. «Теперь, почти через пятнадцать лет, — размышляет он в эмиграции, — эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения... С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя»225.
Однако именно к этому стремится шахматист Лужин: остаться вне действительности, не заметить ее, подменить гармонию жизни гармонией шахматных ходов. Реальность: мир, свет, жизнь, революция, война, эмиграция, любовь — перестает существовать, смятая, вытесненная, разрушенная атакой белых фигур. Мир обращается в мираж, в котором проступают тени подлинной шахматной жизни гроссмейстера Лужина: в гостиной на полу происходит легкое ему одному заметное сгущение шахматных фигур — недобрая дифференциация теней, а далеко от того места, где он сидит, возникает на полу новая комбинация. Происходит своего рода редукция действительности: гармония природы вытесняется гармонией неизбежных и оптимальных ходов, обеспечивающих великолепную защиту в игре с главным противником Лужина гроссмейстером Турати, и игра теряет свои очертания, превращается в
225 Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 43-44.
Модернизм
Композиция модернистского романа...
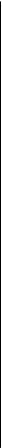

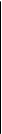
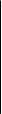
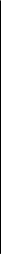
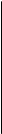
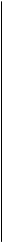

 саму жизнь, все более и более напоминающую сложнейший и исполненный драмами мир шестидесяти четырех клеток. Объясняясь СО своей любимой, «он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что ной липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот (елеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил»226.
саму жизнь, все более и более напоминающую сложнейший и исполненный драмами мир шестидесяти четырех клеток. Объясняясь СО своей любимой, «он сидел, опираясь на трость, и думал о том, что ной липой, стоящей на озаренном скате, можно, ходом коня, взять вон тот (елеграфный столб, и одновременно старался вспомнить, о чем именно он сейчас говорил»226.
«Защита Лужина» — сложный роман-метафора, насыщенный множеством смысловых оттенков. Это шахматная защита черных фигур перед сокрушительной атакой белых. Но это и защита, вернее, безуспешные поски этой защиты, от разрушительного натиска действительности, стремление отгородиться от непонятного и страшного мира шахматной доской, свести его законы к законам коней, королей, пешек. Увидеть в хитросплетениях жизни комбинации фигур, повтор разнообразнейших сочетаний.
И жизнь принимает законы шахмат, навязанные ей гроссмейстером Лужиным, — но тем страшнее месть действительности за попытку уйти, спрятаться в келье турнирного зала. Истерзанный и раздавленный схваткой с Турати, герой Набокова бросает шахматы, — но реальность, это некое мистическое для модерниста начало, уже не принимает правил игры иных, чем те, что были ей навязаны ранее, и Лужин вдруг с ужасом замечает в самых обычных, бытовых, казалось бы, вещах и событиях неудержимую атаку реальной жизни, с неумолимым повторением в ней шахматных \одов, с неумолимой математической логикой игры, которая, являясь суррогатом мира, не прекращалась ни на минуту. И против •той атаки защита Лужина оказалась бессильной! «Игра? 1-Аы будем играть?» — с испугом и ласково спрашивает жена за несколько минут до самоубийства Лужина, не подозревая об этой нескончаемой, изматывающей игре своего мужа, затеянной им против самой действительности. И положение человека, вступившего в эту игру, трагично: Набоков находит великолепный образ, чтобы показать эту трагедию: в жизни, во сне и наяву «простирались все те же шестьдесят четыре квадрата, великая доска, посреди которой, дрожащий и совершенно голый стоял Лужин, ростом с пешку, и вглядывался а неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных». Так выглядит у писателя человек, который не в силах всту-пи 11. в диалог с действительностью, понять и принять ее, запутанную как никогда. Набоков таким образом подходит к той пробле-
матике, что была осмыслена Горьким в четырехтомной эпопее «Жизнь Клима Самгина», самом сложном и загадочном его романе. В обоих случаях в центре оказывается герой, страшащийся жизни, бегущий от нее, стремящийся спрятаться от тлетворных влияний действительности — за «системой фраз», как Самгин, за шахматной доской, как Лужин...
Разумеется, Лужин не Самгин, он по-детски откровенен и беспомощен, он по-детски предан игре. Эти герои сталкиваются с совершенно разными жизненными историческими ситуациями и на совершенно различных основаниях приходят к отторжению действительности. Но в типологическом, отвлеченном плане совпадения есть.
Композиция модернистского романа: «Египетская марка» О. Мандельштама
Объясняя исторические и эстетические закономерности организации прозаического текста по законам импрессионистической эстетики, Мандельштам писал: «Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся — ткань, морфология»227. В этой статье, опубликованной в 1922 г., Мандельштам иронизирует над такими складывающимися чертами импрессионистической прозы, как эклектизм, отсутствие сюжетной организации текста, а главное — непроявленность авторской поэзии: «Проза ничья. В сущности, она безымянна». В поэтике романа Б. Пильняка, которая осознавалась как наиболее характерная для новой русской прозы, претендующая на господство, Мандельштам не принимает прежде всего особого, чисто «пильняковского» типа взаимоотношений автора и действительности: «редукцию» образа автора, затушевывание повествователя, лишение его активной роли в сюжете, права на вторжение в текст, отсутствие прямого, а то и косвенного выражения
''" Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 56.
227 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фабулы//0. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987. С. 199.
■■■
Модернизм
Композиция модернистского романа...


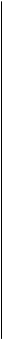

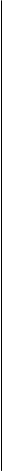

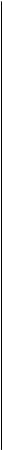
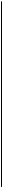

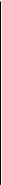
 в шорской позиции. Мандельштама не устраивает, в первую очередь, то, что Пильняк отказывается от введения в повествование единого идеологического центра — четко выраженной в образе повествователя авторской позиции (в импрессионистическом романе дистанцированность позиции автора от позиции повествователя маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т.е. собиратеями... Всякий настоящий прозаик — именно жлектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. — Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе...
в шорской позиции. Мандельштама не устраивает, в первую очередь, то, что Пильняк отказывается от введения в повествование единого идеологического центра — четко выраженной в образе повествователя авторской позиции (в импрессионистическом романе дистанцированность позиции автора от позиции повествователя маловероятна). «Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, т.е. собиратеями... Всякий настоящий прозаик — именно жлектик, собиратель, — размышляет поэт-акмеист. — Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе...
Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип бе илмянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид»228.
Такая роль — роль скромного фараонова надсмотрщика за возведением гигантских социальных пирамид — никак не устраивала Мандельштама. В романе «Египетская марка» он создает такой вариант импрессионистической эстетики. В ней сознание повествователя оказывается не только способом организации повествования, единственным стержнем которого являются причудливые ассоциативные связи, но и идеологическим центром, с активно выраженной этической и нравственной позицией художника.
Жанровое определение «роман» с трудом подходит к «Египетской марке»: разорванность композиции, чередование ярких цветовых мазков, мелькание эпизодов петербургской улицы и домашней жизни, хаоса иудейства и гармонии европейской столицы, подчиненное ассоциативным связям воспринимающего сознания, — все эти непременные элементы импрессионистической по-этики, скорее, затрудняют проявление романического аспекта жанрового содержания, связанного с изображением частной судьбы личности, развернутой во временном потоке. И все же есть основания говорить о «Египетской марке» как о романе: предметом изображения здесь является воспринимающее сознание, что объясняет близость композиционной структуры романического текста к поэтическим принципам организации повествования: судьба личности, ее частная жизнь раскрывается не в сюжете, но в ассоциа-гивных сцеплениях субъективной памяти повествователя — автора — главного героя.
Говорить о дистанции между позицией автора и повествователя не приходится (повествователь прямо, декларативно выражает авторские взгляды), дистанция же между автором и героем, Пар-ноком, еврейским мальчиком в лакированных ботинках, которого не любят городовые, учителя, молоденькие девушки, товарищи по учебе, трудно уловима и для самого Мандельштама: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него»229. Такая неопределенность отношений между повествователем и героем (они все время как бы сливаются в тексте романа) определена схожестью их нравственных позиций, неприятием насилия и убийства (сцена самосуда, еврейского погрома, безрезультатная попытка спасти обреченного), отношением к Петербургу, к книжной культуре, театру.
Личностная субъективность как важнейший эстетический принцип организации как поэтического, так и прозаического текста открыто декларируется Мандельштамом, причем подробно обосновывается необязательность и случайность композиционных сочленений фрагментов текста, его лоскутность и мозаичность, обусловленная единственно прихотью воспринимающего сознания. Мировоззрение художника-импрессиониста, по мысли повествователя, основывается на принципиальном неразличении жизни и литературы, на их свободном перетекании друг в друга; между тем и другим нет четкой границы, а потому жизнь можно читать как книгу, а писать книгу так же просто и сложно, как жить. Категории литературы переносятся в повседневное бытие. «Страшно подумать, — размышляет герой, — что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнционного бреда.
Розовоперстая аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как прянчики, с пустыми, разинутыми клювами. Между тем, во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда.
Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар; когда все они радостно возбуждены и больны: рогатки на улице, шелу-шенье афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без вожака, рожденное для сонатных беспамятств, и кипяченой воды...
 2013-12-28
2013-12-28 687
687








