215 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции сти
ля в новом искусстве. М.; Л., 1930. С. 25-26.
216 Там же.
217 Иоффе И. Культура и стиль: Система и принципы социологии искусств Л
1927. С. 260-261.
рых, принципиальная неразделенность на важное и второстепенное; в-третьих, наличие словесных мазков, сочетание словесных рядов, внутренне не связанных между собой, но окрашивающих друг друга; в-четвертых, употребление коротких фраз, не требующих логического членения; в-пятых, разработка эпитета сложных и утонченных оттенков, свободного от привычных и логических признаков вещи.
Признаки «импрессионистической техники», о которых говорит И. Иоффе, характеризуют поэтику Б. Пильняка и обусловлены не прихотью и не вычурностью, свойственной индивидуальности писателя, но спецификой его мироощущения, важнейшими для него эстетическими принципами, в конечном итоге, проблематикой его произведений, самой действительностью, представшей перед художником именно такими своими граняи.
|
|
|
«Разломанность» и фрагментарность композиции «Голого года» обусловлена отсутствием в романе такой точки зрения на происходящее, которая могла бы соединить несоединимое для Пильняка: кожаные куртки большевиков и разгул русской вольницы, Китай-город и деревенскую баню, где солдатка награждает сифилисом случайного встречного. Только наличие такой композиционной точки зрения, в которой был бы выражен идеологический центр произведения, своего рода система координат, способная объединить и объяснить явления, расположенные Пильняком в эпическом пространстве его произведения, могло бы сделать композицию более стройной, сложить разрозненные фрагменты повествования в некий ряд. Такой идеологический центр предполагает литература социалистического реализма, поэтому элементы модернистской поэтики достаточно редки в произведениях, принадлежащих этому творческому методу, составляют, скорее, исключения.
Отсутствие подобного идеологического центра, который предопределил бы объективную, единственно возможную взаимосвязь фрагментов бытия, запечатленных Пильняком, как бы компенсируется наличием в повествовании множества точек зрения на происходящее, свести и соединить которые не представляется возможным. Их наличие еще более подчеркивает несвязанность и разрушенность общей картины мира, представленной в «Голом годе». В «Необходимом примечании» к «Вступлению» прямо формулируется стремление связать распадающуюся на глазах действительность несколькими точками зрения — и объективную невозможность сделать это. «Белые ушли в марте — и заводу март. Городу же (горо-
|
|
|
Модернизм
Импрессионистические тенденции

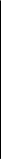
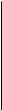
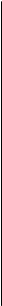 ду Ордынину) — июль, и селам и весям — весь год. Впрочем, — каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду. — Донат Ратчин — убит белыми: о нем — все». (Вспомним мысль И. Иоффе: «Личность интересна в пределах данного мгновения, и не более».) В коротком и, казалось бы, совершенно бессмысленном «необходимом примечании» выражена не только эстетическая система Пильняка, но и суть его взгляда на мир, суть его творческой концепции мира и человека.
ду Ордынину) — июль, и селам и весям — весь год. Впрочем, — каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и таежевские заводы — рядом и за тысячу верст отовсюду. — Донат Ратчин — убит белыми: о нем — все». (Вспомним мысль И. Иоффе: «Личность интересна в пределах данного мгновения, и не более».) В коротком и, казалось бы, совершенно бессмысленном «необходимом примечании» выражена не только эстетическая система Пильняка, но и суть его взгляда на мир, суть его творческой концепции мира и человека.
Мир разрушен и противоречив: пространственные отношения обнаруживают свою несостоятельность или, в лучшем случае, относительность (город и заводы «рядом и за тысячу верст отовсюду»); традиционная логика, построенная на причинно-следственных связях, нарочито взорвана. Выход в том, чтобы каждому герою предложить собственную точку зрения на этот смятый и алогичный мир: «Каждому — его глазами, его инструментовка и его месяц». Однако разрозненные точки зрения не в состоянии соединить фрагменты действительности в цельную картину. Общий идеологический центр рассыпался, образовывал множество точек зрения, множественность позиций, которые в художественном мире «Голого года» составляют неразрешимое уравнение, не сводимое к какой-либо целостности.
Мир предстал перед художником алогичным, разорванным, не сложившимся в общую картину; такое видение мира определило поэтику его романа, стилистику, ориентированность на принципы орнаментальной прозы. В конечном итоге, такое восприятие действительности определило важнейшие принципы эстетической системы Пильняка, которую можно назвать импрессионистической.
Важнейшей чертой этой системы явился отказ от реалистических принципов типизации. Реализм как творческий метод предполагает детерминизм, более или менее жесткую связь событий, явлений, характеров, обстоятельств. Важнейшей, конститутивной чертой импрессионизма 20-х годов явился как раз принципиальный отказ от детерминизма. Найти ту точку зрения, которая могла бы объяснить переходное состояние мира, каким-то образом организовать хаос, оказалось невозможным. Обстоятельства уже неспособны сформировать характер. Они предстали как несоединенные какой-либо логической связью, как разрозненные фрагменты действительности.
Отсутствие социального детерминизма ведет к тому, что в характерах утверждается иной детерминационный центр, лежащий 200
не вне героя, не в сфере его социальных, личностных и межличностных связей, носящих локальный или же глобальный характер, но в самой личности героя. Этим объясняется тот факт, что импрессионистическая эстетическая система 20-х годов обнаруживает столь очевидное тяготение к элементам натурализма, физиологические инстинкты в наиболее явном и неприкрытом виде, ибо они практически не обузданы социальными связями человека, культурой, воспитанием, оказываются одной из важнейших сфер детерминации героя и целых масс людей. Примером здесь может служить эпизод из пятой главы Части третьей триптиха (самой темной), повествующей о прохождении через станцию «Разъезд Мар» поезда номер пятьдесят седьмой смешанный, «забитого людьми, мукой и грязью», в котором «в теплушках, где люди сидят и стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат».
Еще раз подчеркнем: в данном случае натуралистические элементы, их конструктивное, репрезентативное значение для импрес-сионистичекой эстетической системы объясняется не случайностью, не эпохой, не раскрепощением личности и т.д., но принципами типизации, характерной для этой литературы. Предопределенность характера видится не в типических обстоятельствах, сколь угодно широко или же узко трактуемых, но в самой личности. Смена глобального, эсхатологического масштаба, как понимается революция в начале 20-х годов, девальвирует культурные, нравственные и прочие основания личности, обнажая «естественные начала», пол, главным образом.
|
|
|
В той импрессионистической картине мира, которую создал в «Голом годе» Б. Пильняк, как бы намечается хотя бы гипотетическая возможность синтеза фрагментов действительности, попавших в поле зрения писателя. Точкой зрения, дающей подобную перспективу, оказывается точка зрения большевиков, хотя она и явно непонятна писателю. «В доме Ордыниных в исполком (не было на оконцах здесь гераней) — собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности — отбор. В кожаных куртках — не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили — и баста».
Но знаменитые «кожаные куртки» Пильняка тоже были лишь импрессионистическим образом. Собирательность портрета, его нарочитая, принципиальная овнешненность, только лишь и воз-
Модернизм
Импрессионистические тенденции
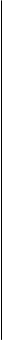
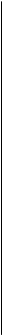
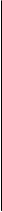
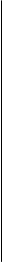 можная в данной эстетической системе, подчеркивание решимости как единственной доминанты характера не могли сделать точку зрения «кожаных курток» тем идеологическим центром, который скрепил бы повествование, синтезировал разрозненные картины действительности. Если бы их точка зрения стала доминирующей то конфликт между ними и обывателями, частными жителями' мужиками и бабами, был бы освещен так же, как в «Неделе» Ю. Либединского. Отсутствие этого идеологического центра и является той принципиальной гранью, которая отделяет эстетику социалистического реализма от импрессионистической системы Именно этот идеологический центр и формирует принцип нормативности. Именно поэтому соцреализм оказался столь питательной почвой для антисистемной идеологии, которая, сполна реализовав себя в рамках эстетики нормативизма, так и не смогла воплотиться в модернизме. Идеологический центр, способный подчинить себе общую художественную концепцию мира и человека, ему чужд в принципе. Особенно ярко эта чуждость проявилась в импрессионистическом художественном мире Б. Пильняка. Характерно, что преклонение и страх перед несгибаемой волей боьшевиков проявятся не только в «Голом годе», но будут характерны и для последующих произведений Пильняка. В «Повести непогашенной луны», сыгравшей роковую роль в жизни писателя, профессор Лозовский, один из хирургов, которому предстоит оперировать командарма Гаврилова, говорит своему коллеге Ко-косову:
можная в данной эстетической системе, подчеркивание решимости как единственной доминанты характера не могли сделать точку зрения «кожаных курток» тем идеологическим центром, который скрепил бы повествование, синтезировал разрозненные картины действительности. Если бы их точка зрения стала доминирующей то конфликт между ними и обывателями, частными жителями' мужиками и бабами, был бы освещен так же, как в «Неделе» Ю. Либединского. Отсутствие этого идеологического центра и является той принципиальной гранью, которая отделяет эстетику социалистического реализма от импрессионистической системы Именно этот идеологический центр и формирует принцип нормативности. Именно поэтому соцреализм оказался столь питательной почвой для антисистемной идеологии, которая, сполна реализовав себя в рамках эстетики нормативизма, так и не смогла воплотиться в модернизме. Идеологический центр, способный подчинить себе общую художественную концепцию мира и человека, ему чужд в принципе. Особенно ярко эта чуждость проявилась в импрессионистическом художественном мире Б. Пильняка. Характерно, что преклонение и страх перед несгибаемой волей боьшевиков проявятся не только в «Голом годе», но будут характерны и для последующих произведений Пильняка. В «Повести непогашенной луны», сыгравшей роковую роль в жизни писателя, профессор Лозовский, один из хирургов, которому предстоит оперировать командарма Гаврилова, говорит своему коллеге Ко-косову:
|
|
|
— А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, —
«прикажете раздеваться? — я, видите ли, считаю операцию излишней', —
но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и
место, куда я должен явиться для операции». — Точно и коротко.
— Да-да-да, батенька, знаете ли, — большевик, знаете ли, ничего не
поделаешь, — сказал Кокосов.
Можно предположить, что в «Повести непогашенной луны» Пильняк предпринимает попытку выйти и за рамки импрессионистической художественной системы. Это возможно сделать вписав фрагменты действительности («мазки») в единый контур сюжет, систему событий, идеологический центр. Таким идеологическим центром в повести предстает образ негорбящегося человека Именно он, сидящий ночами в своем кабинете, противостоит живой и естественной жизни: «... в кино, в театрах, варьете, в пабах и пивных толпились тысячи людей, <...> шалые автомобили жрали улич-202
ные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей, <...> в театрах, спутав время, пространство и страны, небывалых греков, ассиров, русских и китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими способами заставляли зрителей неистовствовать и рукоплескать». Этой манере изображения действительности, нарисованной яркими, не связанными друг с другом, наложенными друг на друга мазками противостоит мир трезвых дел и расчета, мир негорбящегося человека. Все в этом мире подчинено строгому контуру: «Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой».
В двух приведенных цитатах Б. Пильняк нарочито сталкивает импрессионистическую и «контурную» картины действительности. Побеждает последняя. Стремясь внести в свой художественный мир некое организующее начало, способное собрать разрозненные картины бытия в нечто целостное, единое, Пильняк почти фатально приходит от кожаных курток, в делах и планах которых ему виделась перспектива преодоления хаоса, к образу негорбящегося человека. Этот герой, как бы возвысившись над художественным миром повести, накладывает на живую жизнь жесткий контур, схему, как бы обездвиживая ее, лишая внутренней, пусть и хаотичной, свободы. Этот конфликт выражен не только на уровне сюжета, в страшной судьбе командарма Гаврилова-Фрунзе, но и на уровне поэтики, где импрессионизм сталкивается с сюжетом-схемой, разноцветные парящие мазки — с серым контуром. Найдя организующий идеологический центр, Пильняк ужаснулся ему, не принял, оттолкнул от себя, оставшись в своих последующих вещах в рамках импрессионистической поэтики, в том же «Красном дереве». Художественный мир Б. Пильняка при всей своей внешней аморфности, фрагментарности, случайности был отражением течения живой жизни, взрытой трагическими историческими перипетиями русской действительности 10-20-х годов. Художник не принимал, отвергал «контур», мертвящую схему, кому бы она ни принадлежала — кожаным курткам или же негорбящемуся человеку.
Творческий эксперимент по введению контура в импрессионистическую эстетическую систему дорого стоил Пильняку. Лишь такая внутренне конфликтная поэтика могла обнажить поэтическую суть произведения: «В обвинении Сталина в злонамеренной отправке Фрунзе на ненужную операцию, приведшую к его смер-
Модернизм
Принципы типизации


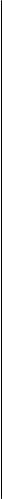
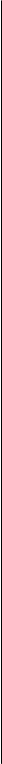
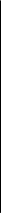
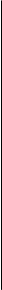 ти, никакой путаницы нет. Обвинение достаточно прямое и ясное. Не случайно в 37-м году Борису Пильняку инкриминировалось «Красное дерево», а о «Непогашенной луне» не было сказано ни слова: предпочли не узнавать действующих в ней лиц»218.
ти, никакой путаницы нет. Обвинение достаточно прямое и ясное. Не случайно в 37-м году Борису Пильняку инкриминировалось «Красное дерево», а о «Непогашенной луне» не было сказано ни слова: предпочли не узнавать действующих в ней лиц»218.
Импрессионистическая поэтика, в наибольшей степени близкая Пильняку в 20-е годы, давала ему возможность уйти от той функции литературы и искусства вообще, которая все более и более становилась свойственной нормативизму, которая все более и более способствовала перерождению реалистической эстетики в нормативную. Модернизм обладал своего рода эстетической несовместимостью с нормативизмом: поэтому Пильняку было в принципе недоступно моделировать действительность, показывать ее не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть — поэтому внедрение любого идеологического центра в композиционную и идеологическую структуру произведения было в принципе невозможно. Идея долженствования и нормативности, характерная для социалистического реализма, ориентация на некий идеал, который когда-нибудь осуществится, осмыслялась им в искусстве как ложная и противоречащая художественной правде, следовательно, основным задачам искусства: запечатлеть время во всем его многообразии, противоречивости, случайностях, которые, тем не менее, составляют более верную картину бытия, чем художественное воплощение некой идеальной модели, долженствующей быть, в ее столкновении с реальной жизнью, где последняя трактуется как низменная и обывательская. Такое искусство Пильняк почитал ложным.
«Вот чего я не признаю, — говорил он. — Не признаю, что надо писать захлебываясь, когд пишешь об РКП, как делают очень многие, особенно квази-коммунисты, придавая этим нашей революции тон неприятного бахвальства и самохвальства, — не признаю, что писатель должен жить «волей не — видеть», или попросту, врать, а вранье получается, когда не соблюдена статическая какая-то пропорция... я — не коммунист, и, поэтому, не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по коммунистически, — и признаю, что коммунистическая власть в России определена — не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум'мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с ком-
мунистами, т.е. поскольку коммунисты с Россией, постольку и я с ними...; признаю, что мне судьбы РКП гораздо меньше интересны, чем судьбы России, РКП для меня только звено в истории России;...признаю, что, быть может, я во всем неправ, — но тут-то я хорошо знаю, что иначе, чем я пишу, я писать не могу, не умею, не напишу, если б — и хотел себя изнасиловать: есть литературный закон, который не позволяет, не дает возможности насиловать литературные дарования — даже своим собственным мозгом, — и пример для этого — положение всей нашей современной литературы»219.
Именно этот закон, который оказывается как бы сильнее писателя и лишает его возможности говорить неправду, и приводит его к импрессионистическим эстетическим позициям, лишает его возможности образовать единый идеологический — соцреалисти-ческий — центр в произведении, показать долженствующее вместо сущего — лишает его возможности лгать.
Ложь Пильняк не переносил органически. «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, — ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская»220. Слова, сказанные одним из героев писателя, точно характеризуют позицию самого автора, который в рассказе «Расплеснутое время» (1924) так определил и свое место в искусстве, и место литературы в жизни общества: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией»221.
Принципы типизации (модернистский роман В. Набокова)
Вероятно, самим фактом своего литературного и общекультурного бытия модернистская тенденция в искусстве как бы сдерживала и до определенной степени уравновешивала деятельность антисистемы, воплотившейся в нормативизме. Это противостояние могло быть выражено в явно декларированном социальном

 т Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце//Дружба народов. 1989. № 1. С. 150. 204
т Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце//Дружба народов. 1989. № 1. С. 150. 204
219 Пильняк Б. Отрывки из дневника. С. 82-83.
22(1 Дружба народов. 1989. № 1. С. 148.
221 Пильняк Б. Расплеснутое время. М., 1990. С. 73.
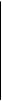
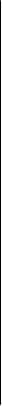
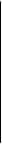 ■■V
■■V
Модернизм
Принципы типизации

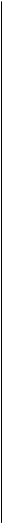
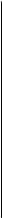
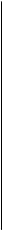
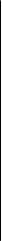
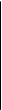
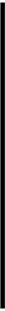 афосе, как это случилось в творчестве Б. Пильняка, в отрицании еких моделей и шаблонов, складывающихся в 20-е годы (любовь к кппине или колбасе, как в «Зависти» Ю. Олеши), в открытой полешке с социальными типами, стремящимися к гегемонии («Собачье ердце» М. Булгакова). Но это противостояние могло выливаться и в юрмы крайнего аполитизма, в формы решительного общественно-> песлужения, ставшего пафосом творчества В. Набокова.
афосе, как это случилось в творчестве Б. Пильняка, в отрицании еких моделей и шаблонов, складывающихся в 20-е годы (любовь к кппине или колбасе, как в «Зависти» Ю. Олеши), в открытой полешке с социальными типами, стремящимися к гегемонии («Собачье ердце» М. Булгакова). Но это противостояние могло выливаться и в юрмы крайнего аполитизма, в формы решительного общественно-> песлужения, ставшего пафосом творчества В. Набокова.
Но при всей разности творческих позиций модернистов, мы 1ожсм говорить о некой общей черте модернистской литературы, о'шолившей ей встать в оппозицию к соцреализму. Суть в том, го модернизм предложил литературе совершенно иные принци-м восприятия человеческой личности и окружающего ее мира. 1одернизм создал как бы иной контекст бытия, и личность в этом онтексте обрела совершенно иные контуры. Это оказалось воз-южным благодаря новым для литературы принципам художествен-ОЙ типизации.
Один из героев романа В. Набокова «Король, дама, валет» удач-ивый и талантливый предприниматель по фамилии Драйер ми-олетно увлечен созданием искусственных манекенов, способных, цнако, двигаться почти как живые люди. «В тишине был слышен иг кий шелестящий шаг механических фигур. Один за другим прошли: ужчина в смокинге, юноша в белых штанах, делец с портфелем под ышкой, — и потом снова в том же порядке. И вдруг Драйеру стало <учно. Очарование испарилось. Эти электрические лунатики двигались 1ишком однообразно, и что-то неприятное было в их лицах, — сосредо->ченное и приторное выражение, которое он видел уже много раз. онечно, гибкость их была нечто новое, конечно, они были изящно и яг ко сработаны, — и все-таки от них теперь веяло вялой скукой, — обенно юноша в штанах был невыносим. И, словно почувствовав, что >лодный зритель зевает, фигуры приуныли, двигались не так ладно, одна I них — в смокинге — смущенно замедлила шаг, устали и две другие, I движения становились все тише, все дремотнее. Две, падая от устало-и, успели уйти и остановились уже за кулисами, но делец в сером 1мер посреди сцены, — хотя долго еще дрыгал плечом и ляжкой, как 'Д'о прилип к полу и пытался оторвать подошвы. Потом он затих со-ем. Изнеможение. Молчание»222.
Этот малозначительный, казалось бы, эпизод очень показате-|| не только для творчества В. Набокова, но и для нереалистичного модернистского романа вообще. Суть в том, что его глав-
ной чертой является отсутствие характера в традиционном смысле этого слова. Перед нами не столько характер, сколько... манекен, кукла, своего рода автомат, литературным провозвестником которого был Э.-Т.-А. Гофман. Главным и единственным характером в таком романе оказывается характер... самого автора, герои же — в явно подчиненном положении, они мыслятся не как самостоятельные образы, наделенные собственной волей, неповторимой индивидуальностью, но как исполнители воли авторской, даже самой причудливой и нереальной. В результате персонажи являют собой не столько характер, сколько эмблему, реалистический критерий их оценки просто неприемлем.
Набоков очень редко давал интервью, но несколько исключений он все же сделал. Одно из них — интервью, данное своему университетскому ученику А. Аппелю в 1966 г. Понимая невозможность подойти к героям писателя с традиционных реалистических позиций, ученик задает своему учителю наивный и в то же время каверзный вопрос:
— Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в
некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось
ли с Вами подобное?
Набоков не заставил себя ждать в опровержении этой удивительной черты реалистического романа, когда герой как бы оживает под авторским пером, начинает действовать как бы самостоятельно, эмансипируясь от авторской воли:
— Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми про
исходит такое, — это или писатели очень второстепенные, или вообще
душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем со
знании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал.
В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность
и прочность отвечаю я один.
В самом деле, у Набокова начисто отсутствует доверие к герою, к художественному образу, характеризующее русский реалистический роман. Его герои лишены самых, казалось бы, естественных человеческих эмоций, а если и наделены ими, то в пародийной форме. Это заметили еще первые критики его творчества: «Лолита», например, роман о любви, но любви-то там как раз и
" Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1. С. 271.
223 Интервью Вл. Набокова, данное Альфреду Аппелю//Вопросы литературы. 1988. №10. С. 168.
Модернизм
Принципы типизации

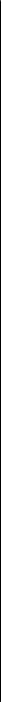
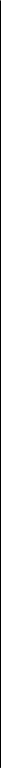
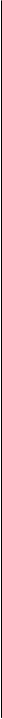
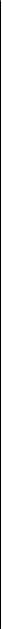 нет — есть болезненная, скорее, физиологическая и психопатическая страсть, нежели духовное парение. В ситуации любви его герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными, как гроссмейстер Лужин, как герой рассказа «Подлец», а женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь», героиня романа «Камера обскура»).
нет — есть болезненная, скорее, физиологическая и психопатическая страсть, нежели духовное парение. В ситуации любви его герои чаще всего выглядят наивными, потерянными, смешными, как гроссмейстер Лужин, как герой рассказа «Подлец», а женское начало связано с изменой и предательством (Марфинька из «Приглашения на казнь», героиня романа «Камера обскура»).
В отношении Набокова к своим героям сказались не только элементы модернистской эстетики, но и черты характера самого автора: индивидуализм, возведенный в жизненный принцип, желанное творческое и личное одиночество как следствие презрения к подавляющему большинству живших и живущих, неприятие соседства в любых его формах: от соседства в лифте или в трамвае, от которого страдает Ганин в «Машеньке» или Годунов-Чердын-цев в «Даре», — до неприятия соседства литературного, подчас болезненно воспринимаемого самим Набоковым. Отсюда же недоверие простым и естественным человеческим чувствам, таким как любовь (любовь у героев Набокова как-то своеобразно вывернута и, в сущности, искалечена), активное неприятие женского начала — от «Лолиты» до «Защиты Лужина». В результате в творчестве Набокова происходит разрушение традиционного реалистического характера, что является вообще характерной чертой модернистского романа. Обусловлена она принципами мотивации человеческого характера, принципиально различными для модернизма и реализма.
Довольно долго в наших работах бытовало мнение, что в отличие от героя реалистического романа, сознание которого детерминировано социальной и общекультурной средой, герой модернистской литературы не мотивирован ничем. Разумеется, это не так. Герой модернистского романа тоже детерминирован, но эти мотивации — совсем иной, нереалистической природы. В чем же их суть, каковы они?
Если мы с этой точки зрения посмотрим на роман Набокова «Приглашение на казнь», то увидим, что все драмы главного героя Цинцинната Ц. происходят от его... непрозрачности. В мире, где живет Цинциннат, прозрачны все, кроме него. «С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковенное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной систе-
ме как бы оптических обманов...»224. Что означает эта странная и скрываемая к тому же от других «непрозрачность» героя? Некая метафора, объясняющая трагедию человека, лишенного в тоталитарном обществе права «непрозрачности», права внутренней жизни, сокрытого индивидуального бытия? Возможно, и так — но лишь такой трактовкой нельзя объяснить главную сюжетообразу-ющую метафору романа — метафору непрозрачности, приведшую героя к тюрьме и страшному приглашению на казнь. Метафора модернистского романа в принципе неисчерпаема, несводима к однозначному, эмблематичному толкованию. И пусть Цинциннат Ц. не настоящий (в традиционном, реалистическом смысле) характер. Ему не присуща сложность героя романа М. Шолохова или М. Горького, его мотивации лежат не в сфере социально-исторического процесса, трагические разломы которого пришлись на судьбу Клима Самгина или Григория Мелехова. Но будучи определен всего лишь единственной своей чертой — непрозрачностью в прозрачном, проникнутом солнцем светлом мире — Цинциннат не менее сложен, чем герои реалистической литературы. Пусть его движения похожи на поступь тех самых манекенов, от которых устал Драйер, но понять и определить его суть раз и навсегда, однозначно — в принципе невозможно. Просто сложность его совсем иная и состоит в другом.
Проблема мотивации характера приобретает иногда ироническую окраску. Так, Шариков из «Собачьего сердца» М. Булгакова «детерминирован» скальпелем профессора Преображенского, а реальные обстоятельства социальной действительности, породившие этот и подобные ему типы, не исследуются. Из этого вовсе не следует, что Шариков нетипичен. Он как раз очень типичен и широко укоренен не только в 20-х годах, но и в современности. Это говорит лишь о том, что модернистская литература способна не менее чутко отражать социальные типы, чем реалистическая. Нарочитое снижение мотивации характера можно увидеть в романе Ю. Олеши «Зависть»: Андрей Бабичев, новый делец, бизнесмен социалистической формации, детерминирован... вкусной и дешевой колбасой, которая становится целью его личного и социального бытия. Он строит «Четвертак», быструю, вкусную, дешевую общественную кухню, где всего за четвертак можно будет пообе-
224 Набоков В. В. Приглашение на казнь//В. В. Набоков. Избранные произведения. М., 1989.
14 - 4063
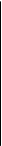 Модернизм
Модернизм
Принципы типизации


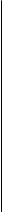
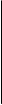

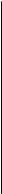
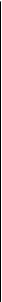
 дать. В каждом из героев «Зависти» гротескно заостряется какая-то одна черта: Бабичев любит колбасу так поэтично, как можно любить только женщину, его приемный сын Володя Макаров объясняется в любви к машине, Иван Бабичев неразлучен с подушкой, которая воплощает мир интимных, семейных отношений. Все эти детали выступают началом, формирующим гротескный характер. Суть в том, что модернистский роман предложил литературе совсем иную концепцию личности, чем роман реалистический. Это не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств. Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой характера (а она вообще может отсутствовать, персонаж модернистского романа может быть совершенно алогичен), сколько полной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Герой набоковского романа полностью «бесправен» и абсолютно зависим, никакой диалог на равных между голосом автора и героя, как, например, в полифоническом романе Достоевского, в принципе невозможен.
дать. В каждом из героев «Зависти» гротескно заостряется какая-то одна черта: Бабичев любит колбасу так поэтично, как можно любить только женщину, его приемный сын Володя Макаров объясняется в любви к машине, Иван Бабичев неразлучен с подушкой, которая воплощает мир интимных, семейных отношений. Все эти детали выступают началом, формирующим гротескный характер. Суть в том, что модернистский роман предложил литературе совсем иную концепцию личности, чем роман реалистический. Это не герой в традиционном смысле этого слова, но, скорее, некое воплощение авторской идеи, некий набор тех или иных качеств. Его судьба, поступки, поведение порождены не столько логикой характера (а она вообще может отсутствовать, персонаж модернистского романа может быть совершенно алогичен), сколько полной подчиненностью его авторской воле, авторскому замыслу. Герой набоковского романа полностью «бесправен» и абсолютно зависим, никакой диалог на равных между голосом автора и героя, как, например, в полифоническом романе Достоевского, в принципе невозможен.
 2014-02-17
2014-02-17 465
465








