Фукуяма Френсіс народився в Чікаго 27 жовтня 1952 року. У 1974 році закінчив Корнельський університет, у 1977 році захистив у Гарварді докторську дисертацію з політичних наук. Протягом ряду років працював у різних політичних структурах, викладав в університетах.
Зараз Фукуяма – декан факультету міжнародної політичної економії університету Джона Хопкінса. Крім того, Фукуяма входить до складу ряду консультативних рад, у тому числі - Президентської ради з біоетики.
Широка популярність до Фукуями прийшла завдяки статті «Конец истории?», що вийшла у 1989 році і викликала жваву дискусію. У 1995 році виходить його книга «Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния», в якій досліджується взаємини соціальних зв’язків і економічного розвитку. У 1999 році публікується його книга «Великий разрыв. Человеческая природа и воспроизводство социального порядка», присвячена радикальним суспільним змінам останніх десятиліть. Нарешті у 2002 році з’являється крига Фукуями «Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции».
|
|
|
Фукуяма Ф. Великий разрыв. Человеческая природа и воспроизводство социального порядка
Человеческая природа и социальный порядок
На протяжении большей части XX века в социальных науках преобладало мнение, что социальные нормы конструируются обществом и что, если кто-то хочет объяснить какой-нибудь частный социальный факт, ему следует, по словам Дюркгейма, обратиться скорее к «более ранним социальным фактам», нежели к биологии или генетике. Социологи не отрицают, что человеческое тело создано природой, а не воспитанием, но так называемая стандартная модель науки об обществе утверждает, что биология управляет только телом; разум, который является источником культуры, ценностей и норм, — это совершенно другая область.
Эта область определяется набором предположений о природе человеческого познания. Согласно традиции, заложенной английским мыслителем XVII века Джоном Локком и продолженной бихевиоризмом Джона Уотсона и Б.Ф. Скиннера, психика — это tabula rasa; согласно этим взглядам, человек способен к вычислениям, ассоциациям, запоминанию — и ничего более. Какие бы знания, привычки, ассоциации и т.п. ни заполняли разум взрослого человека, они возникли только на протяжении жизни и целиком основаны на опыте. Правила, которыми мы ограничиваем наши акты выбора, были заложены либо в результате рационального решения (по мнению экономистов), либо в результате социализации в раннем детстве (по мнению социологов и антропологов).
Однако появляется все больше данных, поставляемых науками о жизни, которые свидетельствуют о том, что стандартная модель науки о обществе неадекватна — человек рождается с уже существующими когнитивными структурами и соответствующими возрасту способностями к обучению, которые естественным образом вводят их в общество. Другими словами, существует такая вещь, как человеческая природа. Для социологов и антропологов существование человеческой природы означает, что культурный релятивизм должен быть пересмотрен и что возможно распознать культурные и моральные универсалии, которые, если применять их беспристрастно, можно использовать для оценки конкретных культурных практик. Более того, человеческое поведение не настолько пластично и, следовательно, не настолько поддается манипуляции, как большую часть XX столетия считали представители этих дисциплин. Для экономистов существование человеческой природы означает, что взгляд социологов на человека как на существо в силу своей природы социальное более точен, чем их собственная индивидуалистическая модель. А для тех, кто не является ни антропологом, ни социологом, ни экономистом, понимание изначальной сущности человека подтверждает общепринятые представления о том, как люди думают и действуют, которые решительно отрицались прошлыми поколениями представителей социальных наук, — к примеру, представление о том, что мужчины и женщины отличаются друг от друга и что мы являемся политическими и социальными созданиями, обладающими моральными инстинктами. Это прозрение крайне важно для обсуждения проблемы социального капитала, поскольку оно означает, что последний в результате инстинктивных побуждений будет закономерно генерироваться человеческими существами.
|
|
|
Исторические корни релятивизма
Для того чтобы понять важность возвращения понятия о человеческой природе, нужно вернуться к истории социальной мысли первой половины XX века.
Культурный релятивизм — это мнение, что нормы культуры являются произвольными, социально сконструированными артефактами различных обществ (или групп в рамках общества) и что не существует никаких универсальных стандартов морали, а также никаких способов, с помощью которых мы могли бы оценивать нормы и правила других культур. Истоки культурного релятивизма можно найти в трудах таких современных философов, как Ницше и Хайдеггер с их критикой западного рационализма. Как пишет в своей книге «Закрытие американского сознания» Аллан Блум, либеральная ценность терпимости медленно, но верно мутировала в убежденность, что в принципе не существует рациональных оснований для моральных или этических суждений. Сегодня нас уже не просят быть терпимыми к разнообразию, сегодня от нас требуют радоваться празднику разнообразия, и это изменение имеет широкий спектр последствий для возможности объединения граждан в демократическом обществе.
Релятивизм в США стал словом повседневного обихода не только в результате влияния высоколобых мыслителей, цитируемых Блумом, но и из-за популяризации определенных ключевых антропологических концепций. В этом ключевую роль сыграли антрополог из Колумбийского университета Франц Боас и его ученицы Маргарет Мид и Рут Бенедикт.
Боас утверждал, что видимые различия между человеческими группами — к примеру, уровень технологии, художественные и интеллектуальные достижения, даже их интеллект — не были генетически детерминированы, но являются продуктом воспитания и культуры. Боас критиковал, и вполне справедливо, традицию раннего социал-дарвинизма конца XIX — начала XX веков, сторонники которой, например, Герберт Спенсер, утверждали, что существующая социальная стратификация отражает природную иерархию способностей. Самая известная работа Боаса — это исследование размера голов детей эмигрантов, которое показало, что эмигранты из «неправильных» частей Европы и Азии, если питаются так же, как американцы, обладают не меньшими интеллектом и способностями, чем северные европейцы, и что, следовательно, попытки сохранить чистоту белой расы посредством антииммиграционных и евгенических мер совершенно ошибочны. Боас поддержал положение стандартной модели науки об обществе, согласно которому не имеется никаких значительных когнитивных или психологических различий между человеческими группами, и убедительно доказал, что попытки американцев и европейцев судить о культурных практиках так называемых примитивных народов были безнадежно этноцентричными. Рут Бенедикт и Маргарет Мид много сделали для популяризации этих идей и для того, чтобы непосредственно применить их к западным культурным практикам, касающимся секса, семьи и гендерных ролей.
|
|
|
Хотя эти выводы академической ипопулярной антропологии подготовили почву в интеллектуальном отношении, идея о том, что биология может сказать нам что-нибудь важное о поведении человека, была полностью дискредитирована нацистским геноцидом. Вера нацистов в иерархию рас и их жестокое злоупотребление биологическими аргументами для ее законодательного утверждения вызвали реакцию отторжения любой теории, которая видела бы основу поведения в генетике, нежели в культуре, — реакция, существование которой все еще очень заметно в современной Европе. Дискредитация биологических теорий была непосредственно связана с ростом культурного релятивизма: ведь если не существует такой вещи, как неизменная человеческая природа, определяющая социальное поведение, то не может существовать и никаких универсальных стандартов, по которым любая культурная практика может быть оценена. С тех пор человеческое поведение рассматривалось как «социально сконструированное» — то есть задаваемое культурными нормами, которые формируют поведение после рождения. Отсутствие общей модели культурного поведения привело антропологов, таких, как Клиффорд Герц, к утверждению, что культурная антропология неизбежно должна базироваться на том, что он назвал «плотной дескрипцией», то есть на детальном этнографическом описании отдельных культурных систем, предполагающих понимание их сложности, но без подгонки их под теоретическую схему.
|
|
|
Новая биология
Источники биологической революции, которая происходила во второй половине XX века, многочисленны. Самые потрясающие достижения имели месте в молекулярной биологии и биохимии: открытие структуры ДНК привело к возникновению целой индустрии, которая занимается генетическими модификациями. В нейрофизиологии большие успехи были достигнуты в понимании химической и физиологической основы психических феноменов, включая представление о том, что мозг — это не вычислительная машина общего назначения, а орган, состоящий из модулей, каждый из которых имеет определенные возможности и функции. И наконец, применительно к макроповедению, за последнее время получено огромное количество данных в области этологии животных, генетики поведения, приматологии, эволюционной психологии и антропологии, показавших, что определенные модели поведения являются гораздо более общими, чем считалось ранее. Общее заключение, согласно которому женщины обычно более избирательны, чем мужчины, в выборе партнера, оказывается верным не только для всех известных человеческих культур, но практически для всех известных видов, которые размножаются половым путем. Соединение микро- и макроуровней исследования кажется лишь вопросом времени. С появлением описания генома крыс, фруктовых мушек и, в конце концов, человека появится возможность включать и выключать отдельные последовательности генов и непосредственно наблюдать воздействие этого на поведение.
В отличие от совершенно релятивистских положений культурной антропологии новая биология по большей части исходит из того, что изменчивость человеческой культуры не настолько велика, как это может показаться на первый взгляд. Точно так же, как человеческие языки могут быть бесконечно разнообразными, но отражают общие глубинные лингвистические структуры, определяемые лингвистическими зонами новой коры головного мозга, так и человеческие культуры, вероятно, отражают общие социальные потребности, определяемые не культурой, а биологией. Никакой уважающий себя биолог не станет отрицать, что культура является важным фактором и часто оказывает влияние, которое может подавлять естественные инстинкты и побуждения. Культура сама по себе — то есть способность передавать через поколения нормы поведения негенетическим способом — запечатлена в физиологическом устройстве мозга и представляет собой главный источник преимуществ человеческого вида в процессе эволюции. Однако культурное содержание налагается на естественную подструктуру, которая ограничивает и направляет культурную креативность для многих популяций индивидов. Не биологический детерминизм предлагает внимательным исследователям новая биология, а скорее более сбалансированный взгляд на взаимодействие природы и воспитания в формировании человеческого поведения.
В целом генетически контролируемые виды поведения, оказывающие влияние на социальные феномены — такие, как поддержание родственных связей или склонность к образованию групп в гражданском обществе, — опосредствованы культурой, поэтому, скажем, между нуклеарной семьей и генетической предрасположенностью к продолжению рода не могут быть обнаружены прямые причинно-следственные зависимости. У человеческих существ многие виды поведения, которые кажутся находящимися под биологическим воздействием, не являются детерминированными побуждениями или инстинктами, а определяются скорее предрасположенностью к обучению на определенных стадиях развития индивида. Пример языка удобен для понимания взаимодействия генетических и культурных факторов. Способность к усвоению языка, по-видимому, находится под жестким генетическим контролем и начинает проявляться в возрасте примерно двенадцати месяцев, выражаясь в удивительной способности маленьких детей выучивать множество новых слов за один день. Эта способность сохраняется только несколько лет; дети, которые выросли, не имея возможности научиться говорить, или взрослые, которые пытаются овладеть новыми для них языками, никогда не достигнут той же  степени беглости, что и дети, развивающиеся в нормальных условиях. Структура языка также, вероятно, заложена генетически: дети ожидают определенных закономерностей в правилах, касающихся времен глагола, чисел имен существительных и т.п., хотя специально этому их не учат. С другой стороны, сами слова и многие синтаксические структуры данного языка культурно детерминированы, так же как и тонкие смысловые нюансы определенных фраз в контексте конкретной культуры. То, что дети выучатопределенные вещи, соответствующим образом структурированные, в должное время определяется биологией; содержание же усвоенного находится в введении культуры.
степени беглости, что и дети, развивающиеся в нормальных условиях. Структура языка также, вероятно, заложена генетически: дети ожидают определенных закономерностей в правилах, касающихся времен глагола, чисел имен существительных и т.п., хотя специально этому их не учат. С другой стороны, сами слова и многие синтаксические структуры данного языка культурно детерминированы, так же как и тонкие смысловые нюансы определенных фраз в контексте конкретной культуры. То, что дети выучатопределенные вещи, соответствующим образом структурированные, в должное время определяется биологией; содержание же усвоенного находится в введении культуры.
Судьба homo economicus
За последние три десятилетия произошло огромное количество перекрестных опылений между биологией и экономикой. Однако тот факт, что у биологии много общего с экономикой в методологическом плане, затемняет то обстоятельство, что основополагающие выводы новой эволюционной биологии в большей степени поддерживают homo sociologus (человек общественный), нежели homo economicus (человек экономический). Другими словами, биология скорее находит, что люди от природы являются политическими и общественными созданиями, а не изолированными эгоистичными индивидами. Хотя люди и обладают особыми способностями к сотрудничеству и созданию социального капитала, они осуществляют это сотрудничество таким образом, чтобы защитить свои интересы как индивидов.
Несмотря на методологические заимствования между биологией и экономикой, основополагающие открытия в биологии во многом подрывают некоторые предположения экономистов, касающиеся поведения. Определенные формы альтруизма и социальной кооперации обеспечивают существенные преимущества для индивидов. Способность создавать социальный капитал посредством разнообразных норм социальной кооперации, возможно, является главнейшим преимуществом, которым обладает человеческий вид, и объясняет, почему человеческая популяция — более пяти миллиардов индивидов на данный момент — полностью господствует в природной среде Земли. Более того, этот фактор действует на протяжении всего процесса эволюции, и его результаты становятся генетически закодированными в последующих поколениях индивидов. Другими словами, люди, которые являются реальным продуктом эволюции, имеют склонность к кооперации, встроенную, так сказать, в их мозг, и, таким образом, не должны в каждом поколении заново изобретать колесо.
Экономисты часто выражают удивление тем фактом, что в мире имеется так много примеров сотрудничества, поскольку теория игр говорит о том, что решения посредством сотрудничества чаще всего труднодостижимы. Они сталкиваются с трудностями, когда пытаются объяснить, почему так много людей участвуют в голосовании на выборах, делают взносы в благогворительные фонды, сохраняют верность работодателям, если модель поведения, обеспечивающего их собственные интересы, говорит о том, что такие действия иррациональны. Многие неэкономисты ответили бы на это, что сотрудничество возникает без особых проблем, потому что люди по своей природе являются существами общественными и не нуждаются в разработке специальной стратегии для того, чтобы найти пути сотрудничества друг с другом. Эволюционная биология последнее утверждение поддерживает и дает нам гораздо более точное понимание того, как это качество возникает и как проявляется. Биология показывает, что конструирование правил и следование им, а также наказание за нарушение (в том числе и самого себя) имеют естественную основу, а человеческое сознание благодаря особым познавательным способностям может отличить людей, нацеленных на сотрудничество, от обманщиков.
От человекообразных обезьян к человеку
Тот факт, что поведение сотрудничества у человеческих существ имеет генетическую основу, а не просто сконструировано посредством культуры, легче всего обнаружить, наблюдая не за людьми, а за их генетически ближайшими родственниками — шимпанзе. Шимпанзе демонстрируют социальное поведение, зачастую невероятно похожее на человеческое. Голландский специалист по приматам Франс де Вааль долгое время наблюдал за поведением этих обезьян в самой большой в мире колонии шимпанзе, содержащихся в неволе, в зоопарке Бургера в Арнеме, Нидерланды. В 70-е годы там развернулась совершенно макиавеллиевская борьба. Стареющий самец-альфа колонии, Ероэн, был постепенно вытеснен из своего доминирующего положения молодым самцом, Луитом. Луит не смог бы этого добиться только лишь с помощью собственной физической силы, поэтому он вступил в коалицию с другим молодым самцом, Никки. Однако как только Луит оказался на вершине иерархии, Никки тут же изменил свое отношение к нему и образовал коалицию со свергнутым лидером, чтобы самому добиться доминирующего положения. Другие шимпанзе не отнеслись к Никки как к хорошему вожаку; самец-альфа, помимо всего прочего, должен поддерживать порядок внутри колонии. Луит все еще оставался угрозой его правлению, поэтому однажды он был расчетливо и жестоко убит Никки и Ероэном.
Де Вааль и другие специалисты по приматам обращают внимание на то, что шимпанзе не достигают статуса самца-альфа путем физического доминирования. В колониях, насчитывающих от 20 до 30 индивидов, никакая отдельная особь не является достаточно сильной для того, чтобы навязать другим свою волю; ей приходится находить союзников и вести что-то вроде политической деятельности, упрашивать, обхаживать, подкупать и угрожать другим, чтобы увлечь их за собой. Создание коалиции включает в себя стандартный репертуар жестов и выражений лица. Когда шимпанзе ищет помощи, он умоляюще протягивает руки, а также рычит и указывает на тех, против кого он ищет помощи у партнеров по коалиции. Шимпанзе демонстрируют доброжелательность или мирные намерения, вылизывая и выкусывая блох друг у друга. Демонстрируя подчинение, они поворачиваются к соперникам задом. От самца-альфа даже требуется что-то вроде грубого правосудия: он вмешивается в качестве третьей стороны в драки, которые угрожают стабильности группы как целого.
Как и человеческие существа, шимпанзе вовсю соперничают за положение в социальной иерархии. Действительно, социальный порядок достигается в колонии шимпанзе в первую очередь посредством установления иерархии доминирования. Биоантрополог Ричард Рэнгхэм пишет: «Мы совсем немного преувеличиваем, когда говорим, что самец шимпанзе в расцвете сил посвящает всю свою жизнь достижению высокого ранга. В своих попытках достичь статуса самца-альфа, а затем поддерживать его он проявляет коварство, настойчивость, энергию и готовность уделить этому много времени. Этим стремлением определяется, с кем он кочует, у кого выкусывает блох, в какую сторону посматривает, как часто чешется, куда ходит и в какое время просыпается утром. (Беспокойные самцы-альфа встают рано и часто будят других весьма энергичной имитацией нападения.) Все эти виды поведения порождаются не жаждой насилия как такового, а эмоциями, которые проявляют люди, когда мы их называем гордостью или, с меньшей симпатией, высокомерием».
Шимпанзе откровенно злятся, когда им не оказывают почтения, которого, по их мнению, они достойны по своему рангу в иерархии.
Шимпанзе очень похожи на людей своей способностью организовываться в группы, если это дает преимущество в конкуренции или для группового насилия, а также существованием объединений самцов. Рэнгхэм описывает ситуацию, когда шимпанзе в национальном парке Гомбе в Танзании разделились на то, что можно назвать только двумя соперничающими бандами в северной и южной частях ареала. Группы из четырех-пяти самцов из северной группировки совершали вылазки не ради защиты своей территории — они часто проникали глубоко на территорию соперничающей группы и систематически нападали на особей, которых застигали в одиночестве или неподготовленными к отражению атаки. Убийства часто бывали жестокими, и агрессоры отмечали победу криками и лихорадочным возбуждением. В конце концов все самцы и несколько самок южной группы были убиты, а оставшихся самок вынудили присоединиться к северной группе. Поколением ранее антрополог Лайонел Тайгер утверждал, что мужчины обладают особой психологической предрасположенностью к тому, чтобы объединяться для совместной охоты. Исследование Рэнгхэма говорит о том, что о бъединения самцов имеют гораздо более древние биологические корни и появились раньше, чем человеческий вид.
Эти примеры социального поведения у шимпанзе очень показательны, поскольку люди и шимпанзе являются весьма близкими родственниками. Сегодня ученые полагают, что шимпанзе и люди происходят от общего шимпанзеобразного предка, который жил менее пяти миллионов лет назад. Не только поведенческие паттерны шимпанзе ближе к человеческим, чем модели поведения тысяч видов всех ныне существующих млекопитающих, — геномы шимпанзе и человека очень сходны на молекулярном уровне. Более того, хотя имеются свидетельства того, что обезьяны могут создавать что-то вроде культуры — т.е. виды поведения, возникающие в результате научения и передающиеся от поколения к поколению, — никто не станет утверждать, что многое в общественной жизни шимпанзе является социально сконструированным. У шимпанзе нет языка — самого важного инструмента для создания и передачи культуры.
Конечно, легко и в то же время опасно проводить поверхностные сравнения между поведением животных и людей. Человеческие существа тем и отличаются от шимпанзе, что у них есть культура и разум, что они могут управлять своими биологически заданными побуждениями самыми разнообразными сложными способами. С другой стороны, изучение приматов дает нам некоторую возможность проникнуть в суть споров по поводу сущности человеческой природы и оснований современных политической теории и представлений о морали и справедливости. Как уже было отмечено, философы, чьи труды стали истоками современного либерализма, — Гоббс, Локк и Руссо — основывали свои политические теории на представлении о человеке «в естественном состоянии», то есть до изменений, которые произошли в результате возникновения гражданского общества и последующего развития цивилизации. Хотя мы не обладаем непосредственным эмпирическим знанием того, что собой представлял человек в «естественном состоянии», мы не можем утверждать, что поведение, характерное для предшественников человека и шимпанзе, было артефактом человеческой цивилизации. Если только не считать, что первые человеческие существа сильно отличались от тех приматов, от которых произошли, и от цивилизованных людей последующих эпох, то можно предположить, что преемственность в поведении шимпанзе и человека распространялась и на людей в «естественном состоянии». Отсюда следует, что ряд постулатов, выдвинутых этими философами, неверен.
Возьмем, к примеру, самое известное утверждение Гоббса — что для естественного состояния характерна «война всех против всех» и что, следовательно, жизнь «опасна, несчастна, груба и коротка». По-видимому, более точным было бы сказать, что для естественного состояния была характерна война «некоторых против некоторых», то есть что первобытные люди имели рудиментарную социальную организацию, которая давала возможность действовать совместно и обеспечивала мир между членами одного клана. Конечно, этот мир перемежался внутренними конфликтами, поскольку люди соперничали друг с другом за доминирование внутри маленькой группы или племени, а также внешними войнами с другими группами и племенами. Судя по тому, что нам известно об обществах охотников и собирателей, и исходя из археологических данных о доисторических обществах, можно заключить, что уровень насилия был по меньшей мере таким же, как и в современных обществах, несмотря на огромные различия в социальной организации и технологии. Однако никакого резкого перехода от «естественного состояния» и насилия к гражданскому обществу и миру не было: гражданское общество служило в качестве средства организации человеческих групп таким образом, чтобы они могли осуществлять насилие, направленное вовне, более организованным способом.
Человеческие существа в силу своей природы являются существами общительными — у большинства людей скорее изоляция, нежели общение с другими вызывает патологические симптомы стресса. Хотя отдельные формы семьи могут и не быть естественными, родственные связи все же таковым являются и имеют определенные структуры, общие как для человека, так и для других видов. Не только люди, но и другие приматы сравнивают себя с другими особями. По имеющимся данным можно заключить, что шимпанзе испытывают интенсивное чувство гордости, когда их социальный статус признается, и гнева и раздражения в противном случае.
Изучение приматов показывает, что общественное поведение в значительной мере возникает не в результате научения, а как часть генетического наследства как человека, так и его человекообразных предков.
Проблемой, общей для всех видов классической либеральной интерпретации «естественного состояния», является предпосылка об изначальном индивидуализме. Другими словами, все упомянутые выше мыслители начинают с допущения, что человеческие существа являются «одиночными носителями прав» — индивидами без естественной склонности к общению, которые объединяются для совместных предприятий только ради достижения индивидуальных целей. Впрочем, это не единственный возможный философский взгляд на человеческую природу. Аристотель начинает свою «Политику» с утверждения, что человек — по природе политическое животное, находящееся где-то между зверем и богом. Это мнение основано на повседневном наблюдении, что повсюду и во все времена человеческие существа организуются в политические сообщества, характер которых отличается от других видов социальной структуры — таких, как семья или деревня — и существование которых необходимо для полного удовлетворения природных желаний людей. Люди не являются потенциальными богами, как предполагает марксистское направление Просвещения, — то есть «родовыми существами», способными на неограниченный альтруизм. Но они не являются и зверями. В силу своих природных свойств они организуются не только в семьи и племена, но и в группы более высокого порядка, и способны к моральному поведению, необходимому для поддержания таких сообществ. С этим современная эволюционная биология согласилась бы от всего сердца.
Истощает ли капитализм социальный капитал?
Многие люди интуитивно полагают, что капитализм плохо влияет на мораль. Рынки превращают все в товар и заменяют человеческие взаимоотношения голым интересом. С этой точки зрения современное капиталистическое общество потребляет больше социального капитала, чем производит. Такие феномены, как уменьшение доверия к общественным институтам, уменьшение радиуса доверия, более высокая преступность и разрыв родственных связей в Северной Америке и Европе, демонстрируют тревожную тенденцию: эти развитые общества тратят свой социальный капитал, не имея возможности его воссоздания. Обречено ли капиталистическое общество становиться материально богаче, но морально беднее с течением времени? Разрушает ли крайняя безжалостность и безличность рынка социальные связи и учит ли, что только деньги, а не общественные ценности что-то значат? Идет ли современный капитализм к разрушению собственного морального основания и, таким образом, к коллапсу?
На самом деле современные технологические общества продолжают нуждаться в социальном капитале, расходовать его, а затем восполнять, как и раньше. Виды потребностей и источники их обеспечения изменились, но нет оснований утверждать, что необходимость неформальных этических норм отпадет или что люди перестанут устанавливать моральные стандарты для самих себя и пытаться следовать им. Люди будут создавать моральные правила для самих себя частично из-за того, что они таковы от природы, а частично в результате преследования ими собственной выгоды. В прошлом социальный капитал мог происходить из таких источников, как иерархическая религия или вековая традиция, которые в современном мире кажутся относительно слабыми, однако существуют и другие источники.
Процесс регенерации обществом социального капитала является комплексным и зачастую трудным. Во многих случаях он касается представителей разных поколений и оставляет за собой многочисленные жертвы, поскольку старые нормы сотрудничества были разрушены, а новые на смену им не пришли. Великий Разрыв не сможет исправить сам себя автоматически. Люди должны осознать, что их общественная жизнь ухудшилась, что они ведут себя саморазрушающим образом и что им нужно активно работать над воссозданием норм своего общества посредством дискуссий, доказательств, культурных аргументов и даже культурных войн. Есть свидетельства, что это уже происходит на протяжении последнего времени, а предшествующие периоды человеческой истории дают нам определенную уверенность, что восстановление норм и морали возможно.
Культурные противоречия капитализма?
Вопрос о том, как современный экономический порядок относится к моральному порядку, является старым и рассматривался многими авторами. Существует несколько противоположных взглядов на то, способствует ли распространение современного, основанного на развитии технологии капитализма моральной жизни или препятствует ей.
Один взгляд предложен Эдмундом Бёрком, который видел корни разрушения социального капитала в Просвещении. Реагируя на крайности Французской революции, Бёрк критиковал попытку установления нового и справедливого политического и социального порядка на основе абстрактных принципов, принудительно навязанных централизованным государством. Работоспособность подобного порядка основывается не только на мудрости социальных инженеров, которые проектируют общество, но на предположении, что люди могут быть адекватно мотивированы личными рациональными интересами. Бёрк доказывает, что наиболее действенные социальные правила не могут быть распознаны путем априорного рассуждения, а возникают скорее путем проб и ошибок в процессе эволюции общества. Такой процесс не обязательно рационален; в формировании правил играли важную роль религия и древние социальные обычаи. В консерватизме Бёрка присутствует также элемент релятивизма. Каждое общество будет создавать свой набор правил в зависимости от своих условий жизни и истории, особенности которых нельзя полностью объяснить. Для Бёрка Французская революция и более широко Просвещение представляют собой человеческое бедствие, потому что они стремились заменить традиционные правила рациональными, подчиняться которым индивиды должны были, не опасаясь божественного наказания. Однако разума недостаточно для того, чтобы создать моральные ограничения, необходимые для удерживания сообщества в целостности, и, таким образом, предложенный Просвещением порядок развалится на части благодаря своим внутренним противоречиям. Существуют и более новые версии критики Просвещения. Современный английский автор Джон Грей, например, утверждает, что с падением Берлинской стены внутренние противоречия Просвещения становятся очевидными для всех и выражаются в повышении уровня преступности и социальных беспорядках в развитых странах — таких, как США. Капитализм усиливает этот процесс: ставя личные интересы над моральными обязательствами и за счет бесконечного новаторства благодаря замещению одной технологии другой, он разрушает строившиеся в течение веков связи в человеческих сообществах и оставляет людей наедине с их голым личным интересом как основой для социального единства.
Согласно этой линии рассуждений, современные общества не развалились буквально на куски только потому, что основываются на определенном виде исторически сложившегося социального капитала, который лишь растрачивается в них, никогда не накапливаясь. Определяющим процесс упадка фактором является секуляризация мира, так как если религия является важным источником морального поведения, то упадок религии на фоне модернизации означает конец социального порядка. Это было ясно сформулировано в книге Фреда Хирша «Социальные пределы роста»: «Социальные добродетели — такие, как правдивость, доверие, признание, сдержанность, долг, необходимые для функционирования индивидуалистической, договорной экономики, основаны в значительной степени на религиозной вере, но индивидуалистский, рационалистский характер рынка разрушает религиозную основу».
Подобные рассуждения характерны и для обширной литературы о «культурных противоречиях капитализма», в которой доказывается, что капиталистическое развитие в конце концов подрывает само себя, создавая нормы, противоречащие тем, которые необходимы для функционирования рынка. Пожалуй, наиболее известным сторонником такой точки зрения был Йозеф Шумпетер, который утверждает в своей книге «Капитализм, социализм и демократия», что капитализм имеет тенденцию создавать класс элиты, враждебный тем самым силам, которые сделали возможным его существование, и что он в конце концов будет пытаться заменить рыночную экономику социалистической. Даниел Белл утверждает, что изобилие делает трудовую этику вроде бы необязательной, а также создает культурную элиту, которая находится в состоянии перманентной революции против status quo. Каждое следующее поколение находит задачу попрания норм все более и более сложной, потому что остается все меньше норм, которые можно разрушить, и все меньше людей, которые могут быть шокированы в своем благодушном конформизме. Это объясняет постоянное усугубление вызывающего поведения — от бессмысленного дадаизма 1920-х годов до непристойного, кощунственного и агрессивного искусства перформансов конца XX века. В результате, согласно Беллу, культурная элита, находящаяся в постоянной оппозиции ко всем ценностям среднего класса, разрушает сама себя, уничтожая производственную основу рыночного общества, которое делает возможным ее собственное существование.
Неформальные общественные нормы легче всего создаются и поддерживаются в маленьких стабильных группах, в то время как капитализм настолько динамичен, что постоянно разрывает сообщества на части посредством сокращений рабочих мест, модернизации, создания производств за границей. Огромная эффективная система супермаркетов заменяет семейные магазины, разрушая личные связи, благодаря которым те возникли, во имя более низких цен. Рыночная экономика создает индустрию развлечений, которая будет показывать людям то, что они хотят видеть, вне зависимости от того, полезны или нет для них или их детей сцены насилия или секса. Рыночное общество имеет тенденцию провозглашать героями тех, кто или искусен в делании денег, или скандально знаменит (часто и то, и другое) — в ущерб тем, кто имеет гораздо более значимые, но не переводимые в наличность заслуги.
Мы можем согласиться с тем, что капитализм часто является деструктивной, разрушительной силой, которая подрывает традиционную верность и традиционные обязательства, но он также создает порядок и выстраивает новые нормы для замены тех, которые уничтожаются. Несомненно, таков был взгляд некоторых мыслителей века Просвещения, которые утверждали, что капитализм не разрушает мораль, а, наоборот, фактически укрепляет. Эта идея впервые была сформулирована Монтескье, который доказывал, что «коммерция... отесывает и смягчает варварские манеры, как мы наблюдаем это каждый день». Пожалуй, наиболее ясное изложение этой точки зрения принадлежит Самуэлю Рикару (1704 г.), — оно широко цитировалось в XVIII веке: «Коммерция привязывает людей друг к другу взаимной полезностью... При помощи коммерции человек учится мыслить, быть честным, приобретает манеры, становится благоразумным и сдержанным в разговорах и действиях».
Хотя Рикар ничего не знал о теории игр, он описывал итерацию при игре, в которой репутация честного человека становится ценностью. Адам Смит также верил в моральный 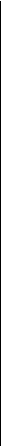 эффект коммерции, утверждая, что она способствует пунктуальности, благоразумию и честности, а также улучшает жизнь рабочей бедноты. Согласно Альберту Хиршману, члены буржуазного общества проявляют постоянную заинтересованность в трудолюбии, честности, самодисциплине и множестве других мелких добродетелей — благодаря которым, по крайней мере смягчаются пороки.
эффект коммерции, утверждая, что она способствует пунктуальности, благоразумию и честности, а также улучшает жизнь рабочей бедноты. Согласно Альберту Хиршману, члены буржуазного общества проявляют постоянную заинтересованность в трудолюбии, честности, самодисциплине и множестве других мелких добродетелей — благодаря которым, по крайней мере смягчаются пороки.
Правильнее всего будет придерживаться промежуточной точки зрения и считать, что прогресс капитализма одновременно способствует и препятствует моральному поведению. Адам Смит осознавал ограниченность мелких добродетелей, которые стремится поддерживать коммерция.
Можно допустить, что рыночные общества одновременно вредят и помогают моральным взаимоотношениям. Продажная любовь или увольнение служащего с многолетним стажем ради увеличения производительности в самом деле может сделать людей циничными. Но и обратное также случается: люди приобретают социальные связи на рабочем месте и учатся честности и благоразумию, будучи вынужденными работать с другими людьми длительное время. Кроме того, социальный капитал и внутренние неформальные нормы становятся даже более значимыми при переходе от индустриальной к постиндустриальной, или информационной экономике, а ее сложность и технологический уровень растут.
Современные постиндустриальные капиталистические экономики будут создавать постоянный спрос на социальный капитал. В долгосрочной перспективе они также скорее всего окажутся способны обеспечивать достаточное количество социального капитала, чтобы удовлетворить спрос. Бог, религия и вековые традиции по 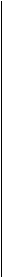 лезны для этого процесса, но не являются необходимыми.
лезны для этого процесса, но не являются необходимыми.
Джеймс Коулман, социолог утверждает, что «социальный капитал» является общественным достоянием и поэтому имеет тенденцию к недостаточному производству в условиях свободного рынка. Другими словами, социальный капитал является благом для общества в целом; он должен создаваться нерыночными силами — либо правительством, либо негосударственными объединениями, такими, как семьи, церкви, благотворительные учреждения или другие добровольные некоммерческие организации.
Согласно взглядам экономиста Дасгупты, социальный капитал не является общественным благом, однако он тесно связан с внешними проявлениями экономической деятельности. Другими словами, частные лица могут создавать социальный капитал в своих эгоистических целях, но, однажды возникнув, он во многом оказывает благотворное воздействие на более широкое общество. Социальный зачастую возникает как побочный продукт или внешнее воздействие какой-либо другой деятельности. Знаменитые пуритане Макса Вебера не стремились к богатству путем накопления капитала — они стремились доказать Богу, что являются избранными. Однако в качестве случайного следствия своей бережливости, самодисциплины и стремления доказать избранность они создавали предприятия, которые стали в конечном счете источником огромного богатства.
Таким образом, если мы принимаем тот факт, что социальный капитал является не общественным благом, а скорее частным благом, связанным с внешними проявлениями экономической деятельности, то можно увидеть, что современная рыночная экономика будет все время создавать социальный капитал. В случае отдельных компаний социальный капитал может возникать благодаря прямым инвестициям в образование и обучение корпоративным навыкам. Существует, конечно, огромная деловая литература о создании корпоративной культуры, которая является не чем иным, как попыткой социализации работников компании при помощи ряда норм, которые будут повышать их готовность к сотрудничеству друг с другом и вызывать чувство групповой идентичности. Японцы — непревзойденные мастера в этом искусстве, они посылают своих подчиненных на жестокие коллективные обучающие тренировки, которые испытывают стойкость и создают узы взаимной зависимости.
Один из наиболее важных источников социального капитала в современных обществах — образовательная система, которая в большинстве стран обеспечивается государством как общественное благо.
Фукуяма Ф. Великий разрыв. Человеческая природа и воспроизводство социального порядка. 211-229 c.339-357
Хайєк Фрідріх Август фон (1899-1992) - австро-англійський економіст і філософ, один з основоположників неоавстрійської школи в політичній економії, класик сучасного лібералізму. З 1918 р. - студент Віденського університету, де вивчав право, економіку, філософію і психологію. Доктор права і доктор політичних наук. В 1927-1931 рр. - директор Австрійського інституту по дослідженню кон’юнктури; у 1931-1950 рр. - професор політичної економії і статистики Лондонської школи економіки; у 1950-1962 рр. - професор соціальних наук і етики Чіказького університету; у 1962-1968 рр. - професор економічної політики Фрейбурзького університету; з 1969 р. - професор-консультант Зальцбурзького університету. У 1974 р. удостоєний Нобелівської премії з економіки - «За основоположні роботи з теорії грошей і економічних коливань і глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ».
Оновні твори: "Дорога к рабству" (1944), "Контрреволюция науки" (1952), "Закон, законодательство и свобода" (1973-1979), "Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма" (1988).
У перші роки наукової діяльності Хайєк займався переважно проблемами теорії грошей, капіталу і економічного циклу. У подальшому багато уваги приділяє полеміці з представниками соціалістичної ідеології, вважаючи її цілі принципово нездійсненними, такими, що ведуть до тоталітаризму. Згідно з Хайєком, тоталітаризм є неминучим наслідком спроби перенесення на суспільство принципів, за якими функціонують так звані «свідомо побудовані порядки» - організації типу фабрики чи армії, що створюються із наперед визначеною метою за відповідним планом. Однак розвиток суспільства у цілому являє собою складний процес еволюції і взаємодії «спонтанних порядків» - соціальних інститутів, моральних традицій і практик, що складаються без чийогось наміру і не піддаються координації з єдиного центру. Координація діяльності індивідів у рамках «спонтанних порядків» здійснюється шляхом дотримання універсальних правил поведінки з одночасним наданням індивіду певної сфери автономії.
Гарантіями такої автономії, що дозволять використовувати «розсіяне знання» - розмаїття знань і навичок окремих людей - є інститути індивідуалізованої власності і приватного підприємництва, політична і інтелектуальна свобода, верховенство права. Широке поширення цих інститутів, згідно з Хайєком, стало результатом еволюційного відбору, що забезпечив, як виявилось, випереджаючий ріст чисельності і багатства саме тих спільнот, що дотримувались цих принципів. Протягом усієї своєї наукової діяльності Хайєк виступав проти державного втручання в економіку, лишаючись одним з найбільш переконаних прихильників лібералізму. Довгий час його погляди розцінювались як старомодне дивацтво. І лише з середині 70-х років ХХ століття послідував сплеск інтересу до його творчості.
 2015-03-22
2015-03-22 1076
1076








