Ф. появляется на той ступени истории культуры, когда в связи с развитием общественных отношений начинается разложение мифологического сознания, существовавшего в родовом и раннем классовом обществе (см. Мифология). Мифологическое сознание определяет мировоззрение, к-рое в чувственно-наглядной форме рисует картину мира как поля действия антропоморфных сил; в этой картине человек занимает вполне определенное «естественное» место актера, играющего традиционно установленную роль. Развитие разделения труда, прогрессирующее отделение умств. труда от физического приводит к разрушению традиц. связей, а вместе с тем — и к кризису мифологич. мировоззрения. В новых условиях (напр., в др.-греч. полисе) «место» человека определяется в значит, степени не традицией и связанными с ней нормами жизни, а собств. активностью человека, причем успех его целенаправленной дея-
тельности зависит от того, сумеет ли человек охватить существующие независимо от него и не укладывающиеся в рамки господствующего обыденного сознания реальные связи окружающей его динамич. социальной обстановки. Все это и создает предпосылки для появления сознательно теоретич..отношения к миру, противопоставления субъекта и объекта, причем субъект отличает себя от мира уже не в качестве одного из актеров, участвующего в от века заведенной игре по раз навсегда фиксированным традиц. правилам, а в качестве деятеля, сознательно относящегося к плану своей деятельности, т. е. делающего его предметом спец. исследования и сопоставления с какими-то внешними по отношению к этому плану критериями.
|
|
|
Первые филос. системы возникают более или менее одновременно в культурах Индии, Китая, Др. Греции. В соответствии со спецификой этих типов культуры существ, особенностями отмечены и созданные в нх рамках филос. системы. Однако их роднит общее понимание осн. черт Ф. По имеющимся лит. памятникам это понимание легче и полнее всего прослеживается в европ. традиции.
Античность создала термин «Ф.»и формулировала ее принцип, проблематику, наметила возможные пути ее решения и в связи с этим выделила осн. филос. направления: прежде всего материализм и идеализм, но также и такие значимые для последующей Ф., как эмпиризм и рационализм (хотя точнее говорить о тенденциях к эмпиризму и рационализму в античной Ф.), скептицизм и антискептнцизм, номинализм и реализм, этические гедонизм, утилитаризм, ригоризм, формализм и т. д. Первые антич. философы противопоставляют мифологич. картине мира космологич. теорию, отличающуюся как принципиальным изгнанием всех антропоморфных элементов из объяснения, так и самой установкой на логич. обоснованность этого объяснения. Фактически в построениях этих философов — ионийских натурфилософов, Гераклита, элеа-тов, Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита — уже содержится рефлексия как над мифом, так и над обыденным знанием, ибо всякая попытка принципиально отличить от этих последних (как заблуждений или только «мнений») Ф. в качестве истинного знания необходимо предполагает наличие определ. критериев оценки знания и степени его соответствия реальности. Для построения космологич. теорий используются рационально-логнч. формы, однако по своему содержанию, по осн. схеме эти теории нередко обнаруживают значит, зависимость от мифологии, а сами первые филос. системы — это не только логич. конструкции, но и в значит, мере продукт поэтич. фантазии.
|
|
|
В качестве развернутой, сознающей себя критич. рефлексии над мифологией и обыденной жизнью, пытающейся выделить предельные основания знания и деятельности, Ф. выступает лишь начиная с Демокрита, софистов, Сократа и Платона. Будучи нацелена на выявление предельных оснований, Ф. в качестве особого для нее метода пользуется анализом типов обыденного и мировоззренч. рассуждения и типов деятельности, пытаясь вскрыть неосознаваемые предпосылки этих рассуждений и деятельности. Ф. пытается прийти к выявлению таких несомненно достоверных основ, к-рые могли бы служить точкой отсчета для понимания и оценки всего остального (напр., вооружить точными критериями для отличения истинного знания от мнения, доброго поступка от не являющегося таковым). Поэтому филос. знание выступает не просто в виде логически упорядоченной и догматически заданной схемы, а необходимо принимает форму развернутого обсуждения, последоват. продвижения по пути анализа различных образований культуры (знания, этич. деятельности, а впоследствии
334 ФИЛОСОФИЯ
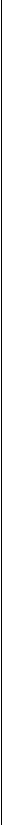 науки, иск-ва), сознат. формулирования всех трудностей этого анализа, критпч. сопоставления и оценки различных путей решения этих трудностей, предлагаемых разными школами. Уже здесь фиксируется, что в Ф. важен не только достигнутый результат анализа, но и путь к этому результату, ибо путь и является в Ф. специфич. способом обоснования результата. Отсюда вытекает и та принципиальная роль, к-рую в Ф. играет критика иных филос. концепций (это особенно видно на примере Платона).
науки, иск-ва), сознат. формулирования всех трудностей этого анализа, критпч. сопоставления и оценки различных путей решения этих трудностей, предлагаемых разными школами. Уже здесь фиксируется, что в Ф. важен не только достигнутый результат анализа, но и путь к этому результату, ибо путь и является в Ф. специфич. способом обоснования результата. Отсюда вытекает и та принципиальная роль, к-рую в Ф. играет критика иных филос. концепций (это особенно видно на примере Платона).
Античная Ф. прошла длит, путь развития, что определяет существ, различия созданных ею систем. Это особенно касается различий между досократовской Ф. и философией Сократа, Платона, Аристотеля. Если для досократиков характерен стихийно-матерна-листич. натурализм, к-рый еще сознательно не решает осн. вопроса Ф., то у Демокрита п Платона материализм и идеализм уже противостоят друг другу, а в позднеантич. эпикуреизме и неоплатонизме их антагонизм достигает особой остроты. Если антпч. Ф. классич. периода мыслила человека в единстве с полисом, то эллинистически-римская Ф. склонна искать достижения счастья на путях индивидуализма. Если для первых философов в центре внимания находится космос, то позднеантич. мысль устремляется в сторону человека, пытаясь выявить осн. условия его благополучия. Если первоначально Ф. совершенно не отдифференцирована от конкретно-науч. знания, то в конце античности она существует уже как особая форма духовной культуры.
Вместе с тем при всех существ, различиях филос. систем античности им свойственны нек-рые общие черты, обусловленные их принадлежностью к одной Социально-экономич. формации и единому культурному комплексу. Прежде всего, античная Ф. в целом носит космологически-онтологич. характер. Теоретико-познавательная и этич. проблематика не существует сама по себе, вне рамок онтологич. системы. Исключение здесь составляют софисты, сократшш, скептики. Но, хотя эти школы оказали серьезное воздействие на античную и последующую Ф., взятые сами по себе, а не как момент др. систем, они выступали как форма разложения философствования.
|
|
|
Хотя в антпч. Ф. в развернутой форме обсуждается ряд проблем теории познания, в ней отсутствует спе-- цифич. проблема Ф. нового времени — проблема соединения знания и внешней реальности, внутр. субъективного переживания и объективной действительности. С этим же связано и отсутствие в антич. Ф. представления о личности как духовном субъекте, принципиально отличном от др. личностей и от онтологич. реальности. «...Человек здесь — это отнюдь не свободная духовная индивидуальность, не неповторимая личность; он, согласно античным представлениям, п р и р о д н о повторим во всей своей индивидуальности» (Лосев А. Ф., История античной эстетики, 1963, с. 60).
Принципиальную роль в античном филос. мышлении играет подчеркивание моментов пасспвно-созер-цат. схватывания реальности, выступающей как нечто очевидно-данное познающему субъекту. Логически-дедуктивное развертывание теоретпч. филос. системы исходит как из отправного пункта из этих созерцаемых данностей. Не случайно греч. слово «теория» букв, означает «созерцание». Даже с т. зр. античных идеалистов мышление не может творить мир из ничего, ибо всегда имеет дело с нек-рым преднайденным материалом (этим идеалисты античности отличаются от идеализма нового времени). Идеи в понимании Платона творят организованный космос лишь в той мере, в какой они взаимодействуют с миром небытия, материи, понимаемой как нечто хаотическое, смутное, текучее, но тем не менее реально существующее.
У Аристотеля активные формы внедряются в пассивно противостоящую им материю. Человеч. активность осмысляется только как деятельность по некоторой перегруппировке природных веществ, она мыслится как вписанная в структуру космич. целого и не создающая принципиально новой реальности. Не случайно все этпч. рецепты античности ориентированы не на творч. преобразование природной и социальной реальности, не на создание новых возможностей, а на жизнь сообразно с природой, космосом, данным.
|
|
|
Характерная особенность антич. этики состоит в ее подчеркнутом интеллектуализме: мудрец, познавший структуру бытия, не может не вести себя достойно. Поэтому связь между этикой и космологич. онтологией не внешняя, а глубоко органичная.
В антич. Ф. выработана первая историч. форма диалектики, понимание к-рой достигло такого уровня, к-рый позволил выразить логич. переходы категорий бытия п небытия, тождества и различия, прерывного и непрерывного, единого и многого, формы и материи, возможности и действительности и др. В то же время изменение мыслится не как процесс прогрессирующего развития, совершенствования, а скорее как такое движение, к-рое имеет место в рамках заданного целого, нек-рой, вообще говоря, не динамической, а статич. структуры космоса. Отсюда широкое распространение в Ф. идей о вечной повторяемости, о циклах изменения («мировой пожар» Гераклита и стоиков, вечный круговорот переселения душ у Платона п неоплатоников). Время рассматривается не как самая глубокая характеристика действительности, а скорее как форма внешнего обнаружения какой-то иной сущности; оно не считается чем-то принципиально необратимым (характерно понимание времени Платоном как подвижного образа вечности). Отсюда отсутствие ориентации на будущее в филос.-этич. рецептах античности (см. Древнегреческая философия).
Если в социально-экономич. плане особенности теоретпч. мысли средневековья гл. обр. зависели от феод, уклада жизни, то духовной силой, к-рая определяла в эпоху ср. веков как ценностные ориентации, так и регулятивные принципы знания, была христ. религия. Поэтому и в патристике — первом этапе развития Ф. средневековья, и в выросшей из нее в 7—8 вв. схоластике филос. рефлексия о предельных основаниях бытия (как и все знание) оказывается подчиненной теологии. Вместе с тем существенно, что хрнст. схоластика и по способам философствования, и по осн. решениям сохраняет преемств. связь с античной Ф. Поскольку догматы христианства наиболее адекватно постигаемы в откровении, постольку филос.-рацион, знанию ставились определ. рамки и запреты, к-рые не вытекали, из имманентных характеристик самого знания, а противоречили ему, вступали с ним в определ. конфликт. То или иное осознание этого конфликта вынуждало церковь оставлять определ. место для развития рацпонально-филос. мысли, хотя даваемое ею опосредствов. познание бога признавалось второстепенным по своему значению. Именно в силу зависимости Ф. от теологии материалистич. линия не получала развития в эту эпоху, хотя тенденция к материализму представлена, напр., в номинализме.
Отношение Ф. и теологии, роль рацион, познания бога по-разному истолковываются в филос. концепциях, развиваемых в русле католицизма и православия. В силу пантеистически-онтологич. направленности православие и связанная с ним византийская Ф. отводит решающее место непосредств. созерцанию, интуитивному схватыванию сверхъестеств. божеств, сущности. Внутри зап. Ф. нет единого истолкования взаимоотношения Ф. и теологии, что определяется и уровнем социального п культурного развития, и сие-
ФИЛОСОФИЯ
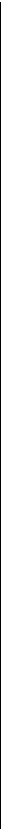 цифич. модификациями христианства в концепциях разных ср.-век. орденов. Если Ансельм Кентербе-рийский считает, что истины, добытые разумом и противоречащие авторитету свящ. писания, должны быть отвергнуты, то П. Абеляр, к-рый пытался рационалистически обосновать христианство, отстаивает мысль о необходимости сначала исследовать с помощью разума религ. истины для того, чтобы судить, заслуживают ли они веры. Если францисканско-августинов-ское направление (Бонавентура и др.) отдает приоритет созерцанию, экстатич. погружению в глубины духа, то доминиканское направление (Альберт фон Боль-штедт, Фома Аквинский и др.) разграничивает области фнлос. и теологич. размышления и по предмету (Ф. направлена на сущее, теология — на спасение), и по источнику (Ф. вырастает из разума, теология — из веры), и по цели (филос.-теоретич. созерцание стремится к знанию ради знания, теология же, будучи практич. дисциплиной, рассматривает знание как средство спасения). Подчеркивая примат веры над знанием в исследовании истин откровения, в размышлении о боге как первосущем, томизм сохраняет опред. автономность филос. постижения бытия, его специфич. цели и функции. В учении Дунса Скота тенденция к независимости знания от веры, освобождения филос. рефлексии от рамок авторитета и откровения выступает еще более резко.
цифич. модификациями христианства в концепциях разных ср.-век. орденов. Если Ансельм Кентербе-рийский считает, что истины, добытые разумом и противоречащие авторитету свящ. писания, должны быть отвергнуты, то П. Абеляр, к-рый пытался рационалистически обосновать христианство, отстаивает мысль о необходимости сначала исследовать с помощью разума религ. истины для того, чтобы судить, заслуживают ли они веры. Если францисканско-августинов-ское направление (Бонавентура и др.) отдает приоритет созерцанию, экстатич. погружению в глубины духа, то доминиканское направление (Альберт фон Боль-штедт, Фома Аквинский и др.) разграничивает области фнлос. и теологич. размышления и по предмету (Ф. направлена на сущее, теология — на спасение), и по источнику (Ф. вырастает из разума, теология — из веры), и по цели (филос.-теоретич. созерцание стремится к знанию ради знания, теология же, будучи практич. дисциплиной, рассматривает знание как средство спасения). Подчеркивая примат веры над знанием в исследовании истин откровения, в размышлении о боге как первосущем, томизм сохраняет опред. автономность филос. постижения бытия, его специфич. цели и функции. В учении Дунса Скота тенденция к независимости знания от веры, освобождения филос. рефлексии от рамок авторитета и откровения выступает еще более резко.
Поскольку предельные ориентиры человеч. знания и деятельности заключены, согласно христианству, в боге, постольку всей культуре средневековья присуща устремленность ввысь, от земли к небу. В основе ср.-век. миросозерцания лежит идея творения: вся природа представляется как проявление божеств, мудрости, как символич. выражение определ. отношения бога к человеку. Со схоластикой связано оттачивание логич. аппарата (к-рое вызвано в т. ч. и сложностью строения самой теологии), а также изменение способа филос. рассуждения. Развив аристотелевскую логику, схоластич. диалектика делает преобладающими дискурсивнорассудочные способы обоснования знания, когда с самого начала сталкиваются противоположные тезисы, приводятся аргументы в пользу одного из них, обсуждаются контраргументы. Одна из существ, особенностей всей ср.-век. культуры состоит в консервативности, догматичности и авторитарности ее системы ценностей. Это объясняет идейную нетерпимость к ересям, возникающим внутри ортодоксальной теологии.
В связи с направленностью христианства на поиски новых форм регуляции социального поведения человека ср.-век. Ф. стремится осмыслить внутренние личностные механизмы оценки — совесть, религиозный мотив, самосознание. Перенос центра тяжести на личностную ориентацию смог обеспечить не только громадное влияние христианства, но и устойчивость тех социальных форм, к-рые положили в свое основание проповедуемые христианством ценности. Это способствовало формированию нового типа личности, к-рая ориентирована внутрь себя, нового ее отношения к природе и к др. людям. В ср.-век. Ф. человек впервые удостаивается того, что он сам может достичь единства с богом. Будучи высшим творением бога, он стоит в центре всего мироздания и впервые начинает рассматриваться как самоценная личность. Конечно, эта тенденция представлена непоследовательно, поскольку она сопрягается с допущением трансцендентного надчеловеч. существа.
Аксиологич. пафос христианства более всего выражен в идее спасения. Филос. размышление в значит, мере направлено на рацион, осмысление лучших вариантов достижения спасения. Вопрос о свободе человека принял в ср.-век. Ф. своеобразную форму вопроса о происхождении зла и о предопределении. В про-
тивовес фаталистич. позиции двойного предопределения (Готшальк и др.) Эригена отстаивает идею простого предопределения, связывая зло не с богом, а с человеч. деятельностью. Альберт фон Болыптедт и Фома Аквинский усматривают существо свободы человека не в подчинении необходимости, а в том, чтобы нравств. поступки определялись совестью и свободным выбором человека, основанным на знании.
С антропологией и онтологией, развиваемыми в русле христианства, тесно связано своеобразное видение истории. Представление о циклич. времени, характерное для греко-рим. культуры, замещается фпна-листскпм восприятием времени, истолкованием движения мира от его сотворения к концу. Благодаря этому природный и человеч. мир обретает в ср.-век. мысли направленность. Трактовка времени как линейного, устремленного в нек-рую перспективу, связывает ср.-век. культуру с культурой нового времени. Однако в ср. века мышление мало интересуется зависимостью событий от земных дел и причин, рассматривает историю под углом зрения трансцендентной божеств, цели.
Ф. эпохи Возрождения, в отличие от Ф. средневековья, ориентирована не на потусторонний мир, а на посюстороннее, земное бытие. Такая переориентация во многом была связана с духовными движениями, порожденными реформацией, фиксировавшей падение политич. влияния п авторитета церкви. Интересы этого времени сосредоточены на поиске новых материков, открытии новых стран и т. д. Становление бурж. отношений формирует новый тип личности, в к-ром на первый план выдвигаются инициативность, предприимчивость и пр. Ф. воссоздает эти новые представления о человеке.
Новая антифеод, концепция человека основывается на представлении о том, что ценность личности определяется ее собств. делами. Идеалом Возрождения является человек, понятный как героическое, тита-нич. существо, как человекобог. Полемизируя с трактатом Иннокентия III (1198—1216), Дж. Манетти называет свою работу «О достоинстве и превосходстве человека». Пико делла Мнрандола отстаивает мысль о том, что человек творит самого себя; Ф. призвана помочь ему достичь гармонии, очистить душу от страстей, осознать свою самоценность. Эта же линия находит выражение в эпикуреизме Л. Баллы, в творчестве Ф. Рабле, в критике ср.-век. аскетизма у Дж. Бруно и Монтеня.
В этой связи Возрождение развивает и новое представление о природе. Хотя эта эпоха еще не во всем порвала со средневековьем, однако она стремится выявить «естеств. причины», осмыслить единство мира и естественности всех происходящих в нем процессов. Ф. этого времени отрицает существование надприрод-ных сил. В эпоху Возрождения возникает натурфилософия как попытка объяснить природу, исходя из нее самой (Дж. Кардано, Б. Телезио, Дж. Бруно), раскрыть ее вечность и бесконечность. Филос. мысль стремится понять единство человека и природы, что выражается в идее микрокосма как высшего средоточия всех сил макрокосма. В эту же эпоху формируется представление о материи как активной дпна-мич. бесконечной субстанции. Критикуя схоластику, Ф. Возрождения отвергает арпстотелпзм и обращается к неоплатонизму, к его пантеистич. онтологии (Фичино, Николай Кузанский, Дж. Бруно и др.). Возрождение решительно отвергает почтительное отношение к традициям и авторитетам в области методов Ф., противопоставляет дедуктивной силлогистике, схоластич. диалектике новое понимание метода. Б. Телезио видит исходный пункт познания в опыте, а Дж. Бруно — в сомнении; единств, авторитет для него — разум и свободное исследование. Филос. мысль Возрождения
ФИЛОСОФИЯ
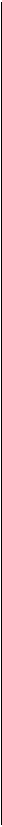 выдвигает принцип методологич. плюрализма, согласно к-рому способы познания определяются предметами исследования и не могут быть ограничены авторитетом свящ. писания. Эпоха Возрождения породила свободный стиль философствования, причем любая система (даже в мысли) воспринималась как стесняющая личность. Это своеобразие стиля нетрудно заметить у Пико делла Мирандолы, у Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарротн, Монтеня.
выдвигает принцип методологич. плюрализма, согласно к-рому способы познания определяются предметами исследования и не могут быть ограничены авторитетом свящ. писания. Эпоха Возрождения породила свободный стиль философствования, причем любая система (даже в мысли) воспринималась как стесняющая личность. Это своеобразие стиля нетрудно заметить у Пико делла Мирандолы, у Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарротн, Монтеня.
В Ф. Возрождения утопия впервые выступает как особый тип социального мышления. Т. Мор, Т. Кам-нанелла строят идеальную модель такого общества, где каждый человек в полной мере проявляет своп способности, активно участвует во всей обществ, жизни, в создании культуры, причем «город солнца» считается реально существующим, обнаруженным путешественниками. В этой антиутопич. направленности утопий проявляется «земная», посюсторонняя ориентация всего мышления этого времени.
К 16—17 вв. вся европ. культура подверглась глубочайшим трансформациям, соцнально-экономпч. выражением к-рых явилось утверждение капиталис-тич. обществ, строя. Главная из этих трансформаций связана с радикальным изменением характера социальной практики. Социально-культурные истоки этого изменения коренятся в сдвигах, порожденных эпохой реформации и отразивших серьезную духовно-ценностную переориентацию европ. цивилизации. Если классич. христианство ориентировало социальную активность человека прежде всего на сферу духовной жизни, на поиски спасения души, то протестантизм выразил аксиологически существенно иной идеал, признав правомерность и важность направления активности человека на повседневное, практич. бытие. Эта новая ориентация привела к тому, что социальная практика утратила свойственный ей прежде устой-чиво-цнклич. характер, ее определяющим моментом начала становиться направленность на продуктивную, преобразовательную деятельность.
Такое изменение характера практики явилось гл. источником, к-рый питал развитие науки нового времен и: именно наука оказалась необходимым средством рационализации практики, а в качестве такого средства она не только получила стимул к развитию, но и стала превращаться во все более значимый компонент культуры. С возникновением новоевроп. науки утвердилась такая форма познават. деятельности, для к-рой характерен постоянный кумулятивный рост, подкрепляемый совершенствованием производства и др. форм социальной практики на основе результатов науки. Благодаря этому наука начала выступать как высшая ценность, как осн. ориентир жизнедеятельности человека. Именно эта ориентация на науку как на высшую ценность и составляет главную особенность Ф. нового времени. Это непосредственно обнаружилось в разработке этико-гуманистич. проблематики. С одной стороны, наследуя и развивая традиции Возрождения, Ф. нового времени (не без влияния протестантизма) возводит в высший этпч. принцип утилитаризм и строит, начиная с Бентама, его многочисл. обоснования, острие к-рых направлено на оправдание и мобилизацию практич. активности человека. С др. стороны, этич. концепции проникнуты пафосом Просвещения, глубочайшего убеждения в том, что только искоренение невежества и распространение света науч. знания могут привести к подлинному нравств. совершенству человека. Эта линия рационализации этики, подчинения ее развитию науч. познания особенно характерна для материализма нового времени начиная с Ф. Бэкона.
Те же исходные принципы кладутся и в основание большинства социально-филос. и политич. концепций. Здесь опять-таки надо отметить ведущую роль пред-
ставителей материализма: и «Левиафан» Гоббса, и социально-филос. учения франц. материалистов представляли собой наиболее разработанные попытки построить объяснение осн. устоев общества, исходя из представления о разумности, естественности этих устоев. Правда, сами эти представления были далеки от материализма, но их формулирование позволило перевести обсуждение социально-филос. проблематики в рационально-теоретич. план, а практич. действенность такого обсуждения была подтверждена эпохой бурж. революций.
Однако наиболее полно и глубоко изменение взглядов на Ф. и ее задачи выразилось в том, что центральной в Ф. стала задача обоснования знания и способов его получения. Учение о познании стало не только особым, но и наиболее важным разделом филос. систем нового времени. Ориентация на науку и филос. осмысливание путей и принципов науч. познания приняли две крайние формы, сообразно тому, что само развитие науки осуществлялось либо в форме развития опытного естествознания, опирающегося на эксперимент, либо в форме построения теоретич. систем, подчиненных строгим правилам логич. вывода и однозначности результатов. Опора на опытное естествознание как на эталон получения достоверного знания породила эмпиризм, причем на первых этапах его развития, отмеченных печатью оптимизма, гл. роль в нем играли материалистич. направления (Ф. Бэкон, Гоббс, Локк), а позднее, по мере обнаружения ограниченности опыта и субъективно-психологич. возможностей индивида, на передний план начинают выходить концепции, основанные на скептицизме (Юм) и субъективном идеализме (Беркли). Антитезой эмпиризму явился рационализм, принявший за эталон не первоисточник, а принципы организации науч. знания и потому ориентировавшийся прежде всего на математику. Насколько велико было обаяние строгой формы ма-тем. вывода, показывает способ построения системы Ф. у Спинозы.
Во мн. случаях ориентация на науку принимала в Ф. слишком прямолинейные формы, отражая наивный субстанционализм самого естествознания (это особенно касалось попыток объяснить социальные и психич. феномены на основе прямого заимствования положений механики, включая и привлечение различного рода «сил» в качестве объяснит, принципа) и узость его методологич. постулатов. В условиях, когда над Ф. довлели вековые споры схоластов о природе свободы воли, особенно подкупающим был принцип однозначной причинной зависимости, на к-ром покоилось практически все естествознание той эпохи. При этом в ряде случаев слишком универсальная и ригористич. трактовка принципа однозначного детерминизма приводила к унылым картинам в лапласовском духе, в к-рых Ф. оказывалась лишенной собств.проблематики.
Однако наиболее крупные филос. системы удерживали специфич. функцию Ф. и, не ограничиваясь простым комментированием и прямым приложением к Ф. данных науки, исследовали проблему принципиального обоснования и выявления пределов науч. познания. В лице этих систем Ф. выступила по отношению к науке, как и к др. формам обществ, сознания и жизнедеятельности человека, в функции орудия критики, способствующего развитию и совершенствованию методологии познания. Новая ориентация Ф. получила наиболее полное выражение у Декарта. Картезианское сомнение явилось первой формой радикальной критики субъективно-психологич. основ всякого познания. За различением дедукции и интуиции у Декарта стояло не только различение двух способов получения знания, но и противопоставление того, что заключено в природе и способе организации знания, и того, что заключено в природе самого субъ-
ФИЛОСОФИЯ
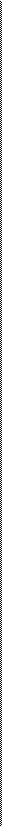 екта познания. Тем самым перед Ф. впервые в рациональной форме была поставлена проблема предпосылок познават. деятельности. На основе анализа специфики гносеология, отношения характерное для предшествующей Ф. противопоставление человека и мира в онтологич. плане было заменено противопоставлением субъекта и объекта, к-рое знаменовало утверждение совр. гносеологии и стало одной из центр, проблем всей последующей Ф. Следует, однако, отметить, что отсюда же возникла и тенденция к гно-сеологизму, свойственная практически всей Ф. 17 — 19 вв. и приведшая к утрате этой Ф. онтологич. проблематики. Сохраняя ориентацию на науку и в связи с этим, в частности, отдавая дань господствовавшему в ней механицизму, Декарт вместе с тем сумел подняться над наличными формами естеств.-науч. знания и увидеть их недостаточность для решения коренных филос. проблем. Это нашло выражение в противопоставлении им двух субстанций — мыслящей и протяженной. Хотя с т. зр. основного вопроса Ф. это вынудило его встать на позиции дуализма, однако этот дуализм выступил у него как форма сохранения специфически филос. позиции, утверждения невозможности решить все филос. проблемы в опоре только на наличные средства естествознания. Из того же дуализма в конечном счете выросло противопоставление двух типов мышления — конкретно-научного и спекулятивно-теоретического; оно стало одной из характерных черт всей Ф. нового времени и воспроизводится в совр. бурж. Ф., в частности, в форме борьбы сциентизма и антисциентизма. Проблема субъектнвно-психологич. предпосылок познания обсуждалась после Декарта в форме столкновения сформулированного им нативизма и выдвинутой Локком концепции tabula rasa. Что же касается опыта как источника познания, то эта проблематика подверглась особенно детальной разработке в англ. эмпиризме. Локк сформулировал учение о первичных и вторичных качествах, что позволило указать те ограничения, к-рые накладываются на познание психологич. особенностями субъекта. Благодаря юмовскому скептицизму была осознана недостаточность апелляции к психоло-гистекп толкуемому опыту как простому взаимодействию активного объекта и пассивного субъекта. До логич. предела гносеология эмпиризма была доведена в солипсизме Беркли.
екта познания. Тем самым перед Ф. впервые в рациональной форме была поставлена проблема предпосылок познават. деятельности. На основе анализа специфики гносеология, отношения характерное для предшествующей Ф. противопоставление человека и мира в онтологич. плане было заменено противопоставлением субъекта и объекта, к-рое знаменовало утверждение совр. гносеологии и стало одной из центр, проблем всей последующей Ф. Следует, однако, отметить, что отсюда же возникла и тенденция к гно-сеологизму, свойственная практически всей Ф. 17 — 19 вв. и приведшая к утрате этой Ф. онтологич. проблематики. Сохраняя ориентацию на науку и в связи с этим, в частности, отдавая дань господствовавшему в ней механицизму, Декарт вместе с тем сумел подняться над наличными формами естеств.-науч. знания и увидеть их недостаточность для решения коренных филос. проблем. Это нашло выражение в противопоставлении им двух субстанций — мыслящей и протяженной. Хотя с т. зр. основного вопроса Ф. это вынудило его встать на позиции дуализма, однако этот дуализм выступил у него как форма сохранения специфически филос. позиции, утверждения невозможности решить все филос. проблемы в опоре только на наличные средства естествознания. Из того же дуализма в конечном счете выросло противопоставление двух типов мышления — конкретно-научного и спекулятивно-теоретического; оно стало одной из характерных черт всей Ф. нового времени и воспроизводится в совр. бурж. Ф., в частности, в форме борьбы сциентизма и антисциентизма. Проблема субъектнвно-психологич. предпосылок познания обсуждалась после Декарта в форме столкновения сформулированного им нативизма и выдвинутой Локком концепции tabula rasa. Что же касается опыта как источника познания, то эта проблематика подверглась особенно детальной разработке в англ. эмпиризме. Локк сформулировал учение о первичных и вторичных качествах, что позволило указать те ограничения, к-рые накладываются на познание психологич. особенностями субъекта. Благодаря юмовскому скептицизму была осознана недостаточность апелляции к психоло-гистекп толкуемому опыту как простому взаимодействию активного объекта и пассивного субъекта. До логич. предела гносеология эмпиризма была доведена в солипсизме Беркли.
В развитии линии рационализма франц. материалисты подчеркнули роль рацион, познания как фактора разумной организации обществ, жизни; через эту призму рассматривается ими и сама сущность Ф. У Спинозы Ф. выступает как картина единого здания миропорядка, в согласии с законами к-рого только и может быть построена разумная жизнь человека. В системе Лейбница, одной из самых значительных для этой эпохи, наибольшее значение для последующей истории Ф. имела впервые выраженная в четкой форме идея преемственного развития, хотя непосредств. формулировка этой идеи была ограничена тезисом о предустановленной гармонии. У Лейбница же впервые выражается идея внутр. активности субъекта, ставшая фундамент, принципом нем. классич. Ф. и задавшая новое направление подходу к проблеме субъекта и объекта; эта идея связывается Лейбницем с введенным им понятием бессознательного, открывшим новые пути анализа сознания. Развитие науки и ориентация на нее Ф. открыли путь к освобождению Ф. от влияния теологии, а осознание относительности, ограниченности наличных форм науч. познания потребовало от Ф. критич. отношения и к самой науке, к господствующему в ней метафизич. способу мышления (см. Метафизика). Из этой сложной переориентации возникла и известная двойственность Ф. С одной стороны, она тяготела к построению грандиозных систем, к-рые не
только опирались на данные науки, но и выступали для последней в качестве всеобъемлющей картины мира, определяющей общее направление и методоло-гнч. принципы развития познания, а с др.— ограниченность механицизма привела к расколу и противопоставлению конкретно-научного и спекулятивно-теоретич. мышления, причем в большинстве случаев именно второе понималось как специфическое для Ф.
Развивая установку на анализ отношения субъекта п объекта как осн. задачу Ф. и идею активности субъекта в мышлении, нем. классическая Ф. обогащает эту проблематику новыми подходами. Деятельность самосознания рассматривается здесь как конструктивная, а не как репродукция преднай-денного содержания, к чему в конечном счете приходит нативизм нового времени. Все содержание духа, с т. зр. немецкой классич. Ф., наиболее полно в этом смысле выраженной Гегелем,— результат его продуктивной творч. работы. Субъект (в пределе) — не просто активность, он — созидание, имманентное творчество. Нем. Ф. избавляется от всех «психофизио-логич.» отклонений в понимании проблемы субъекта и объекта, отказывается от схемы, согласно к-рой носителем «духа» оказывается отд. телесный индивид, противопоставленный природе. Если субъект и рассматривается как «конечное самосознание», т. е. как живой самосознающий индивид, то его окружением оказывается не только и не столько неодушевленная и культурно не обработанная природа, сколько внешний по отношению к нему социальный мир. Центр, темой нем. классич. Ф., т. о., является вопрос: как возможен субъект, осуществляющий свободную деятельность, т. е. активность, определяемую полагаемыми субъектом целями, а не системой извне данных «объективных» обстоятельств, будь то давление неор-гашгч. природы, воздействие органич. потребностей или требования внешней социальной среды. Можно сказать, что предметом Ф., как его понимают представители нем. классич. идеализма, является деятельность как «последнее основание» всей системы отношения человека к действительности. Но в целом эта Ф. не сумела дать науч. понимания деятельности, т. к. «...идеализм... не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 1).
Выдвижение проблемы деятельности, понимаемой как активность духа, нельзя объяснить только имманентными филос.-теоретич. факторами. Нем. классич. Ф. представляла собой идеологию общества, в к-ром существовала объективная потребность бурж. преобразований, но не было реальной социальной силы, способной осуществить эти преобразования революц. путем. Отсюда тенденция согласовать идеал (к-рый представляет собой не что иное, как превращенные, согласно известному определению классиков марксизма, в чистые самоопределения свободной воли материально мотивированные определения воли франц. буржуазии) с действительностью не в процессе реального действия,— поскольку для такого действия, во-первых, нет условий, а, во-вторых, оно приводит к незапрограммироваиным следствиям, подрывающим фактически цель действия,— а в акте мысли, в «идеальном плане». Анализ сознания как деятельности начинается в нем. классич. идеализме уже с Канта. Исходный пункт его Ф.— рефлексия над имеющимся филос. знанием («Как возможна метафизика?»). Эта рефлексия предполагает наличие определ. понятий, с позиции к-рых можно было бы судить о филос. знании. Поскольку метафизика претендует на роль науки, встала задача выяснить, в чем же состоит научность вообще. Так «Критика чистого разума» становится теорией науч. знания. Выясняется, что теоретич. (научное) знание, т. е. знание, претендующее на изоб-
ФИЛОСОФИЯ
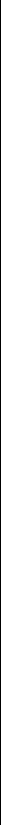 ражение объекта, как он есть сам по себе, представляет собой результат деятельности сознания. При этом сознание, «трансцендентальное единство апперцепции», по Канту, не есть абстрактная активность души, наряду с к-рой существуют те или иные предметы знания,— понимание, к-рое не преодолел Декарт. В сознании нет ничего, чего не было бы в знании, и наоборот, в знании нет объективных определений, к-рые не были бы определениями «трансцендентального единства самосознания». Кант, т. о., преодолевает тот «психофизиологич.» оттенок в понимании субъекта, к-рый имеется еще у Декарта. Субъект Канта — это не абстрактная «душа» с абстрактной «свободой воли», а субъект знания, культуры, субъект духовного освоения мира.
ражение объекта, как он есть сам по себе, представляет собой результат деятельности сознания. При этом сознание, «трансцендентальное единство апперцепции», по Канту, не есть абстрактная активность души, наряду с к-рой существуют те или иные предметы знания,— понимание, к-рое не преодолел Декарт. В сознании нет ничего, чего не было бы в знании, и наоборот, в знании нет объективных определений, к-рые не были бы определениями «трансцендентального единства самосознания». Кант, т. о., преодолевает тот «психофизиологич.» оттенок в понимании субъекта, к-рый имеется еще у Декарта. Субъект Канта — это не абстрактная «душа» с абстрактной «свободой воли», а субъект знания, культуры, субъект духовного освоения мира.
Отсюда следует, что последние основания Ф. должна обнаруживать не в области знания, рассматриваемого как образ мира, а во взаимоотношении субъекта и объекта, как оно проявляется в деятельности сознания. Ф. должна, по Канту, выявлять не абс. истины о мире, выступающие как «предельные основания» всякого опыта, а условия и основания самого опыта, коренящиеся в деятельности сознания,— «запредельные», по отношению к опыту, основания.
Как известно, такой подход приводит Канта к тому, что метафизика оказывается незаконной претензией на теоретич. знание: оставаясь в рамках «опыта», обусловленного взаимодействием сознания с данным извне материалом и тем самым носящего конечный, огранич. характер, она стремится сформулировать знания, предполагающие попытку встать над «опытом». Ф. возможна лишь как критика знания, как сфера действия трансцендентального метода. В этой позиции Канта заключались уже известные возможности той интерпретации Ф., к-рые были реализованы Фихте и дальнейшим развитием нем. классич. идеализма. Поскольку кантовская «критика» приводит к опре-дел. суждениям о природе сознания как особой действительности, у Ф. может быть свой предмет — деятельность «духа».
Отрицая возможность теоретич. познания «последних сущностей», поскольку это предполагает завершение опыта, познание «вещи в себе», Кант в то же время признает имманентное стремление теоретич. сознания к решению этой задачи. Теоретич. сознание, ставя себе такую задачу, превращается из «рассудка» в «разум». Дуализм «рассудка» и «разума» — это дуализм «свободы» и «необходимости» в пределах теоретич. познания. По Канту, реализовать свободу в пределах теоретич. отношения к действительности нельзя. Свобода возможна только в сфере волевого акта, там, где подчинение причинности сменяется целесообразной деятельностью «практич. разума», реализующего цели, не оправдываемые в опыте, но тем не менее необходимо присущие человеку как нравств. существу. Это и превращает человека из объекта среди др. объектов в субъект, из средства в самоцель, а Ф. нравственности становится органически связанной с теорией познания. Т. о., для Канта свобода и необходимость — понятия, обозначающие фактически различные способы ориентации субъекта, разные способы отношения к действительности.
У Фихте отказ от кантовского дуализма сознания и «вещи в себе» связан с попыткой реализации программы имманентного развертывания сознания, построения теоретич. модели сознания как некоей внутренне развивающейся системы. Сознание, по Фихте, должно объяснить все свое содержание из самого себя, не прибегая ни к каким внешним факторам. Важнейшим положением учения Фихте является тезис о том, что «объект», «чувственная данность», «природа», «несвобода» — все то, что противостоит свободной самодеятельности субъекта, как некий внешний предел,
как препятствие («не-Я» в терминологии Фихте), есть лишь негативность самого «Я», его граница, его остановка в деятельности. «Не-Я» существует не субстанционально, а лишь в той мере, в какой «Я» бездействует, пассивно останавливается в своей деятельности. Кардинальной темой учения Фихте является тема субстанциальности деятельности, субстанциальности свободы, отрицание предела свободной деятельности. Фихте впервые в нем. Ф. в рамках своего взгляда на деятельность в развернутом виде формулирует основные черты диалектич. метода, к-рый описывается Фихте как метод последоват. разрешений противоречий, возникающих в конечном счете в противостоянии «Я» и «не-Я» за счет выхода за пределы данного этапа этого противостояния путем расширения горизонта «Я» в процессе конструирования нового понятия. Диалектич. метод является, т. о., развитием и конкретизацией трансцендентального метода. Для Фихте, отрицающего «вещь в себе» как принципиальный предел сознания, теряет смысл противопоставление «конститутивной» функции рассудка «регулятивной» функции разума и предметом филос. сознания оказывается само сознание как «последняя сущность», как «вещь в себе» в ноуменальном смысле. Это превращение сознания из «вещи в себе» в «вещь для себя», в самосознание, и есть, по Фихте, раскрытие его подлинной природы как субстанциальной свободной деятельности — Ф., становясь «наукоучением», становится «метафизикой свободы», т. е. учением о свободе как о «последней сущности мира». Однако эта «последняя сущность мира» не является тем или иным видом бытия вроде платоновских идей, аристотелевских форм и т. п., а деятельностью, беспрестанным процессом реализации свободы, т. е. преодоления внешней данности. «Субстанция как субъект» — вот осн. тезис учения Фихте. Снятие «не-Я», преодоление независимости объекта субъектом осуществляется уже в пределах «теоретич. разума». Однако теоретич. разум есть, так сказать, только подготовка к позиции сознания на стадии практич. разума. Именно на этом этапе сознания развертываются подлинные возможности субъекта; деятельность на высоте ее развития — это целеполагающая деятельность, преобразующая наличное бытие («сущее») в соответствии с определенными идеалами («должное»). Для Фихте природа, объект представляет собой только средство реализации внешних для них целей, заложенных в нравств. сознании. Концентрируя внимание на реализации нравств. идеалов, Фихте поставил в центр интересов свободу как «причинность через цель», т. е. понятие деятельности. Вместе с тем это понятие выступает у Фпхте еще в узких рамках реализации нравств. идеала, с сильной тенденцией к субъективистскому активизму в обоих случаях и навязыванием «природе», «материи» чуждой ей человеч. цели. Своей концепцией «субстанции как субъекта» Фихте фактически утвердил в Ф. ту мысль, к-рую впоследствии разделял и Гегель: в культуре нет ничего, что было бы просто дано, все есть результат деятельности, реализации каких-то целей субъекта посредством переработки, «снятия» внешней данности объекта. Какова, однако, основа этого совпадения цели с объектом, почему объект, природа подчиняются этой формообразующей деятельности субъекта, какова, если угодно, «метафизическая гарантия» реализации человеч. целей? Не случайно Гегель прямо упрекает Фихте за то, что знание о совпадении объекта п субъекта последний понимает как веру в нравств. миропорядок (см. Соч., т. 11, М. — Л., 1932, с. 476). Для представителей поздней нем. классич. Ф., переживших крах своих юношеских идеалов и испытавших на собств. опыте всю сложность и трагедийность пути к реализации того, что они считали «нравств. миропорядком», субъективи-
ФИЛОСОФИЯ
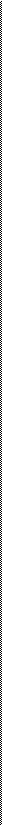 стский активизм Фихте не был уже решением вопроса. При этом дуализм субъекта и объекта как дуализм человека и природы вел к противопоставлению учения о человеке и учения о природе, последняя лишалась всякой самостоятельности и выпадала из рамок филос. анализа.
стский активизм Фихте не был уже решением вопроса. При этом дуализм субъекта и объекта как дуализм человека и природы вел к противопоставлению учения о человеке и учения о природе, последняя лишалась всякой самостоятельности и выпадала из рамок филос. анализа.
Шеллинг и Гегель стремятся преодолеть дуализм человека и природы, сущего и должного, разума и мира, но преодолеть так, чтобы отнюдь не ставить под сомнение идею субстанциальности свободы. «Абсолют» Шеллинга — это единство природы и «интеллигенции».
Однако, в отличие от Канта и Фихте, противопоставляющих сознание и природу, Шеллинг п Гегель становятся на позиции монизма, способом обоснования к-рого является для них объектнвно-пдеалнстпч. принцип тождества субъекта и объекта. «Деятельная сторона», о к-рой говорил Маркс в «Тезисах о Фейербахе», субъективность рассматриваются ими не как что-то чуждое объекту, наличной действительности, а как способ движения и развития самой действительности, как способ существования «субстанции», как проявление природы самой субстанции (разумеется, субстанция, действительность, бытие трактуются при этом объективно-идеалистически).
В рамках этой общей для Шеллинга и Гегеля объек-тивно-идеалистич. концепции тождества субъекта и объекта Гегель, как известно, выступает против основанного на акте интеллектуального созерцания постулирования этого тождества. С т. зр. Гегеля, оно должно быть доказано, логически обосновано. Гегель предпринял грандиозную по своему замыслу попытку филос. систематизации всего содержания выработанной человечеством культуры как в историческом, так и в логич. плане, что в его системе является лишь двумя различными формами выражения одного и того же процесса диалектич. саморазвития духа. То исторпч. чутье Гегеля, о к-ром писали классики марксизма, дало ему возможность проследить в рамках своей системы известные реальные исторпч. связи; однако сама идея спекулятивного снстемосозндания с неизбежностью приводила вместе с тем ко всякого рода ис-кусственностям и натяжкам, к созданию видимости диалектич. выведения одних явлений из других, тогда как на самом деле диалектич. схема произвольно накладывалась на чисто эмпирич. последовательность явлений. Выявив реальные черты диалектич. метода, Гегель в то же время подверг диалектику пдеалистич. мистификации, превратил ее в средство обоснования объективно-идеалистич. тезиса о тождестве бытия и духа. Задача сознания, по Гегелю,— вырваться в такую область, где оно преодолеет всякое противостояние внешнего объекта и из «свободы в себе» станет «свободой для себя». Такой областью является Ф., теоротич. понимание всей истории человечества как деятельности духа по выработке все более адекватных ого природе «образов», в к-рых бы все более воплощалось единство субъективного и объективного. По достижении этого этапа развитие духа, собственно, заканчивается: «субстанция — субъект» познала самое себя, поняла свою собств. природу, ликвидировала в принципе противостояние субъекта «не-Я». В конечном счете «абс. дух» достигает своего самосознания в философии Гегеля, а венцом социального развития оказывается Разумное государство, земным воплощением к-рого у Гегеля выступает совр. ему прусское государство. Эти реакц. стороны философии Гегеля — результат не только его примирения с существующими порядками, но и «ложь принципа», по выражению Маркса, прямое следствие идеалнстич. си-стемосозидательства.
Критику идеализма Гегеля с материалистич. позиций дал Фейербах, Ф. к-рого оказала большое воз-
действие на формирование филос. взглядов Маркса и Энгельса. Фейербах показал, что «абс. дух» Гегеля есть не что иное, как абстрактное логич. мышление, оторванное от его реального носителя — живого, телесного, «земного» человека — и превращенное в абсолют, что мышление, идеальное не может противопоставляться природе, чувственности, а есть продукт природы. Исходными для понимания Фейербахом Ф. являются антропология и психология. Вместе с тем критика Фейербахом идеализма Гегеля и всей предшествующей Ф. носит ограниченный характер, т. к. он не понял соцпально-историч. природы человека, не уловил рацион, смысла гегелевской диалектики, толкуя ее лишь как рационализированную теологию.
Рус. революц. демократы (Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов и др.) в своем понимании Ф. не смогли преодолеть ограниченности своей социально-классовой позиции, хотя п двигались в направлении соединения материализма с диалектикой. Эту задачу решил лишь марксизм, к-рый критически переосмыслил весь опыт прежней Ф. и сумел дать принципиально новое решение вопроса о предмете Ф.
Для развития бурж. Ф. в 20 в. характерно постоянное ощущение кризисного состояния всех наличных форм культуры, неустойчивости самих основ социальной жизни. Решающим фактором стала борьба социа-листич. и бурж. идеологий, к-рая развертывается па фоне научно-технич. революции, приводящей, в частности, к изменению статуса науки в системе культуры, к развитию средств массовой коммуникации. При этом важен не только рост технич. могущества человека, но и тот факт, что эксплуатация человеком природы ставит новые острые проблемы. Этот процесс сопровождается ощутимым кризисом оснований естествознания, к-рый в его начальной фазе был подмечен рядом мыслителей и особенно глубоко проанализирован Лениным. На рубеже 19—20 вв. ряд проявлений кризиса бурж. общества стал предметом осознания в самой зап.-европ. Ф. В этой связи очень остро встала проблема определения сущности Ф. и ее места в системе культуры. Характерный для всей бурж. Ф., начиная с сер. 19 в., беспрестанный поиск специфики филос. знания, его предмета п методов коренится в стремлении определить, чем может и должна быть Ф. в условиях кризиса основ бурж. культуры. Это стремление приводит к появлению большого количества концепций, направлений, школ, однако никому из них не удается выдвинуть конструктивную и более или менее приемлемую для бурж. Ф. в целом программу. Этот плюрализм отражает противоречивость, конфликтность, разорванность совр. бурж. культуры, отсутствие исторпч. перспективы, невозможность выработать убедительную систему идеалов п ценностей. Несмотря на характерную для всех этих направлений установку подняться выше противоположности материализма и идеализма, все они по существу продолжают пдеалистич. линию в Ф. и противостоят марксистско-ленинской Ф.
Для осн. направлений Ф. 2-й пол. 19 в. характерно резкое осознание факта распадения единства культуры. Многообразие компонентов культуры, существовавшее всегда, но к концу 19 в. принявшее форму внутр. конфликтности и антпномичности, ставит проблему поиска единых оснований культуры. Естественно, что разные направления ищут эти основания разными путями и с различных филос. позиций. Так, неокантианцы баденской школы усматривают единство т. н. европейской культуры в наличии общих для нее духовных ценностей, воплощаемых в различных сферах культуры — религии, искусстве, нравственности, науке; Ф. же, по их мнению, призвана выступать носителем и выразителем системы этих ценностей в ее це-
22*
 2015-05-06
2015-05-06 291
291








