На протяжении долгого времени «Отелло» воспринимали как самую простую, лишенную символических смыслов шекспировскую трагедию, основанную на современной семейно-бытовой новелле и обладающую наибольшей историко-географической конкретностью. Такое понимание определило как сценические трактовки трагедии, так и получившие широкое распространение литературоведческие концепции. Ф. Р. Ливис, один из самых влиятельных западных филологов XX в., опровергая мнение своего не менее влиятельного предшественника Э. С. Бредли, рассматривавшего «Отелло» как «поэтическую драму» или «драматическую поэму» \ считает эту трагедию лишенной «туманных глубин, метафизической ауры, символической многозначности». Он называет трагедию «простейшей» и исследует ее с психологической точки зрения.
А. Блок одним из первых увидел в трагедии «Отелло» за психологической драмой современности яркую символику, глубинный «тайный смысл» \ ту самую «метафизическую ауру», в которой позднее откажет этой трагедии Ф. Р. Ливис. Он увидел окружающие главных героев мистерийные ореолы: «необыкновенное сияние» «несказанной сущности» Дездемоны и «темный огонь», который «светится изнутри» Яго. Блок впервые сказал о том, что в драме «Отелло» есть «все элементы мистерии». Мистерия бытия, заключенная в этой трагедии, и составляет ее «тайный смысл».
|
|
|
Мистерия, находясь в едином жанровом ряду с мираклем и моралите и обладая некоторыми общими с ними чертами (общий источник — ранняя литургическая драма, общая смысловая основа — столкновение противоположных нравственных понятий, морализаторская тенденция и т. д.), выделяется прежде всего тем, что воплощает вечную борьбу добра и зла в образах библейской и евангельской мифологии: Бога и Сатаны, неба и преисподней, ангелов и демонов. Эта борьба и является сюжетной основой мистерии. Арена столкновения этих сил — душа человека.
Характерные для мистерии образы ангела и дьявола выражали нравственные представления средневекового и ренессансного человека, его мировоззрение в целом. В традиционных, хорошо знакомых образах христианского мифа народ мыслил мир и представлял его на подмостках. Известно, что главная цель подобных зрелищ была нравоучительной: отрешись от зла и обратись к добру, научись различать добро и зло, не путай Бога с дьяволом как в мире, так и в своей душе. По сути дела, мистерия ставила и решала в универсальных образах христианской мифологии в яркой зрелищной форме коренные проблемы бытия.
Это свойство мистерии позволило придать самому литературному термину расширительное значение — «действа» человеческой жизни в мировом столкновении добра и зла («мистерия бытия», «мировая мистерия»). В этом смысле и «Божественная комедия» Данте, и «Потерянный рай» Милтопа, и «Фауст» Гёте, и «Каин» Байрона — мистерии. Это значение не отмечено пока специальными словарями и энциклопедиями, хотя оно широко реализуется в XX в. как художниками, так и литературоведением.
|
|
|
У нас, к сожалению, мало изучен феномен возрождения мистерийного сознания в конце XIX — начале XX в., оказавший большое влияние на новейшую литературу. Характерное для этой эпохи ощущение стихийной силы происходящих мировых процессов, их связи с известными мировыми законами, эсхатологические настроения, усилившиеся на грани веков, а также в канун первой мировой войны и революции в России, находят свое выражение в мистерийных образах и представлениях. С этим связано воскрешение средневековой мистерии в жизни (постановки «Мистерии Страстей Господних» перед собором Парижской богоматери, в южно-германской деревне Обераммергау и в некоторых других местах Западной Европы) и переосмысление старого жанра в новом искусстве (драмы Метерлинка, романы-мистерии Т. Манна, синтезирующая все виды искусств «Мистерия» Скрябина, «Мистерия-буфф» Маяковского и др.) \
Блок, как и многие его современники наделенный чувством мистерии, соотносил с нею свой поэтический мир. Мистерийность приобретает огромное значение в его творчестве, которое в совокупности представляет драму человеческой жизни, трагический путь «вочеловечения» вопреки силам зла, разлитого как в «макрокосме» (во Вселенной), так и в «микрокосме» (в самой человеческой душе). Блока интересует мистерия и как историко-литературный феномен. Пик этого интереса падает на 1907— 1908 гг., когда он работает над переводом «Действа о Теофиле» Рютбефа и собирает материал для книги по истории театра.
Универсальность поэтического мышления Блока, его склонность к мифопоэтическим обобщениям проявляются не только в его собственном творчестве, но и в восприятии им классики, и, прежде всего Шекспира. Не случайно именно Блок увидел мистерию там, где ее раньше не замечали. Характерное для символизма стремление возвести живые жизненные реалии к христианскому мифу как универсальному воплощению первооснов человеческого бытия помогает Блоку проникнуть сквозь многие слои шекспировской драмы — исторический, социальный, психологический, семейно-бытовой, бытийный — в «тайный» — мистерийный — смысл трагедии «Отелло». Если Шекспир в свое время шел по пути преодоления средневековой обнаженности мистерийной сути, облекая действие драмы и ее героев в плоть и кровь, Блок-символист совершает обратное движение — к первоначальным мистерийным смыслам.
Блоковская концепция трагедии «Отелло» восходит к романтическим интерпретациям, рассматривавшим Яго как воплощение мирового зла (Колридж, Хэзлит, Лэм). Вместе с тем Блок предвосхитил новейшие зарубежные трактовки Шекспира, предложенные мифокритикой. По если современные мифокритики рассматривают «Отелло» исключительно в свете мифопоэтической символики («Яго — демон, а не человек»), то Блок, воспринимая эту трагедию как мистерию, видит в ней взаимодействие вечного и вечно актуального, возможного во все эпохи и во всех уголках света, то, что можно увидеть сейчас «на улице». Он говорит, что в трагедии Шекспира все «чудовищно похоже» на действительность. Однако «натуралистическому подходу» сам Блок предпочитает «романтический». Только такой подход он считает наиболее плодотворным, позволяющим обнаружить «тайный смысл» трагедии и несущим ожидаемое от трагедии «очищение». Блок тонко и точно показывает механизм слияния жизненной бесспорности персонажа с его символическим ореолом.
|
|
|
Блок также почувствовал и увидел жанровую природу мифопоэтики Шекспира, генетическую ее основу, ее этимологию, ее органическую связь с театральными жанрами, которые еще были живы во времена Шекспира и из которых выросла новая драма.
Статья Блока, таким образом, внесла важный вклад в шекспирологию. Но линия, намеченная Блоком в прочтении трагедии «Отелло», не получила развития в исследованиях советских шекспирологов. О мистерийности этой трагедии не говорили и западные исследователи Шекспира, хотя они и рассматривали ее с точки зрения мифопоэтики.
Задача данной работы — продолжить направление, указанное Блоком, проявить увиденный им «тайный смысл», т. е. рассмотреть под углом зрения мистерии жанрово-сюжетные корни трагедии «Отелло», ее структуру и поэтику, символические ореолы главных персонажей, проблему конфликта. Необходимо сразу оговорить, что мистерийный аспект выделен и обособлен сознательно. Этот определенным образом сфокусированный анализ не посягает на традиционный подход к шекспировской драме, принятый в нашем литературоведении, не исключает ее социально-исторических и психологических трактовок, а, наоборот, предполагает следующий этап в изучении трагедии «Отелло», предметом которого должно стать рассмотрение взаимодействия всех указанных пластов шекспировской драмы.
* * *
Сюжет об оклеветанной жене, который мы трижды встречаем у Шекспира (в комедии «Много шума из ничего», в трагедии «Отелло», в трагикомедии «Цимбелин») и который шекспирология возводит к итальянской новеллистике (Д. Чинтио, Боккаччо), был широко распространенным, своего рода «бродячим» сюжетом, получившим популярность через миракли. Известен миракль о маркизе де ля Годин, муж которой, уезжая на войну, поручил свою жену заботам дяди. Дядя, не получив удовлетворения в своих притязаниях на молодую женщину, оклеветал ее в письме к мужу. Тот потребовал, чтобы неверную жену убили. В миракле об испанском короле Отоне муж спешит домой, чтобы убить свою ложно обвиненную жену. Заступницей ей встает Богоматерь. Итальянские новеллисты, видимо, обрабатывали эти уже готовые сюжеты мираклей.
|
|
|
В средневековом представлении сложился главный треугольник: оклеветанная жена, злодей-клеветник и введенный в заблуждение муж. Образ злодея-клеветника в новой драме восходит к определенному типу шута — злобного циника, а тот, в свою очередь,— к образу дьявола.
Сюжетная схема «Отелло», таким образом, генетически восходит к мираклю. Старый сюжет, перенесенный в реальную конкретно-историческую обстановку, как у Шекспира, сохраняет свои старые смыслы, свои ассоциативные связи.
Обратимся теперь к расстановке персонажей в трагедии. В центре — три героя: Отелло, Дездемона, Яго. Двое из них — Дездемона и Яго — воплощают мистерийное противостояние добра и зла. Отелло — между ними. Если наложить этот треугольник на мистерийную схему, то получим: Яго — дьявол, Дездемона — ангел, Отелло — человек.
Дездемона, излучающая свет душа, сама гармония, противостоящая хаосу, заключает в себе божественное начало. Она «снизошла» на Отелло «и осенила его духом святым». Ее связь со светлыми сферами рая раскрывается в самом тексте: «the divine Desdemona»; «thou young and rose-lipped cherubin»; «heavenly true»; «the more angel she», etc. В тяжелые для нее минуты она обращается за помощью к небесным силам: «О heaven forgive us!»; «heaven pardon him!»; by this light of heaven»; «Then Lord have mercy on me!».
Сюжетно-композиционпое место героини подтверждается и ее именем. Оно взято из новеллы Чинтио, где звучит как Дездемона. Этимологически этот вариант восходит к древнегреческому dysdaemon, которое переводят как злосчастная, несчастная. Это значение находим и в шекспировских словарях собственных имен. В тексте трагедии имя героини получает расшифровку в словах Отелло:
О девочка с несчастною звездою!
Если разложить это имя на составные части: dys (древнегреч. приставка со значением отрицания, противоположности) и daimon (древнегреч. божество, дух, гений), то дословно переводим: оставленная божеством, без покровительства божества. В христианскую эпоху слово daimon приобрело прямо противоположное значение. То, что было языческим божеством, стало христианским демоном, бесом. Имя героини теперь могло прочитываться в прямом значении, которое наложила на это слово эпоха, т. е. без дьявола, противостоящая дьяволу и Яго — демоническая фигура, которая, по словам Блока, светится «иным, темным огнем», окружена «черным сиянием»: «...руководят действиями Яго темные силы;...мир устроен так, что не могут не выступить на сцену темные силы там, где началась мистерия; оттого, что на путях, уготованных господу, не может не начаться дьявольская работа... Дьявол не может не будить хаоса».
Большинство исследователей сосредоточивают усилия на проблеме мотивов ненависти Яго к Отелло. Но все мотивы, которые можно найти в тексте, ничтожны для такой безмерной ненависти. Это не расовая ненависть белого человека к черному, потому что он ненавидит точно так же и Дездемону, и Кассио, и Родриго, и Эмилию. Яго издевается, водит за нос, предает, порочит абсолютно всех. Это не ревность, не зависть, не обида обойденного по службе человека. Макиавеллистом его тоже нельзя назвать, так как в его кознях и интригах нет эгоистической цели, прямой практической выгоды. Его ненависть бескорыстна. Его козни — своего рода искусство. Это какая-то утробная любовь к злу, и зло это тем неистовее, чем чище и выше объекты, на которые оно направлено.
На связь Яго с дьяволом указывает и тот факт, что его роль исполняли при первых постановках в гротескно-комическом стиле (рудимент комического представления черта в старой драме). Дьяволизм Яго прочитывается отчетливо в тексте трагедии. Пожалуй, ни в одной другой трагедии Шекспира нет столь частого упоминания слов и ругательств, связанных с инфернальной сферой, с дьяволом и преисподней: devil, satan, damned, damnation, hell и др. Абсолютное большинство этих ругательств извергается из уст Яго. Он клянется не небом, а адом, обращается за поддержкой к дьявольским силам, употребляет эти слова как междометия, в чисто ругательной функции: «Zounds, sir, you are one of those that will not serve God, if the devil bid you»; «Diablo, ho!»; «...hell and night //Must bring this monstrous birth to the world's light»; «Divinity of hell!» т. п. Он называет дьяволом Отелло за черный цвет его кожи. Дьяволом считает Отелло и Брабанцио, обвиняя его в черной магии и колдовстве. По мере того как Отелло все больше подпадает под влияние Яго, эта специфическая инфернальная лексика переходит к нему. Он произносит ругательства, проклятья. Ад и бездна разверзаются перед ним. Дездемону он называет прекрасной дьяволицей — «fair devil». Ее горячая и влажная рука — свидетельство того, что в плоть ее проник дьявол. После убийства Дездемоны Эмилия называет Отелло бесом. В финале открывается дьявольское лицо Яго. Дьяволом, исчадием зла, сатаной, искусителем-змеем — «this hellish villain»; «that demi - devil»; «that viper» — его называют все действующие здесь герои. Отелло, глядя на ноги Яго, видит копыта черта и понимает, что меч против дьявола бессилен. Он признает, что был во власти дьявольского наваждения:
А этому исчадью сатаны
Нельзя ль задать вопрос, с какой он целью
Моей душой и телом овладел?
Намек на дьявольскую природу Яго находим в его двуличии, способности казаться не тем, что он есть на самом деле, на своего рода оборотничество.
Проблема видимости, кажимости и сущности, которую ставит Шекспир и в других трагедиях, в «Отелло» приобретает чрезвычайно важную, сюжетообразующую роль. Проблема эта сформулирована Яго: «Все быть должны чем кажутся». Этой глубокомысленной сентенцией Яго подводит теоретическую базу под будущие сомнения Отелло. Произнесена она в отношении к Кассио, но мыслится уже другой объект — Дездемона.
Яго знает про себя, что он не тот, за кого его принимают. Не случайно он клянется двуликим Янусом. Обращаясь к Родриго, он говорит о себе:
Я — Яго, а не мавр, и для себя,
А не для их прекрасных глаз стараюсь.
Но чем открыть лицо свое, скорей
Я галкам дам клевать свою печенку.
Нет, милый мой, не то я, чем кажусь.
Слова эти, по традиции, восходящей к мистерии, рассчитаны на зрителя, который с самого начала должен знать, кто есть кто.
В дальнейшем Яго ревностно поддерживает свою репутацию «честного», непримиримого и нетерпимого ко злу человека и хочет заставить Отелло подозревать тех, кто истинны,— Дездемону и Кассио. Кассио не тот, кем он кажется, т. е. не честный и преданный офицер, а драчун, буян, пьяница; это версия, в которую Отелло должен поверить и поверил. Точно так же с Дездемоной. Пример Кассио должен заставить Отелло поверить, что невинный вид — это маска, прикрывающая ее порочные помыслы и дела.
Противопоставления рая и ада, Бога и Сатаны подчеркивает и укрепляет поэтическая ткань трагедии, проникнутая насквозь антитетичностью. Цветовые и световые контрасты призваны вы разить нравственные антитезы: добро — зло, правда — ложь, порок — добродетель. Не случайно в тексте иногда цветовые и нравственно-оценочные эпитеты подменяют друг друга: fair— black, white -foul.
Основу цветового контраста составляют чернокожий генерал и его светлолицая жена. Основу нравственного контраста — добро, заключенное в Дездемоне, и зло — в Яго. Внутренний контраст подключает к себе проблему видимости и сущности: мавр черен лицом, но светел душой; Яго светлокожий, но с черною, дьявольской душой. Итак, Отелло выделен уже тем, что он черный среди светлокожих европейцев. Когда он подпадает под демоническую власть Яго, он становится черен и внутри. Освобождение от дьявольского наваждения в финале возвращает свет душе Отелло. Внимательное чтение текста дает нам ответ еще на один дискуссионный в шекспирологии вопрос: что такое «Отелло», трагедия «ревности» или трагедия «обманутого доверия»? Виновен ли: Отелло, или он, как и Дездемона, жертва дьявольских козней? Ф. Р. Ливис на этот вопрос отвечает утверждением вины Отелло. Если в нем могло прорасти то, что проросло, то должны были быть семена. Трагедия и строится на «трагической вине» или «трагическом изъяне» героя, по Аристотелю. Героиня драмы «Цимбелин» не поверила клеветнику, так как верила беззаветно своему мужу. Ей это было тем труднее, что она была с ним в разлуке. А Отелло рядом с Дездемоной, он видит ее всю как на ладони (вспомним метафору из финала — белая жемчужина на черной руке мавра, жемчужина, которую он выбросил), Но мавр не верит тому, что видит и знает. Демон, разбуженный Яго, сделал свое дело.
В трагедии есть скрытая сквозная метафора сада, которая несет важную идейную и структурную нагрузку. Метафора эта начинается знаменитым высказыванием Яго о том, что душа человека — сад, и он сам в саду своей души садовник. От него зависит, расти ли там сорной траве или культурным растениям. 3-я сцена III акта происходит в саду Место действия в этой сцене, указанное в шекспировском тексте («Сад в замке» - «The garden in the castle», театры часто заменяют на «Перед замком». Даже Блок не увидел содержательно важной сквозной метафоры сада, и, редактируя перевод трагедии, подготовленный Н. Мишеевым, он снял мало удавшиеся переводчику слова Яго о саде души а также, выбросив 1-ю и 2-ю сцены III действия, сделал 3-ю сцену первой и назвал ее «Перед замком». Развернутую метафору сада, поросшего бурьяном, с беспорядочно разросшимися деревьями, зачервивевшего, с обрушенными изгородями, встречаем в хронике «Ричард II», где эта метафора раскрывает упадок в государстве, our sea-walled garden — наш сад, огражденный морями (Ш, 4, 43),—король которого плохой садовник ". В композиционном и сюжетно-событийном отношении эта центральная сцена трагедии.- Она велика по объему, по сценическому времени. Здесь действуют все ведущие персонажи: Дездемона, Кассио, Эмилия, Яго, Отелло. Начинается она с того, что Кассио надеется на заступничество Дездемоны, которая обещает ему быть ходатаем по его делу перед Отелло. В этой сцене Яго завладевает платком. Но главное — именно здесь, в этой сцене происходит перелом в ходе трагедии и в самом герое. По словам Пастернака, она занимает «место пружинной коробки в заводном механизме»: «...несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами...» Если в начале сцены Отелло во власти обаяния Дездемоны, ее света, чистоты, теплоты и уже знает, чем ему грозит утрата жены — «Люблю тебя, а если разлюблю, // Наступит хаос», — то к концу этой же сцены он доведен Яго до безумия, проклинает Дездемону, называет ее дьяволицей. Он «сдул с себя любовь» и отдался во власть ревности — «зеленоглазой ведьмы», ненависти, во власть ада. Хаос наступил. Отелло произносит клятву мщения. О Дездемоне он дальше скажет:
...чарующая сорная трава,
Благоухающая так, что больно.
Но сорная трава, т. е. неверие, ревность, ненависть, жажда мщения, буйно прорастает в душе Отелло. Только увидев эту последовательно развивающуюся метафору, можно понять, почему центральная сцена происходит в саду. В последнем акте есть еще один существенный отклик на этот сквозной образ — слова Отелло о сорванной розе:
Должна увянуть сорванная роза
Как ты свежа, пока ты на кусте!
В саду своей души Отелло сломил благоухающую прекрасную розу любви к Дездемоне и дал прорасти чертополоху. Зрители эпохи Шекспира без комментариев и разъяснений воспринимали эти символы. Символическое мышление, наследие средневековья, было развито в то время гораздо больше, чем у наших современников, которым к тому же, по словам Д. С. Лихачева, недостает философского и теологического образования.
К развернутой метафоре сада нужно отнести и землянику на злополучном платке. Земляника в садовой символике средневековья означала справедливость. В трагедии этот символ приобретает значение справедливого возмездия, ложно понимаемого Отелло и в конечном счете восторжествовавшего в отношении к Яго.
Тема справедливого возмездия звучит и в мыслях героя о загробном наказании. Решаясь на свою месть, Отелло все время помнит, что ему грозит:
...Разве я б посмел
Расправиться без важных оснований?
За это ада было б мало мне
И глубочайшей бездны бездн.
От Дездемоны он отводит ее святую ложь, когда она берет на себя вину за свою гибель:
Отелло. За эту ложь ее сожгут в геенне.
Ее убийца — я.
Эмилия. Тогда она
Тем больший ангел, чем ты больший дьявол.
А когда Отелло понимает, что совершил, то призывает на себя высшую кару:
...Холодна как лед.
|Как чистота сама. Убийца низкий,
Плетьми гоните, бесы, прочь меня
От этого небесного виденья!
Купайте в безднах жидкого огня!
Этот настойчиво повторяемый мотив суда, воплощенный в инфернальных образах мистерии, определяет и сюжетно-композиционный строй трагедии, включающий как точки наивысшего напряжения сцепы суда: суд венецианского сената над Отелло, якобы соблазнившим Дездемону, а также три суда в финальной сцене: неправый суд Отелло над Дездемоной, суд Отелло над самим собой и, наконец, суд-возмездие над Яго. На сцены суда как на еще один признак мистерии обратила мое внимание руководитель и режиссер молодежного театра-лаборатории «Тембр» Н. А. Косенкова.
Итак, сюжетно-комозиционное место Отелло — в центре между Яго и Дездемоной. В нем, в его душе перекрещиваются лучи света, исходящие от Дездемоны, и языки адского пламени, тот самого «темного огня», которым окружен Яго. В свете такой мистерийной расстановки персонажей мы вновь задаемся проблемой конфликта. Традиционно считают, что главный конфликт трагедии — это конфликт Яго и Отелло. Высказывались даже мнения, что Яго нужно рассматривать как главного героя. Дездемона воспринималась как орудие, средство, при помощи которого Яго губит Отелло, и одновременно — как жертва. М. Соколянский говорит о двух конфликтах: Отелло — Венеция, Отелло — Яго, указывая лишь мимоходом на «противоборство разных, в чем-то полярных начал в сознании Отелло». Но в этом последнем, как подсказывает мистерийное прочтение трагедии, и состоит главный конфликт. Он — в душе человека, поставленного между раем и адом, Богом и дьяволом. Отелло — носитель «трагической вины» — наказан, но и оправдан. «Он был во всем велик душой»,— говорит о нем Кассио. Это «ложная человеческая душа, способная на веру и неверие, любовь и ревность, нежность и ярость, на слепоту и высокое прозрение. И во всех этих проявлениях он поистине велик. Вот почему он поставлен Шекспиром в центр трагедии и его именем трагедия называется.
Итак, «Отелло» не простая бытовая трагедия, как казалось многим поколениям зрителей, актеров, критиков и историков литературы и театра. Ее символика сложна и восходит к первомифу мистерии. При этом скрытые мистерийные контуры трагедии «Отелло» не обедняют и не выпрямляют ее смысла, не оспаривают ее жизненной правдивости, ее тончайшего психологизма («психологический чертеж идеально точен» — Блок), не заслоняют ее конкретного исторического и социального содержания, но обогащают и заостряют ее философское звучание.
Есть основания утверждать, что мистерийность свойственна и другим трагедиям Шекспира. Художник такого размаха, такой силы и глубины, как Шекспир, не мог не вывести свои сюжеты на этот высший, универсальный уровень, обеспечивший им вечную жизнь и вечную актуальность. Тем более что он, человек, связанный культурными традициями средневековья, не мог не мыслить этими категориями. Названная проблема требует специального изучения.
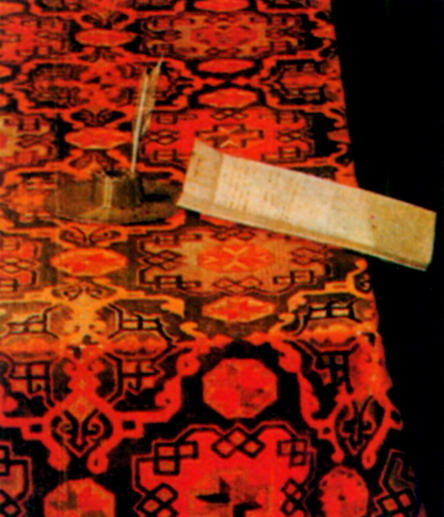
 2015-05-06
2015-05-06 1555
1555







