В ходе великих исторических событий и катаклизмов произошли перемены и на художественной карте Европы. Бывшим членам мюнхенского объединения «Синий всадник» 50-летнему Алексею Явленскому с Марианной Веревкиной и 48-летнему Василию Кандинскомус Габриэлой Мюнтерв августе 1914 годапришлось покинуть Германию и отправиться в Швейцарию. Явленский поселился в рыбацкой деревне Сен-Пре (Saint-Prex) на берегу Женевского озера и продолжал работать, а Кандинский после короткого пребывания в Швейцарии через Италию вернулся в Москву. После его отъезда Мюнтер вернулась в Мюнхен, а затем отправилась в Скандинавию, где находилась до 1920 года.
Ярчайшие представители немецкого экспрессионизма Август Маке и Франц Марк,также входившие вобъединение «Синий всадник», были мобилизованы и погибли. Последняя картина Маке под названием «Прощание» оказалась пророческой. 8 августа 1914 года Маке был призван в армию и погиб в бою 26 сентября в возрасте 27 лет. Франц Марк ушёл добровольцем на фронт и, уже разочаровавшись в этой войне, был убит осколком снаряда в ходе Верденской операции в возрасте 36 лет. Удивительно, сколь разными были взгляды на войну таких близких по творческому поиску художников как Кандинский и Марк. Последний был горячо убежден, что «войну нужно вести, чтобы зараженная кровь пролилась и очистила нас». Кандинский, который был старше на 21 год, писал Марку еще за 2 года до начала войны: «Ужасные перспективы могут легко стать бесконечными, и мерзкие последствия распространят свое гнусное влияние на длительное время по всей земле. И … горы трупов».
Восторженное отношение к войне испытывали в большинстве своем итальянские футуристы. Возмутители общественного спокойствия, издавшие свой манифест в феврале 1909 года в “ La gazzetta dell’Emilia”, а затем в парижской “Le Figaro”, они горячо поддержали начало мировой войны, увидев в ней символ очищения мира от прогнивших буржуазных ценностей. Буквально текст манифеста гласил: «Мы будем прославлять войну – единственную мировую гигиену – милитаризм, патриотизм, средства разрушения несущие свободу, прекрасные идеи, ради которых стоит умереть, и презрение к женщине». Для них война означала освобождение Италии от влияния Австро-Венгрии, за которое они уже несколько лет боролись собственными методами – публично срывая австрийский флаг с миланского театра и водружая итальянский, организовывая театрализованные уличные шествия за присоединение Италии к войне на стороне Антанты. Когда же Италия вступила в войну 23 мая 1915 года, многие футуристы под предводительством Филиппо Томазо Маринетти (Filippo Tommaso Marinetti), успевшего повоевать в 1911 в Ливии, записались добровольцами в ломбардский батальон велосипедистов и автомобилистов. Они участвовали в боях на озере Гарда, а затем на фронте у реки Изонцо.

Футуристы Антонио Сант’Элиа, Умберто Боччони, Ф.Т. Маринетти в военной форме. 1914
Война оказалось безжалостной, а участие футуристов в ней – печальным. Один из ярких лидеров движения Умберто Боччони (Umberto Boccioni) погиб в августе 1916 году в возрасте 33 лет, получив смертельную травму при падении с лошади. Архитектор Антонио Сант’Элиа (Antonio Sant’Elia) получил пулю в лоб, ведя бойцов в атаку в Карсо. По свидетельству Маринетти, на фронте погибли одиннадцать футуристов. Хотя сам он избежал подобной трагической участи, все же, сражаясь на фронте у реки Изонцо, 14 мая 1917 года был ранен осколками от взрыва гранаты и попал в госпиталь. С сентября 1917 года и до конца 1918 года он продолжал воевать, приняв участие в финальной победе в Витторио Венето. С фронта Маринетти вернулся 5 декабря 1918 года. Известный своими анархистскими взглядами, Маринетти не оставил своего увлечения политикой, а напротив, стал одним из первых и ярых сторонников итальянского фашизма и сподвижником Бенито Муссолини, в то время как другие футуристы, например композитор – «художник шума» Луиджи Руссоло (Luigi Russolo), был противником фашизма и в 1927-32 годах был вынужден жить в Париже. Творчество Джино Северини, написавшего в 1914-1915 годах весьма значимые картины на темы войны, после войны стало ассоциироваться с Возвращением к порядку (Return to Order). Вся дальнейшая история итальянского футуризма – это лишь вторая волна течения, не имевшая международного резонанса.
Если с началом войны распались и прекратили свое существовали такие художественные объединения как «Синий всадник» и «Мост», а итальянский футуризм после войны приобрел новые формы, то войне мы обязаны и возникновением новых художественных течений. Яркие тому примеры дадаизм и сюрреализм.
Достаточно большое количество художников, питавших отвращение к войне как таковой, обосновались в нейтральной Швейцарии. В Цюрихе группа германских и румынских поэтов и художников стала собираться в «Кабаре Вольтер» и устраивать там представления, шокирующие общественные вкус и граничащие с провокациями, выступая против буржуазной морали, образования, музеев, общепринятых ценностей. Новизна этого течения заключалась не в самоценности эпатажа, а в создании настоящей творческой лаборатории, в которой возникла абстрактная поэзия и новые формы изобразительного искусства (такие как, например, коллаж), где реализовывались сценические эксперименты, и где еще не было явной конкуренции и борьбы за лидерство.
Наиболее преданным сторонником дадаизма стал один из организаторов цюрихского отделения дада румынский художник и поэт Тристан Тцара (Tristan Tzara). Активными участниками движения были также основатель «Кабаре Вольтер», в недавнем прошлом режиссер и драматург Мюнхенского камерного театра Хуго Балль (Hugo Ball) и его подруга кабаре-певица Эмми Хеннингс (Emmy Hennings), Жан Арп (Jean Arp) и его будущая жена – танцовщица и дизайнер Софи Тойбер (Sophie Täuber), румынский художник Марсель Янко (Marcel Janco), немецкий поэт Рихард Хюльзенбек (Richard Huelsenbeck), режиссеры-экспериментаторы немец Ханс Рихтер (Hans Richter) и швед Викинг Эггелинг (Viking Eggeling). С июля 1917 года группа начала издавать литературно-художественный альманах, пять номеров вышли в Цюрихе и еще два в Париже. В 1918 году дадаисты представили публике свой первый манифест.
Распространению движения дада в Европе способствовали сохранившиеся связи между художниками, которые продолжали вести переписку, несмотря на плохое почтовое сообщение и неусыпную военную цензуру. Со свойственной ему внутренней свободой Франсис Пикабиа участвовал в выпусках цюрихских номеров альманахов, кроме того он издавал собственный журнал «391», перебравшись из нейтральной Швейцарии в нейтральную Испанию.
Еще одним художественным направлением, возникшим после войны в результате пережитых художниками эмоциональных потрясений, стал сюрреализм. Основоположник сюрреализма Андре Бретон провозгласил рождение нового течения только тогда, когда сошлись воедино все необходимые составляющие: опыт литературно-художественного движения дада; зрелость художников и поэтов, прошедших войну и переживших ужас личных утрат и потрясений, но не потерявших жажды творчества; первые ранние опыты «автоматического письма», бывшего предвестником нового движения; осмысление художественных возможностей, таящихся в подсознании, раскрыть которые можно только в экстремальных условиях. Безусловно, такими «идеальными» условиями могли быть только ужасы Великой войны, с которыми столкнулись совсем еще юные Андре Бретон, Филипп Супо, Луи Арагон, Макс Эрнст, Андре Массон, Джорджо де Кирико. Все сошлось, все совпало. И для Бретона именно его фронтовые товарищи стали соратниками в новом творческом направлении.
Андре Бретон был мобилизован 18-летним юношей в январе 1915 года, будучи студентом медицинской школы Сорбонны, где он изучал неврологию и психиатрию. Первоначально его направили в артиллерийскую часть, располагавшуюся вдали от фронта в Понтиви в Бретани (Pontivy). Затем он был приписан к военному госпиталю в Нанте, где служил стажером-медиком. Здесь, собственно, и началось его личностное становление. Он познакомился с одним из раненых солдат литератором Жаком Ваше (Jacques Vaché), лично знакомым с Альфредом Жарри (Alfred Jarry), автором популярных пьес о короле Убю, не потерявших актуальности и по сей день.
Узнав в одном из медицинских справочников о методах «психоанализа» Зигмунда Фрейда, Бретон попросил перевести его в неврологический центр в Сен-Дизьере (Saint-Dizier), который располагался вблизи от фронта на Верхней Марне, где управляющим был давний ассистент доктора Шарко (Jean-Martin Charcot). Там Бретон практиковал методики свободных ассоциаций Фрейда для лечения контуженых солдат. Находясь в непосредственном контакте с безумием, Бретон отказывался видеть в нем лишь отсутствие ментального здоровья, поскольку наблюдал у пациентов психлечебницы неординарные способности к творчеству.
20 ноября 1916 года Андре Бретон был направлен на фронт санитаром. По возвращении в Париж в 1917 году он продолжил службу в психиатрическом отделении госпиталя Val-de-Grâce вместе с другим студентом-медиком – Луи Арагоном, а санитаром там служил Филипп Супо (Philippe Soupault), тогда же познакомивший Бретона с Аполлинером. Аполлинера перевели в Валь-де-Грас после перенесенной трепанации черепа благодаря ходатайству местного санитара, художника-кубиста Сергея Ястребцова, более известного как Серж Фера (Serge Férat). Так что, знакомство кубизма с сюрреализмом произошло именно в Валь-де-Грас. Впоследствии Бретон говорил, что «будь Аполлинер жив, он был бы с нами». Вместе со своим бывшим сослуживцем по госпиталю поэтом Филиппом Супо в 1919 году Бретон изобретет «автоматическое письмо», ставшее ярким проявлением первых шагов сюрреализма. В течение нескольких послевоенных лет эти молодые люди являлись представителями парижского отделения движения дада, издавая литературно-художественный журнал «Littérature» и организовывая скандальные поэтические вечера.
Одним из основоположников живописного сюрреализма был Андре Массон, энтузиаст и приверженец автоматического рисования (Automatic drawing), сделавший огромное количество рисунков ручкой и чернилами. Если Бретон наблюдал со стороны особые творческие способности у раненых и отравленных газами пациентов психиатрических отделений военных госпиталей, то Массон сам был таким пациентом, в течение двух лет находясь на излечении в госпиталях и психиатрических клиниках после тяжелого ранения, полученного в апреле 1917 года в возрасте 21 года. Всю жизнь Массона продолжали мучить физические боли, ночные кошмары и бессонница. Зная о проявлении особых способностей в экстремальных ситуациях, Массон часто сам вводил себя в транс, работая после длительного голодания или отсутствия сна, а иногда и под влиянием наркотиков. Он считал, что состояние ограниченного сознания поможет освободить его искусство от рационального контроля и сделает ближе к работе подсознания. Такие эксперименты с подавлением рационального сознания Массон проводил и совместно с другими художниками и поэтами Антоненом Арто (Antonin Artaud), Мишелем Лейрисом (Michel Leiris), Хуаном Миро (Joan Miró), Жоржем Батаем (Georges Bataille), Жаном Дюбюффе (Jean Dubuffet) и Жоржем Малкином (Georges Malkine), чьи студии и жилища находились по соседству с его мастерской в Париже.
Война создала благодатную почву для развития сюрреализма как литературно-художественного движения, имеющего тонкую и сложную внутреннюю организацию. Все кто стоял у его истоков, прошли войну и смотрели на мир другими глазами. Сюрреализм не был придуман «от головы», он возник из системы познания скрытых доселе человеческих возможностей.
Сам термин естественным образом родился у гениального Аполлинера, который, казалось, заранее знал об искусстве авангарда всё (собственно, и понятие «авангард», заимствованное из лексикона военной науки, впервые использовал применительно к литературе и искусству тот же Аполлинер). По многолетней традиции он писал вступительные статьи к каталогам своих друзей-кубистов и в предисловии к либретто балета «Парад» Жана Кокто на музыку Эрика Сати назвал этот балет «сюрреалистическим».
Надо сказать, что с началом войны перестал быть прежним и видоизменился кубизм. Он, как и экспрессионизм в Германии и футуризм в Италии, дискредитировал себя в глазах многих художников и критиков как результат слишком «бесстыдного уровня абстракции». Кубизм потерял многих своих сторонников. Но, например, Леже оставался ему верен и в годы войны. 28 марта 1915 года он писал свой будущей жене Жанне Лои (Jeanne Lohy): «Можешь сказать всем этим идиотам, которые спрашивают, кубист я или нет и стану ли им по возвращении: да, больше чем когда-либо! Потому что нет ничего более кубистического, чем война, где человека разрывает на несколько кусков, и они разлетаются по всем частям света».
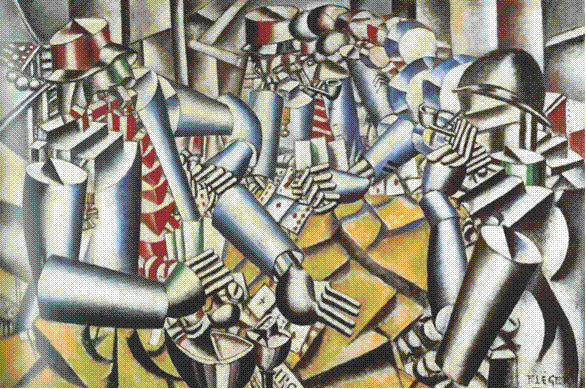
Фернан Леже. Игра в карты. 1917
 2015-05-18
2015-05-18 388
388








