Уставшие от анонимности барачной жизни, жители барака № 8 в Магнитогорске прикрепили рядом со входом вывеску со списком всех живущих в нем. В нем указывались их имена, отчества и фамилии, год рождения, место рождения,- классовое происхождение, профессиональное занятие, членство в комсомоле или партии (или от -сутствие такового) и место работы. Как объяснял инициатор: «Когда был написан список, например, когда было написано, что Степанов, арматурщик, комсомолец, ударник, выполняет производственную программу на столько-то процентов, работает на строительстве доменного цеха - сразу получается впечатление у незнакомого товарища - какой состав людей здесь живет» [2]. Подобные акты самоидентификации стали обычным явлением и охватили все общество.
При изучении рабочих царской России главной задачей было объяснить, как произошло, что «за период меньше чем 60 лет рабочие самой политически "отсталой" европейской страны превратились из маленького сегмента касты крепостных крестьян в самый революционный и сознательный в классовом отношении пролетариат в Европе» [3]. По отношению к советским рабочим можно поставить прямо противоположный вопрос: как произошло, что за период меньше чем двадцать лет революционный пролетариат первого в Европе самопровозглашенного рабоче-крестьянского государства стал самым пассивным рабочим классом в Европе? Существенная часть ответа на этот вопрос, как и на вопрос о характере и могуществе сталинизма, содержится в этом простом листке бумаги, прикрепленном к магнитогорскому бараку.
…Подход, предлагаемый в данной работе, состоит в том, чтобы выявить преобладавшие в то время способы понимания и анализа проблем труда, трудового процесса, рабочего. Отправной точкой для моего исследования станет реконструкция восприятия современниками следующих проблем: производительности труда, трудовой дисциплины и трудоспособности, социального происхождения и политической лояльности. Моей целью будет показать воздействие этих понятий на образ жизни рабочих и на понимание ими самих себя. Такие представления не могут быть сведены к «идеологии» - уместнее говорить о них как о динамично изменяющихся властных отношениях. Вот почему задача состоит в том, чтобы рассматривать эти понятия не с точки зрения их смысла и не как систему символов, но как вопрос маневра и контрманевра, короче говоря, как составную часть тактики повседневного выживания.
…Как показывает сталинская телеграмма наряду со многими другими документами, труд в советском понимании был не просто материальной необходимостью, но также и гражданским долгом. Каждый имел право на труд; никто не имел права не работать [10]. Отказ от работы, или от «общественно полезного» труда, был преступлением, и преобладающей формой наказания был принудительный труд. От осужденных требовалось не просто трудиться для возмещения «ущерба», который они нанесли обществу, но, в первую очередь, доказать свое право вернуться в ряды этого общества иными, «перевоспитавшимися» личностями. Работа служила одновременно и инструментом для приведения индивида в соответствие норме, и мерилом такого соответствия [11].
Кроме того, каждый, кто принадлежал к социальной группе «рабочих», нес на своих плечах частицу той исторической ответственности, которая, согласно идеологии режима, возлагалась именно на этот класс. Как известно, с точки зрения марксизма-ленинизма социальная структура общества может быть описана в классовых терминах [12]. Классовый подход, ставший основой последовательного и упрощенного мировоззрения и поэтому способный обеспечить готовую интерпретацию любого события и любой ситуации, объяснял и оправдывал бесчисленные государственные решения, включая ликвидацию кулачества как класса и ссылку «кулаков» в такие места, как Магнитогорск. Классовый подход помогал также проводить в жизнь многочисленные кампании и движения - за усиление бдительности или за увеличение выпуска промышленной продукции, - которые строились на эмоциональных призывах к борьбе против классовых врагов, внутренних и внешних. И это позволяло простым людям стать частью исторического движения.
…Всеобщая занятость была почти единственным перевыполненным показателем первого пятилетнего плана, а прирост рабочей силы страны в годы второй пятилетки был даже большим [14]. Магнитогорск был тому ярким примером. К 1938 году, менее, чем десять лет спустя после прибытия первой группы поселенцев, в различных производствах Магнитогорского металлургического комплекса, от доменных печей до подсобных совхозов, было занято почти двадцать тысяч человек [15]. Еще несколько тысяч было занято в строительном тресте «Магнитострой», на коксохимическом комбинате и на железной дороге [16]. На 1940 год рабочее население города насчитывало приблизительно 51 000 человек [17].
Эту новую рабочую силу, созданную буквально из ничего, предстояло обучить, и обучение в данном случае понималось специфически (18). Для новых рабочих обучение навыкам труда стало гораздо большим, чем вопрос о замене цикличного деревенского времени и сельскохозяйственного календаря восьмичасовой сменой, пятидневной рабочей неделей и пятилетним планом [19]. Стремясь создать советский рабочий класс, руководство было столь же озабочено политическим поведением и лояльностью рабочих. Было необходимо не только обучить новых рабочих навыкам труда, но и научить их всех правильно понимать политическую важность выполняемой работы. Пролетаризация по-советски означала овладение производственной и политической грамотностью, понимаемой как абсолютное приятие ведущей роли партии и добровольное участие в великом деле «строительства социализма» [20].
В достижении этих целей особые надежды возлагались на преобразующую мощь заводской системы. После «социалистической революции» завод больше не был местом эксплуатации и унижения, каковым он считался при капитализме; он должен был стать дворцом труда, укомплектованным политически сознательными, грамотными и обученными профессиональному мастерству рабочими, преисполненными гордостью за свой труд [21]. В реальной жизни большинство новых рабочих, даже те, кто затем пришел на промышленные предприятия, начинали свою трудовую деятельность в качестве строительных рабочих, и именно на строительстве впервые столкнулись с проблемой так называемого «социалистического отношения к труду» [22].
Строительство в годы пятилетки осуществлялось натисками, или «штурмами». Хотя данный стиль работы и уподоблялся «очень старому, деревенскому, задающему рабочий ритм, кличу "раз, два, взяли"» [23], он был окрещен новым термином: «ударный труд» [24]. Этот ударный труд, основанный на вере, что высочайшая производительность труда может быть достигнута путем сочетания трудовых подвигов и усовершенствованной организации работы, держался на низком уровне механизации труда; практиковали его «сменами» и «бригадами». Несмотря на то что всеобщая одержимость идеей стремительного повышения производительности труда иногда ассоциировалась с внедрением новых технологий, именно в строительстве, где ударный труд был наиболее распространен, при существовавшем тогда уровне техники главным методом «рационализации труда» стали дополнительные физические усилия [25].
Власти стремились превратить ударные бригады в массовое движение (ударничество) путем различных кампаний, наиболее важная из которых - «социалистическое соревнование» - началась в 1929 году. Социалистическое соревнование приняло форму «вызова», часто письменного, который бросали друг другу заводы, цеха, бригады или даже отдельные рабочие. Вызовы принимали также форму встречных планов или предложений достичь больших результатов за меньшее время. На практике это означало, что отдельные подвиги трудового героизма и перенапряжения вынуждали практически каждого делать то же самое или подвергнуться риску осмеяния, подозрения, а в некоторых случаях - и ареста.
Теоретически социалистическое соревнование отличалось от соревнования при капитализме тем, что целью здесь был не триумф победителя, а поднятие всех до уровня передовика. Такие выражения, как «брать на буксир» и «шефствовать», означали подтягивание отстающих. Задуманное как социально связующий метод повышения производительности труда, социалистическое соревнование все чаще становилось способом отделения полных энтузиазма передовиков, желающих достичь экстраординарных свершений в ударной работе, от более умеренных рабочих и от тех, кто вообще пытался избегать политических излияний.
Эффективность производственных кампаний, в том числе и ударного труда, была усилена реформой заработной платы, проведенной в 1931 году, когда «уравниловка» была ликвидирована и заменена дифференцированной оплатой труда. Теперь заработная плата была индивидуализирована, и, кроме того, введение сдельной системы оплаты труда дало возможность учитывать специфику каждой отрасли производства. Для рабочего устанавливалась норма выработки, перевыполнение которой влекло за собой дополнительное вознаграждение [26]. Теоретически, по мере перевода все большего числа рабочих на сдельную систему оплаты, заработная плата должна была превратиться в мощный рычаг повышения производительности труда. На практике руководители, и особенно мастера, чтобы удержать недостаточную рабочую силу, с готовностью приписывали рабочим фиктивную работу, и, в любом случае, могли наградить их дополнительной оплатой и премиями для компенсации потери заработка, уменьшенного в результате невыполнения норм выработки [27].
Неудивительно, что на производстве вопросы расчета и распределения норм выработки оказывались в эпицентре ожесточенной борьбы, а при оценке выполнения норм и учете производительности труда применялась большая изобретательность - такая изобретательность, что, хотя большинство рабочих в Магнитогорске теоретически перевыполняло нормы, выпуск готовой продукции постоянно оказывался ниже плановых заданий [28]. (А между тем число нормировщиков множилось) [29]. И хотя влияние политики дифференцированной заработной платы на повышение производительности труда может быть поставлено под сомнение, ее воздействие на восприятие рабочих было очевидным. Рабочие были индивидуализированы, и их трудовой вклад можно было измерить в процентах, что позволяло проводить яркие сравнения [30].
Ударный труд в сочетании с социалистическим соревнованием стал средством дифференцирования индивидуумов, а заодно и методом политической вербовки внутри рабочего класса. Здесь его эффективность возрастала благодаря продуманному использованию принципа гласности. Имена рабочих вывешивались на постоянно обновлявшейся Доске почета или Доске позора, окрашенных соответственно в красный и черный цвета. Рядом с фамилиями передовиков рисовали самолеты, возле фамилий отстающих - крокодилов. Выпускали листки-«молнии» со списками лучших рабочих и «лодырей», а победителей соцсоревнования награждали знаменами. Такие знамена, переходившие из рук в руки вслед за взлетами и падениями отдельных бригад (иногда это могло происходить чуть ли не в течение одной смены), превращали работу в некое подобие спорта [31]. Вскоре, утяжеляя это моральное давление, в цехах были установлены постоянные Доски почета для прославления «лучших рабочих» [32].
Широкомасштабной политизации труда способствовало присутствие в рабочих коллективах, помимо администрации, представителей других органов. Так, каждая строительная площадка или заводской цех имели свою первичную партийную организацию («ячейку»), укреплявшую влияние партии путем вовлечения в свои ряды новых членов и проведения партийных собраний [33]. Партия стремилась рас-пространить свое влияние и на беспартийные массы тружеников завода; для выполнения этой задачи в каждом цехе работали «агитаторы», то есть люди, в чьи обязанности входило публичное обсуждение политических проблем и разъяснение смысла событий внутри страны и на международной арене [34].
…Профессиональные союзы также занимали видное место на предприятии, хотя они и не могли уже, как при капитализме, играть свою традиционную роль защитников интересов рабочих от посягательств владельцев предприятий, поскольку в пролетарском государстве собственниками формально являлись сами рабочие. Взамен профсоюзы в СССР были привлечены режимом к участию в кампании борьбы за повышение производительности труда; неудивительно, что они не пользовались большим уважением среди рабочих. Советское руководство было осведомлено об этой ситуации, и она вскоре изменилась [41]. Согласно исследованию Джона Скотта, в 1934-1935 годах, после того как профсоюзы реорганизовали свою работу и взяли под свое ведение широкий спектр деятельности по социальному обеспечению, отношение к ним со стороны рабочих стало иным [42].
В одном только 1937 году бюджет Магнитогорского филиала Союза металлургических рабочих составлял 2,7 млн. рублей плюс социальный фонд страхования в 8,8 млн. рублей (фонд финансировался за счет отчислений из заработной платы). В этом году из фонда социального страхования было отпущено более 3 млн. рублей на оплату отпусков по беременности и на выплаты временно или постоянно нетрудоспособным. Фонды профсоюза использовались также для покуп ки коров, свиней, швейных машинок и мотоциклов для рабочих, на оплату летних лагерей для их детей и на финансирование спортивных клубов. Профсоюзы стали играть центральную роль в жизни советских рабочих [43],
Советское предприятие стало узловым пунктом взаимодействия различных организаций: партии, НКВД, профессиональных союзов, а также инспекции по охране труда и органов системы здравоохранения. Их многочисленные задачи варьировались - от увеличения производства стали и правильной вентиляции цехов до политического образования, полицейских интриг- и помощи нетрудоспособным рабочим или их семьям. То, что подчас эти цели противоречили друг другу, а некоторые из этих организаций конфликтовали между собой, только подчеркивало значение предприятия как места исключительной важности, требующего особого внимания. Степень влияния каждой из этих организаций - администрации, партии, НКВД, профессиональных союзов и технических специалистов - была различной. Часть задач, очевидно, обладала высшим приоритетом, и ничто не могло сравниться по важности с широко истолковываемыми интересами «государственной безопасности», частицы интернациональной «классовой борьбы».
На советском предприятии в центре внимания не был ни вопрос о собственности рабочих на средства производства, ни о рабочем контроле; и то и другое уже существовало, поскольку правящий режим определял себя как «государство диктатуры пролетариата». Имело значение лишь выполнение рабочими своих профессиональных обязанностей, их отношение к своей работе и все связанные с этим поступки, включая проявления реальной или мнимой политической лояльности. По этим показателям нескончаемые кампании борьбы за повышение производительности труда или за рост политической грамотности (требовавшие увеличения напряженности труда каждого рабочего в отдельности) преподносились как проявление передового сознания рабочих и как отличительный признак труда в социалистическом обществе. Без сомнения, ведущей кампанией такого рода было стахановское движение, возникшее при поддержке властей вслед за трудовым подвигом донбасского шахтера Алексея Стаханова, совершенным в угольном забое в один из августовских дней 1935 года [44]. После стахановской «рекордной смены» были предприняты попытки добиться аналогичных прорывов в других отраслях промышленности, а затем превратить эти рекордные смены в более длительную кампанию. По всей стране 11 января 1936 года было объявлено стахановскими сутками, за которыми последовала стахановская пятиднев ка (с 21 по 25 января), стахановская декада, затем стахановский месяц и т.п., пока, наконец, весь 1936 год не был окрещен «стахановским годом» [45]. Некоторые стахановцы, действительно, казались одержимыми идеей рекордов: они чуть свет приходили в цех, наводили порядок на своем рабочем месте и проверяли готовность оборудования к работе [46]. Тем не менее, другие рабочие, как сообщалось в газетах, «неправильно» поняли стахановскую декаду: когда период стремительного трудового натиска закончился, они решили, что «мы работали десять дней, теперь мы можем отдохнуть» [47].
Но отдых не входил в официальную программу. Вначале 1936 года газетные заголовки объявили о вступлении в действие «новых норм для новых времен» [48]. Николай Зайцев, начальник мартеновского цеха № 2 в Магнитогорске, в своих неопубликованных записках отметил, что, хотя стахановское движение в его цехе началось только в январе 1936 года, уже к февралю нормы выработки были повышены с 297 до 350 тонн стали за смену. Зайцев добавил, что никто не справлялся с новыми нормами [49]. Подобное настроение отразилось и в словах одного рабочего коксового цеха, заявившего репортеру заводской газеты, что «с теми нормами, которые существуют сейчас, я работать по-стахановски не могу. Если снизят нормы, то тогда смогу объявить себя стахановцем». Другой, якобы, сказал тому же репортеру, «что-де, мол, зимой еще сможет работать по-стахановски, а летом на печах жарко, не вытерпит» [50].
Центром стахановского движения в Магнитогорске был обжимный цех (блюминг), где ради установления громких рекордов было пролито немало пота и крови [51]. «Сейчас работать на блюминге стало физически тяжело, - заметил оператор-стахановец В. П.Огородников, чьи размышления также не предназначались для печати. - Раньше легко было, потому что давали 100-120 слитков и два-три часа в смене стоишь. Сейчас полных восемь часов напряженно работаешь, так что очень тяжело работать» [52]. Кроме того, усиливавшееся давление ощущало на себе и руководство блюминговым производством.
Федор Голубицкий, назначенный в 1936 году начальником обжимного цеха, выразил тот взгляд на трудовые отношения, который можно считать превалирующим для его времени: в задачи руководителя, указывал он, входит «изучать людей». Он советовал руководителю узнать ближе своих подчиненных, их нужды и настроения, найти с ними общий язык. Превыше всего, говорил он, не терять связи с массами. Но Голубицкий признавал, что в периоды повышенной трудовой активности, связанной со стахановским движением, цеха работали, «как на войне», и что его работа стала серьезным испытанием [53].
Такая игра в победителей, широко освещавшаяся в газетной печати (где заметки часто сопровождались фотографиями), кажется, захватила воображение формирующегося советского рабочего класса. В своих неопубликованных записках Огородников рассказывал: «Жена спрашивает: "Почему ты не бываешь нигде, не ходишь никуда?.. Почему? Это заразная болезнь?" Потому, что я должен уйти рано, подготовить все, посмотреть, что и как там. Работа на блюминге - это заразная болезнь..., если человек заразится этой работой, ему ничего на ум нейдет» [55]...
После того как Огородников и Черныш 11 января 1936 года друг за другом установили два рекорда, они были премированы новыми мотоциклами [56]. За помощь в организации рекордных смен различные награды были розданы также начальникам цеха, включая большие денежные премии, иногда до 10 000 рублей. В марте 1936 года, как раз перед назначением на пост начальника обжимного цеха, Голубицкий в числе четырех магнитогорских передовиков был премирован легковым автомобилем [57].
Стахановское движение заслуживало внимания еще и потому, что оно открыло новые широкие перспективы для советских рабочих, чей стремительный взлет был иногда поразительным. Алексей Тищенко, который уже к семнадцати годам работал грузчиком на донбасском руднике, приехал в Магнитогорск осенью 1933 года и сразу же стал учеником оператора мостового подъемного крана на блюминге. К маю 1935 года двадцатипятилетний Тищенко был квалифицированным ножничным оператором и в последующие месяцы вступил в соревнование с другими «младотурками» за обжим рекордного количества слитков стали за одну смену [58].
Обучение мастерству таких молодых рабочих, как Тищенко, обычно проходило под руководством кого-либо из немногих имеющихся на предприятии опытных рабочих. Старший мастер на стане «300» Михаил Зуев, рабочий-ветеран с пятидесятилетним стажем (ему был тогда 61 год), утверждал, что если в прошлом мастера скрывали секреты своего ремесла, то в социалистическом обществе 1936 года они добровольно передают свои знания новому поколению. Зуева, «мобилизованного» из Мариуполя в Магнитогорск в марте 1935 года, часто привлекали к произнесению речей, обычно под названием «Все дороги нам открыты», где он повествовал молодому поколению о том, как он более тридцати лет работал «на эксплуататоров», а после Октябрьской революции трудился «только для народа» [59].
Увеличение зарплаты некоторым стахановцам, основанное на премиальной системе, было намеренно впечатляющим. Семья Зуевых -Михаил и три сына (Федор, Василий и Арсений), наставником которых был он сам, - вместе заработали за 1936 год почти 54 000 рублей, тогда как сам Михаил Зуев превзошел всех рабочих, получив за год зарплату в 18 524 рубля [60]. В декабре 1935 года Зуев одним из первых среди магнитогорских рабочих получил вторую высшую государственную награду - орден Красного Знамени [61]. На следующее лето он был премирован путевкой в Сочи на всю семью [62].
Вторым после Зуева по уровню заработной платы был Огородников. В 1936 году оператор блюминга заработал 17 774 рубля; часть этих денег была им потрачена на строительство собственного дома. «Дом стоил семнадцать тысяч, - рассказывал Огородников в неопубликованном интервью, - две тысячи своих дал, 7 800 будут вычитывать на двадцать лет, а остальные комбинат взял на себя». До революции, наверное, лишь владелец завода или представитель высшего технического персонала мог накопить такое количество денег и купить частный дом [63].
По-видимому, никто из магнитогорских стахановцев не жил лучше, чем Владимир Шевчук. Мастер среднего сортового стана (стана «500») Шевчук, как сообщала газета, получал в среднем 935 рублей в месяц во второй половине 1935 года и 1 169 рублей в первой половине 1936 года. На вопрос, что он сделал со всеми этими деньгами, Шевчук ответил, что потратил большую их часть на одежду. «У жены три пальто, шуба хорошая, у меня два костюма, - рассказывал он, - и в сберкассу положено». Шевчук также имел редкую в те времена трехкомнатную квартиру и в то лето провел со своей семьей отпуск в Крыму. Помимо велосипеда, граммофона и охотничьего ружья, он был награжден орденом Красного Знамени. Сделка с властями завершилась, когда, согласно сообщению прессы, Шевчук «приветствовал» смертный приговор, вынесенный троцкистам в 1936 году, «с чувством глубокого удовлетворения» [64],
Имена Шевчука, Зуева, Огородникова, Тищенко, Богатыренко, Черныша и некоторых других стали нарицательными. В августе 1936 года городская газета, посвященная первой годовщине рекорда Алексея Стаханова, поместила фотографии 20 магнитогорских стахановцев: четырех из прокатного стана, одного из доменного цеха, одного из мартеновского цеха и остальных из других цехов предприятия. Газета сообщала, что имена этих рабочих помещены на Доску почета предприятия, и что они «заработали право рапортовать [о своих победах] Сталину и Орджоникидзе» [65]. Один исследователь предложил различать «рядовых» стахановцев - и «выдающихся», которых по всей стране насчитывалось не более ста (или около того). Логичнее, используя термин того времени, называть их скорее «знатными», чем «выдающимися» [66].
Гласность, окружавшая «знатных» рабочих, конечно, была частью хорошо продуманной стратегии. «Окружать славой людей из народа - это имеет принципиальное значение, - писал Орджоникидзе на страницах «Правды». - Там, в странах капитала, ничто не может сравниться с популярностью какого-нибудь гангстера Аль Капоне. А у нас, при социализме, самыми знаменитыми должны стать герои труда» [67]. Вскоре после публикации статьи Орджоникидзе магнитогорский партийный секретарь Рафаэль Хитаров во время апогея стахановского движения провозгласил стахановцев «революционерами» в производстве [68].
Хитаров сравнивал стахановское движение с партийной работой, приплетая тут же политические рассуждения о повышенной бдительности. Он приравнивал «открытия» на рабочем месте, якобы ставшие возможными благодаря стахановскому движению, к «открытиям» в партийной организации, якобы ставшим возможными благодаря обмену и проверке партийных билетов [69]. Однако не все стахановцы были членами партии. Огородников, которому, по-видимому, мешало вступить в партию его классовое происхождение, писал: «Когда я прокатаю [сталь] и обгоню Богатыренко (члена партии), то на меня не смотрят. А когда Богатыренко меня обгонит, то это хорошо. Я был как партизан» [70].
Вопрос о том, насколько здоровым было такое напряженное соревнование, как между Огородниковым и Богатыренко, стал одной из главных тем в неопубликованной рукописи о стахановском движении в Магнитогорске, написанной в разгар кампании. Автор ее писал, что гнетущую необходимость погони за рекордами ощущал па себе каждый цех, каждая смена, каждый начальник цеха; отмечал, что машины, не выдерживая гонки, одна за другой выходили из строя, и что один рабочий блюминга в цехе-рекордсмене лишился ноги. Он также писал о «нездоровой атмосфере» в цехах, где расхаживали замасленные рабочие, «думая, что они божества» [71].
Страсти, кипевшие вокруг стахановского движения, были нешуточными. До масштабов всенародного скандала вырос случай с Огородниковым, который 30 марта 1936 года сбежал с комбината в Макеевку, заявив, что его дискриминировали в цеху. По словам Огородникова, его обозвали «рвачом» и сказали, «что я гоняюсь только за длинным рублем, что я не советский элемент, что я, будто бы, кулацкого происхождения». Потребовалось вмешательство НКТП (Народного комиссариата тяжелой промышленности), чтобы вернуть беглеца в Магнитогорск [72]. Со стахановским движением был связан и другой скандал - принудительное возвращение на предприятие Андрея Дюндикова. прославленного рабочего с четырехлетним опытом работы в доменном цеху, который «улетел» оттуда в гневе, поскольку не мог понять, почему «некоторые» получили машины, а он нет [73]. Чувство возмущения поднималось не только среди знатных стахановцев; напряженно складывались их взаимоотношения и с остальными рабочими, и с управленческим персоналом. Начальник цеха Леонид Вайсберг, признавшись в частной беседе: «мы часто создаем... условия, скажем, несколько лучше, чем обычно, для создания рекорда», высказывал опасение, что некоторые рабочие не сознают, что без этой помощи им никогда бы не стать «такими героями» [74]. Не излагая своего собственного взгляда, Зайцев из мартеновского цеха отмечал, что инженеры возмущались стахановцами, которые, по их мнению, были превращены в героев ценой нещадной эксплуатации оборудования [75].
Зайцев добавил, что некоторые рабочие также считали трудовые рекорды опасными для оборудования; неудивительно, что с начала попыток ввести «стахановские методы» в мартеновском цеху печи все чаще выходили из строя. Между тем в газете «Магнитогорский рабочий» появилось сообщение о лекции одного ученого из Магнитогорского горно-металлургического института, где тот говорил о неблагоприятном воздействии стахановской практики ускорения сталеплавильных процессов на оборудование. «Такая перегруженность печей, - предостерегал профессор, - является абсурдом». Возражая ему, газета ссылалась на заводскую практику, доказавшую, по ее словам, прямо противоположное [76].
Как подчеркивалось на страницах газеты, стахановское движение сделало возможным «штурмовые натиски» на технические возможности машин и другого оборудования, значительная часть которого была импортирована из капиталистических стран. Утверждалось, что «пересмотр» мощностей оборудования стал возможным путем обнаружения и высвобождения неких «скрытых резервов», что доказывало превосходство советских рабочих и их методов работы, служило утверждению независимости советской страны от иностранцев и иностранных технологий и заставляло усомниться в истинных намерениях иностранных поставщиков - все это, конечно, способствовало повышению политического сознания трудового народа. После каждого нового рекорда советские руководители заявляли, что мощности, запроектированные иностранными инженерами, были «пересмотрены» и «исправлены» «советскими специалистами» [77]. Эти явные или мнимые скачки в производительности приобретали еще большее политическое значение в контексте международной «классовой борьбы». Стахановское движение, утверждал «Магнитогорский рабочий», было «ударом по фашизму» [78].
Тем не менее, как вскоре ощутили на себе руководители, инженеры и рабочие, «пересмотр» мощностей с целью повысить производственные показатели может вызвать и обратный эффект. Когда последовало несколько серьезных несчастных случаев, вплоть до смертельного исхода, из-за которых пришлось приостанавливать или сокращать производство, начались аресты. В августе 1936 года газета сообщила об увольнении начальника обжимного цеха блюминга Васильева (и о назначении на его место Голубицкого). Это произошло после того, как в течение трех дней цех вынужден был работать вполовину своей мощности. Вскоре Васильев был отдан под суд за превышение допустимых мощностей и создание аварийной ситуации на производстве. Но кто определял границы допустимого в ситуации постоянного взвинчивания норм, и как принимались подобные решения, оставалось неясным [79]. Ясно было лишь то, что и чрезмерное рвение в поддержке стахановского движения, и отсутствие такого рвения могут дорого обойтись [80]. Был случай, когда беспартийный инженер, по-видимому, выступавший против стахановского движения, навлек на себя уголовное обвинение и оказался в эпицентре яростной травли со стороны прессы [81].
Рабочие, со своей стороны, вряд ли могли не замечать, что стахановское движение напоминает потогонную систему, налагавшую чрезмерную ответственность на руководителей и создавшую напряженные отношения между руководителями, мастерами и рабочими, что зачастую не шло на пользу интересам производства [82]. Но и за открытое выступление «против» рабочим приходилось платить слишком высокую цену. Так, помощник сталевара, якобы утверждавший, что стахановское движение является попыткой поработить рабочий класс, был арестован в ноябре 1935 года и приговорен к принудительным работам [83]. Не менее важны были и те выгоды, которые сулило приятие политики властей, Стахановское движение превращало наиболее тяжелые виды работ в «горячих цехах» в наиболее престижные, что обеспечивало каждому, кто брался за них, высокий социальный статус и хорошую зарплату [84].
Стахановское движение усилило уже существовавшую склонность обсуждать проблемы промышленного производства исключительно в контексте задачи повышения производительности труда. Проблема производительности труда, в свою очередь, сводилась к вопросу о его «рационализации», то есть об экстраординарных затратах личного труда, которые должны были свидетельствовать о росте сознательности рабочих. Стахановца вскоре объявили новым типом рабочего, а стахановское движение затмило даже ударничество, этот архетип «социалистического труда» (правда, так и не вытеснив его полностью). В течение 1936 года число стахановцев в Магнитогорске росло буквально день ото дня, и к декабрю уже более половины рабочих металлургического комплекса заработали или это звание, или определение «ударник». Впечатляющий рост числа рабочих, удостоенных подобных титулов, красноречиво свидетельствовал о том, сколь широко новые категории и произраставшие из них новые отношения охватывали рабочих и управленческий персонал [85].
Поощряемые материальными и моральными стимулами, рабочие всех возрастов - не только молодые - боролись за честь «перевыполнить» свои нормы на 150-200%: данные о таких свершениях заносились в личное дело рабочего и учитывались при расчете заработной платы; а, если повезет, имя передовика попадало и в городскую печать. Среди рабочих определенно наблюдалось некоторое расслоение, хотя его значение нельзя преувеличивать (для рабочих было важнее, что начальники оставались начальниками). Наиболее существенным обстоятельством было то, что в общей шумихе не только стахановцы, но и все рабочие в целом оказались под воздействием обширной пропагандистской кампании, неустанно твердившей об их важной роди в жизни общества и об их принадлежности к особой социальной группе [86].
Беспрестанное провозглашение рабочих представителями нового советского рабочего класса встречало сочувственный отклик в большой аудитории. Василий Радзюкевич, приехавший в Магнитогорск в 1931 году из Минска (через Ленинград), вспоминал пять лет спустя, что когда он прибыл, блюминг был еще в строительных лесах. Он участвовал в его строительстве. В 1936 году, когда блюминг отмечал свою третью годовщину, Радзюкевич уже был квалифицированным рабочим на одном из других, еще более новых сортовых станов [87]. Приобретение профессии для таких людей было своего рода Рубиконом. П.Е.Велижанин, после приезда в Магнитогорск 29 декабря 1930 года, волей случая был включен в бригаду нагревальщиков для работы на паровых котлах, которых он никогда до этого не видел. «Я тогда (вспоминал он четыре года спустя) не мог себе представить, что такое "нагревальщик" и какую он выполняет работу, потому что я до приезда на Магнитострой никогда не видел котельной работы». Но к 1934 году он вполне овладел новой профессией [88].
Судьба Радзюкевича и Велижанина была судьбой десятков тысяч [89]. Они получили рабочие спецовки и настоящие сапоги вместо лаптей, что знаменовало их новое рождение в качестве квалифицированных рабочих. Кроме того, их восхождение в трудовом мире часто сопровождалось переездом из палаток в жилые бараки, затем в бараки с отдельными комнатами, и, наконец (если посчастливится), в собственную комнату в кирпичном здании. Правда, работа зачастую была изнурительной [90]. И остается неизвестным, ощущали ли рабочие, оставаясь наедине с собой, что они пересекли заветную черту, поднявшись от жертв эксплуатации до хозяев производства; от жалких, безграмотных, неотесанных рабов - до строителей нового мира и новой культуры. Но даже если рабочие (вопреки риторике режима) сознавали, что они отнюдь не хозяева, они также знали, что являются частью советского рабочего класса, и что, каковы бы ни были его недостатки, их положение отличается от жалкого существования рабочего при капитализме. Эти аксиомы, казалось, подтверждал их собственный социальный и профессиональный рост.
За призывами к самообразованию стоял конкретный процесс непрерывного обучения, строящегося вокруг трудового процесса. Филатов, приехавший в Магнитогорск в январе 1931 года, на вопрос о его трудовой биографии ответил так: «Я поступил чернорабочим, потом вошел в бригаду и старался повысить разряд и квалификацию. Если б я был грамотным, я бы учился, но как неграмотный я посещал ликбез». Филатов вскоре «успешно закончил» курсы ликвидации безграмотности и стал учиться уже тому, что имело непосредственное отношение к производству. «Теперь читаю, пишу, решаю задачи, - добавил он, - и... изучаю особенности чертежей» [91]. Именно из таких людей выросло несколько видных стахановцев [92].
Если рабочее место часто сравнивали со школой, школы стали продолжением рабочего места, по мере того как рабочие боролись за овладение грамотностью, профессией и постоянно повышали свое мастерство [93]. В начале 1930-х годов существовало много неформальных курсов и кружков, включая дискуссии на открытом воздухе и на рабочем месте, а в 1931 году ввели еще одну форму повышения квалификации - «технические часы» [94]. Позднее власти различными путями побуждали рабочих к участию в программе так называемого дополнительного рабочего образования (ДРО); наиболее важным стимулом стало введение гостехэкзамена - экзамена по техническому минимуму, аналогичному начальной грамоте [95].
Фактически каждый житель Магнитогорска, даже те, кто работал полную смену, был охвачен той или иной формой обучения - на рабочем месте или в свободное от работы время, что усиливало идущие на предприятии процессы социализации и политизации рабочих [96], Джон Скотт связывает тягу рабочих к образованию с их стремлением получать дифференцированную заработную плату, с их потребностью быть уверенными, что они получат работу соответственно профилю своего образования или дополнительной подготовки [97]. К этим причинам нужно добавить чувство новизны и, сверх того, удовлетворение от достижения поставленной цели [98]. О тех, кого руководство выделяло «именно как тип нового мастера», говорили, что они «понимают, что успех заключается одновременно и в техническом освоении стана и, так сказать, повышении квалификации людей» [99].
Конечно, рабочие вряд ли могли позволить себе благодушное самодовольство. Удовлетворение их потребностей в еде, одежде и жилье зависело не только от их потенциальных профессиональных достижений, но и - преимущественно - от доступа к централизованной системе снабжения. Помимо того, нельзя сбрасывать со счетов и сильное моральное давление, побуждавшее рабочих демонстрировать свое стремление к самообразованию. Но многие были только рады подхватить громогласные партийные призывы и включиться в непрерывную борьбу за свое развитие.
…Отождествление себя со своим цехом было развито у рабочих, по-видимому, достаточно сильно. Алексей Грязнев, вспоминавший в ноябре 1936 года о своем приезде на комбинат тремя годами раньше, когда там была только одна доменная печь (теперь там действовало двенадцать), вел дневник о том, как он стал настоящим сталеваром. В заводской газете были опубликованы выдержки из дневника – рассказ о том, как развивался своеобразный «роман» между Алексеем и его домной [111]. Городская газета цитировала слова Огородникова, назвавшего Магнитогорск своим «родным заводом» [112]. Прилагательное «родной», обычно означающее «свой по рождению», в данном случае подчеркивало характер отношения рабочих к своему заводу: он дал им рождение. Для этих людей не существовало раздвоенности между домом и работой, между разными сферами их жизни, общественной и личной: все было «общественным», и «общественное» означало «заводское».
Жены рабочих также должны были привыкнуть воспринимать цех как основное в жизни. «У нас на Магнитке, как нигде, по-моему, - заявлял Леонид Вайсберг, - вся семья, больше чем где бы то ни было, участвует и живет жизнью нашего производства». Он утверждал, что были даже случаи, когда жены не пускали своих мужей ночевать домой, потому что они показали себя с плохой стороны в цеху. И подобное осуждение не было мотивировано только денежным вопросом. Жены гордились работой своих мужей и часто принимали живое участие в их производственной деятельности. Женщины создавали суды, чтобы пристыдить мужей за пьянство и заставить работать лучше, а некоторые жены по собственному почину регулярно посещали цех, чтобы проверить, ободрить или отчитать супруга [113]…
Каждый рабочий вскоре узнал, что как для членов партии необходимо проявлять бдительность и «активность» в партийных делах, так и для рабочих необходимо, независимо от партийности, проявлять активность в политике и на производстве. Спектр возможных проявлений такой активности расширялся с каждым днем, включая «добровольную» подписку на облигации государственного займа (к чему призывали в своих речах цеховые агитаторы и профсоюзные активисты); участие в периодических субботниках; внесение «рабочих предложений» мо рационализации производственного процесса (количество их учитывалось как показатель лояльности, а сами они обычно игнорировались); я проведение производственных совещаний.
Освещая производственные совещания, «Магнитогорский рабочий» критиковал их тенденцию перерождаться в «митинговщину», из чего можно заключить, что реальные результаты совещаний не всегда совпадали с намерениями организаторов [122]. То же самое можно было бы по большому счету сказать и о так называемых рабочих рационализаторских предложениях [123]. Но если руководство цеха пыталось прожить без подобных ритуалов, ему оставалось только уповать на божью помощь, потому что рабочие часто относились ко всему этому очень серьезно. Согласно Джону Скотту, на производственных совещаниях «рабочие могли высказываться и высказывались в высшей степени свободно, критиковали директора, жаловались на низкую _заработную плату, на плохие бытовые условия, нехватку товаров в магазине - короче, ругались по поводу всего, за исключением генеральной линии партии и полдюжины ее непогрешимых лидеров» [124].
Скотт писал в 1936 году, в то время, когда режим поощрял критику высших должностных лип «снизу», и когда такая добровольная активность популистского толка была обычным явлением. Но столь же часто, тем не менее, официальные собрания сводились к чистой формальности, а проявления активности «снизу» выглядели как любительское театральное представление [125]. И мы знаем из свидетельств эмигрантов, что рабочие удерживались от выражения недовольства из страха перед доносчиками [126]. Но когда «сверху» поступал сигнал, что настало время для откровенных высказываний, рабочие всегда проявляли готовность воспользоваться этим. И горе тому мастеру или парторгу цеха, которому не удалось заручиться поддержкой рабочих и учесть их настроения, перед тем как вынести на голосование проект резолюции или какого-либо нового правила [127].
Некоторые рабочие, без сомнения, ждали любого удобного случая, чтобы войти в доверие к представителям режима, тогда как другие, по-видимому, пытались избежать участия в предписанных свыше ритуалах. Но спрятаться на самом деле было негде. Если перед началом кампании индустриализации фактически две трети населения страны были «единоличниками», то двенадцатью годами позже эта категория населения почти исчезла: практически каждый формально состоял на службе у государства. Проще говоря, для заработка средств к существованию легальных альтернатив государственному найму почти не существовало [128]. В этом отношении примечателен кон траст между большевизацией и «американизацией» иммигрантов и Соединенных Штатах.
Американизация - совокупность различных кампаний, способствующих усвоению и принятию иммигрантами американской культуры, - также могла быть в высшей степени принудительной [129]. Но не каждый американский город контролировало одно-единственное предприятие; и даже в этом случае люди могли уехать в поисках лучшей доли. А если они и оставались, то имели возможность достичь определенной степени независимости от градообразующего предприятия, став владельцами магазинов, торговцами или мелкими фермерами. Как арена для маневров американизация, даже принудительная, предоставляла больше возможностей; в рамках ее существовало больше свободы действий, чем в рамках большевизации.
Тем не менее, не следует думать, что советские рабочие были пассивными объектами манипуляций в твердых руках деспотического государства. С одной стороны, многие с энтузиазмом восприняли возможность стать «советскими рабочими» со всем тем, что включало в себя это определение - от демонстрации абсолютной лояльности до подвигов беспримерного самопожертвования. Приобретение новой социальной идентичности приносило свои выгоды - от владения «почетной» профессией до оплачиваемых отпусков, бесплатного медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения после окончания трудовой деятельности, помощи из общественных фондов потребления в случае беременности, временной нетрудоспособности, потери кормильца семьи [130]. Новая идентичность давала определенные права, хотя и налагала свои требования.
Тем не менее, несмотря на существование внушительного репрессивного аппарата, все же существовало много общеизвестных уловок, с помощью которых можно было сохранить, скажем так, некоторый контроль над своей жизнью как на работе, так и в свободное время. На ужесточение трудовой дисциплины рабочие отвечали прогулами, текучестью кадров, «волынкой», или же выносили с работы инструменты и материалы, чтобы использовать их дома для личных нужд [131]. Конечно же, власти боролись с этим. Так, 15 ноября 1932 года был издан закон, согласно которому увольнение с работы влекло за собой отказ в предоставлении продовольственных карточек, а опоздание на работу более чем на один час - выселение с места жительства [132]. Но те же самые обстоятельства, которые, в известном смысле, вызвали к жизни этот жесткий закон, чрезвычайно затрудняли его проведение в жизнь. Форсированное индустриальное развитие в сочетании с неэффективностью и неопределенностью плановой экономики порождало постоянный дефицит рабочей силы. «По всему городу, - писала магнитогорская газета, - висят объявления отдела рабочих кадров комбината, извещающие население о том, что комбинату требуются рабочие в неограниченном количестве разных квалификаций» [133]. Отчаявшись удержать работников и тем более увеличить их число, руководители часто игнорировали инструкции, которые приказывали им увольнять рабочих за нарушение строгих правил или запрещали нанимать рабочих, уволенных из других мест. В ходе борьбы с прогулами, как постоянно жаловалась магнитогорская газета, складывалась ситуация, когда рабочего «в одном месте выгнали, в другом приняли» (134].
Государственная политика всеобщей занятости еще более усиливала реальную власть рабочих [135]. Рабочие обнаружили, что при отсутствии безработицы или «резервной армии труда» руководители и особенно мастера, находясь под жестким давлением плановых обязательств, становились уступчивее. Результатом стало рождение системы взаимоотношений, основанных на неравной, но, тем не менее, реальной взаимозависимости. Рабочие зависели от начальства, которое, умело оперируя данным ему оружием, - государственной системой снабжения, создающей постоянный дефицит, - определяло площадь и местонахождение квартиры рабочего, разнообразие и качество продуктов, которыми он питался, длительность и место проведения его отпуска, качество медицинского обслуживания, доступного рабочему, работнице и другим членам их семей. Но начальство, в свою очередь, зависело от рабочих в деле выполнения плановых заданий. Это, правда, не означало, что снизилась важность явного принуждения. Пролетарское государство не стеснялось использовать репрессии против отдельных рабочих, особенно если дело касалось основных «классовых интересов» пролетариата. Мы знаем из эмигрантских источников, что власти неумолимо выявляли любые признаки независимой инициативы рабочих и были чрезвычайно чувствительны к их неформальным собраниям, стремясь истребить любой тип солидарности, зародившийся вне государственного контроля [136]. Но всегда под рукой был гораздо более искусный и, в конечном счете, не менее эффективный метод принуждения: возможность определить, кем являются все эти люди.
Я пытаюсь доказать не то, что новая социальная идентичность, основанная на некоем официальном языке, предназначенном для публичного обихода, была ошибочной или же верной, а то, что без нее невозможно было обойтись, и, более того, что она придавала смысл человеческой жизни. Даже если мы считаем эти черты социального облика абсурдными, мы должны отнестись серьезно к тому, был ли данный рабочий ударником или саботажником, победителем социалистического соревнования или «аварийщиком». Потому что магнитогорские рабочие должны были относиться к этому всерьез. Более того, если магнитогорцы гордились своими достижениями и наградами или были разочарованы своими провалами, мы должны принять реальность этих чувств, даже если мы не согласны с социальными и политическими ценностями, стоявшими за этими социальными оценками.
Хотя новые термины, в которых воплощалась социальная идентичность, требовалось использовать неукоснительно, не следует воспринимать их как некий «механизм гегемонии», пытаясь объяснить этим все и не объясняя ничего [137]. Скорее их можно представить как «игровое поле», где люди усваивали «правила игры» городской жизни. Эти правила доводило до всеобщего сведения государство с явным намерением добиться беспрекословного подчинения, но в ходе исполнения правил стало возможным оспаривать их или - чаще - обходить стороной. Рабочие не устанавливали норм своих взаимоотношений с режимом, но, безмолвствуя, они сознавали, что могут до известной степени видоизменить эти нормы [138]. Такая возможность «поторговаться» с режимом - пусть не на равных - выросла из сочетания ограничений и льгот именно в ходе игры в социальную идентификацию. И большей частью именно в процессе этой игры люди становились участниками общественной жизни или, если угодно, членами «официального» общества…
Поразительный контраст ни к чему не стремившимся осужденным представляли раскулаченные крестьяне, настойчиво добивавшиеся социальной реабилитации. Вначале от них ожидали прямо противо положного, Так как раскулаченные считались «классово чуждыми», следовательно, более опасными, они первоначально жили за колючей проволокой и ходили на работу под конвоем. Каждый день после работы, по возвращении на поселение, их проверяли по списку на контрольном пункте. Считая раскулаченных неисправимыми по причине их классового происхождения, с ними проводили не столь интенсивную пропагандистскую работу [191]. Вскоре, тем не менее, колючую проволоку вокруг поселения убрали. За редким исключением, поселенцам не позволялось переезжать в другой город, и они были обязаны ежемесячно являться к коменданту, чтобы в их «контрольных карачках» поставили специальный штамп. Но раскулаченным крестьянам, жившим на поселении, разрешали устраиваться на работу в индивидуальном порядке, в соответствии с их профессиональными навыками [192].
«Многие из этих крестьян, - комментирует Джон Скотт, - испытывали невыносимую горечь, потому что они были лишены всего и принуждены работать на систему, которая во многих случаях уничтожила членов их семей». Но Скотт добавлял, что большинство «работали усердно». Конечно, они по-прежнему обитали в скверных и тесных бараках, но, по мнению Скотта, «немало их жило относительно хорошо», и «трудовой подъем некоторых из них был воистину героическим». Даже если они сами ни к чему не стремились, на карту было поставлено будущее их детей. Дети раскулаченных, хотя на них и лежало клеймо, могли посещать школу, и многие из них прилежно учились. Мария Скотт, преподававшая в одной из трех школ для таких детей, сообщала, что они вообще считались лучшими учениками в целом городе [193].
Центральные власти придерживались политики интеграции раскулаченных в ряды нового общества, и эта политическая линия после нескольких лет равнодушного исполнения стала восприниматься более серьезно и начала приносить эффект. В июле 1931 года власти издали постановление о восстановлении в гражданских правах тех раскулаченных крестьян, которые в течение пятилетнего срока доказали, что стали честными тружениками. Эффективность этого первого закона была поставлена под сомнение, когда в мае 1934 года было издано новое постановление, разрешавшее раскулаченным подавать прошения о досрочном восстановлении в правах, если они отвечали тем же критериям [194]. На большинство прошений о восстановлении в правах с 1934 года следовали отказы, но к 1936 году отношение к раскулаченным стало более благосклонным. В случае удовлетворения их просьб просителям позволялось покинуть трудовую колонию, посещать школы и даже (теоретически) вступать в партию [195].
Более того, задолго до 1936 года детям раскулаченных уделялось особое внимание [196]. Согласно постановлению от 17 марта 1934 года, избирательные права этих детей восстанавливались, как только они достигали восемнадцати лет, при условии, что они добьются к этому времени статуса ударников на производстве и проявят активность в общественной работе. В качестве поощрения в газете Трудового поселения начали публиковать списки тех, кто был восстановлен в правах [197]. Какое бы чувство обиды за судьбу своих семей не таили молодые люди, молодежь ничего не теряла и всего могла добиться, вступив в великую кампанию строительства социализма. Как писала об этом газета, «рост социализма в нашей стране идет гигантскими шагами вперед, отсюда каждому спецпереселенцу надо запомнить, что возврата к прошлому нет и не может быть» [198]…
просьб просителям позволялось покинуть трудовую колонию, посещать школы и даже (теоретически) вступать в партию [195].
Более того, задолго до 1936 года детям раскулаченных уделялось особое внимание [196]. Согласно постановлению от 17 марта 1934 года, избирательные права этих детей восстанавливались, как только они достигали восемнадцати лет, при условии, что они добьются к этому времени статуса ударников на производстве и проявят активность в общественной работе. В качестве поощрения в газете Трудового поселения начали публиковать списки тех, кто был восстановлен в правах [197]. Какое бы чувство обиды за судьбу своих семей не таили молодые люди, молодежь ничего не теряла и всего могла добиться, вступив в великую кампанию строительства социализма. Как писала об этом газета, «рост социализма в нашей стране идет гигантскими шагами вперед, отсюда каждому спецпереселенцу надо запомнить, что возврата к прошлому нет и не может быть» [198].
ду запугивания, устрашения? Нет, это невозможно» [200]. Сталин был прав, по но другим причинам.
Коммунизм вдохновлял людей настолько, что даже личный опыт и настоящий ужас перед репрессиями не могли заставить «истинно верующих» отказаться от дела социализма [201]. Но в равной степени важно и то. что образ капитализма в СССР сам по себе не был привлекательным. В эпоху экономической депрессии и милитаризма капитализм служил чрезвычайно удобным пугалом, которое всегда было под рукой для оправдания недостатков социализма. Только если бы реальный капитализм и его образ, созданный пропагандой, значительно различались, было бы возможно представить полный отказ от дела социализма в СССР.
Принимав во внимание угрожающую природу тогдашнего капитализма, задача выявления принципиальных различий между делом социализма и реальным советским режимом, и без того затрудненная из-за цензуры, стала намного сложнее. Подобную критику режима вела, конечно, «старая гвардия» революционеров, из числа которых наиболее известен Л.Д.Троцкий. Но то, что говорил и писал Троцкий, было практически неизвестно в СССР. И даже если бы люди имели возможность самостоятельно ознакомиться с его книгами и статьями, еще не известно, приняли бы они или нет его противоречивую концепцию «сталинского термидора». Что значил термидор перед лицом фашистской угрозы и успехов социалистического строительства? Для жителей Магнитогорска скатывание капитализма в пропасть фашизма и восхождение СССР к вершинам социализма представлялось звеньями одной цепи, неразрывно связанной, как они ощущали, и с их собственной жизнью.
Это чувство «неразрывной связи» достигалось посредством игры в социальную идентификацию, частью которой было умение «говорить по-большевистски». С помощью этой новой социальной идентичности государство сумело присвоить себе роль оплота общественной солидарности и сделать оппозицию невозможной. Эмигрантские свидетельства о масштабах доносительства и о степени осознания современниками серьезности ситуации подтверждали представление, что общество при Сталине подверглось «дезинтеграции», и людям для выражения их гнева и сокровенных чувств оставалось только уединение за кухонным столом. В этом смысле «дезинтеграция», если и не столь глобальная, как утверждают некоторые исследователи, была все же значительной. Но в то же самое время людей сплотила в большую политическую общность новая социальная идентичность. Эта «пози тивная» интеграции советского рабочего класса влекла за собой определенные обязательства и в целом зависимое положение, но приносила также и выгоды, а из-за отсутствия безработицы давала рабочим и определенный уровень контроля над трудовым процессом.
Процесс «положительной интеграции», благодаря которой люди становились частью «официального общества», предполагал возможность изощренных, хотя и неравноправных, сделок с режимом. Но для этого важно было овладеть языком и техникой переговоров. Рабочие маршировали в театрализованных праздничных шествиях, их часто вынуждали слушать, а иногда и произносить елейные речи. Но были и случаи, когда им предоставлялась возможность выразить разочарование и даже недовольство, не переступая при этом границы, не оговариваемой специально, но известной всем. У народа не было иного выбора, как только усвоить, что в общественном поведении и даже в собственных мыслях должна пролегать граница между допустимым и недопустимым. Но они также должны были понять, что можно использовать систему с минимальным ущербом для себя [202]. Это были уроки, которые им преподала сама жизнь.
Жизнь в Магнитогорске учила цинизму и трудовому энтузиазму, страху и гордости. Но прежде всего жизнь в Магнитогорске учила каждого идентифицировать себя и говорить на приемлемом для режима языке. Если и была в истории ситуация, где превыше всего стояло политическое значение слов, или дискурс, то это было при Сталине, в словесной артикуляции своей социальной идентичности [203]. Этот изощренный властный механизм в условиях великого дела строительства социализма составлял силу сталинизма. Пятьдесят лет спустя рабочие-ветераны в Магнитогорске все еще говорили тем языком, какой мы находим в воспоминаниях их современников, записанных в 1930-е годы. К концу 1980-х, тем не менее, их представление о капитализме радикально изменится, а с ним - их понимание социализма, воплощенного в советском режиме, и лояльность по отношению к нему.
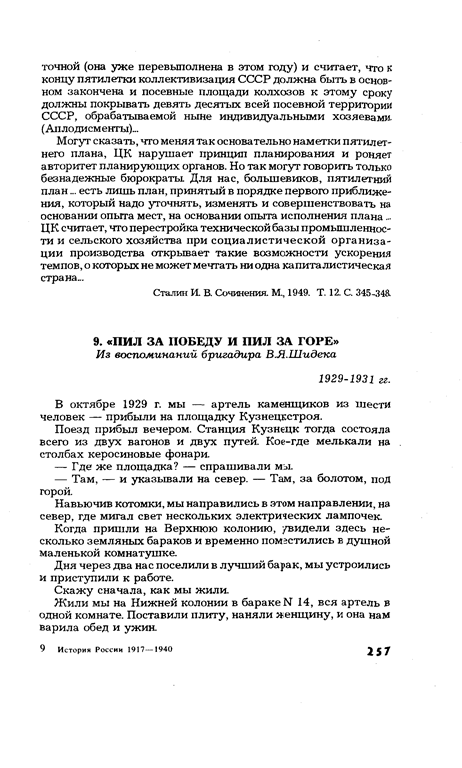
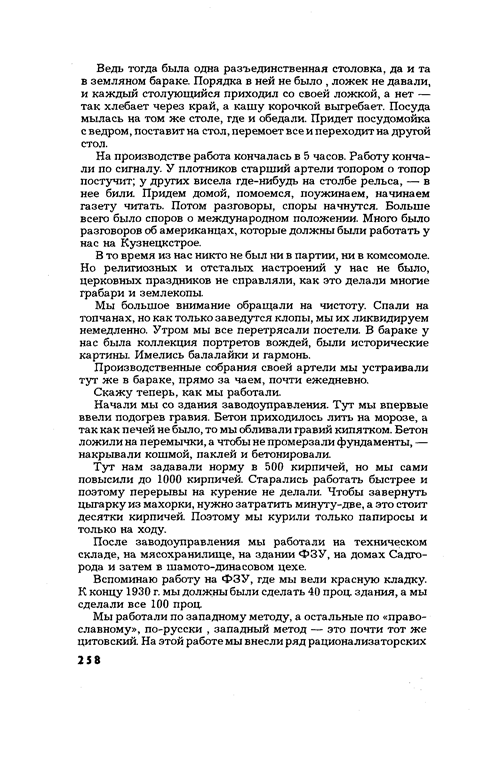
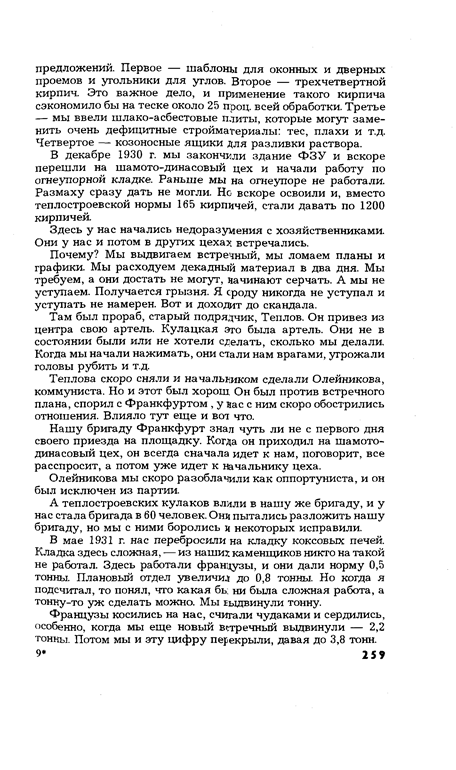
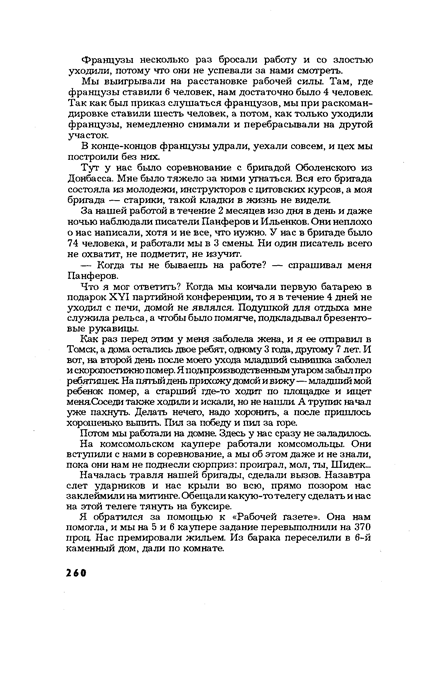
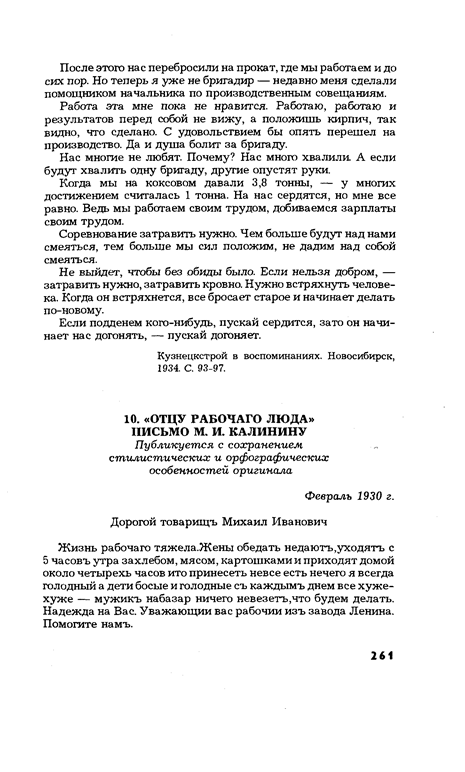
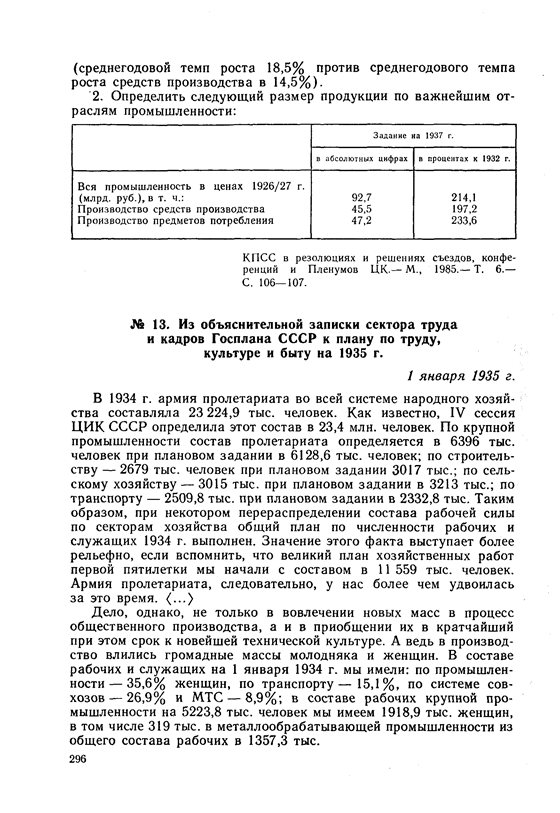
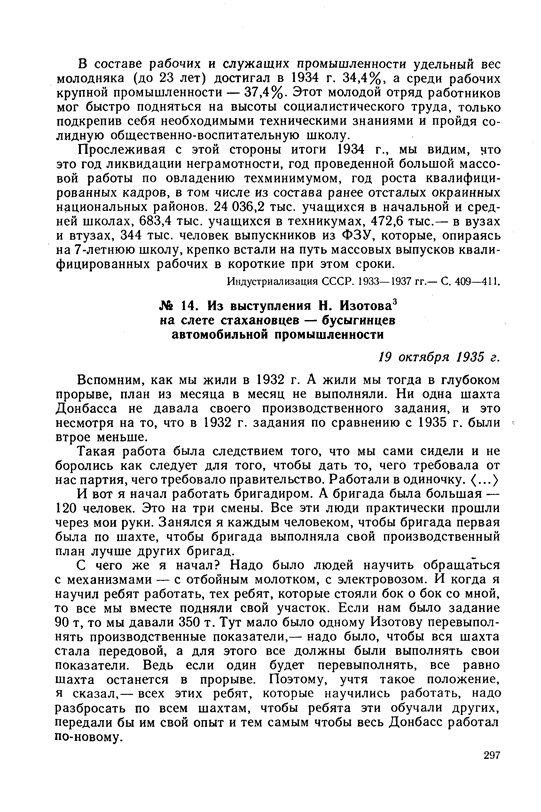
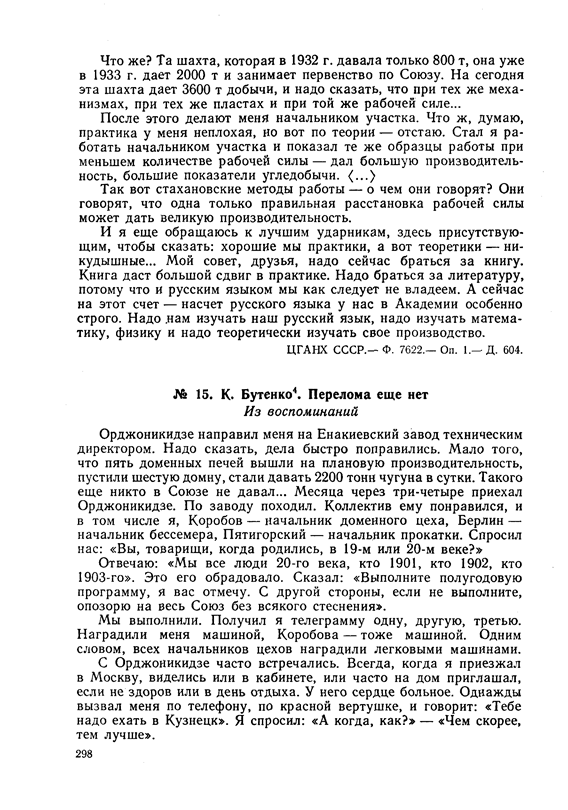
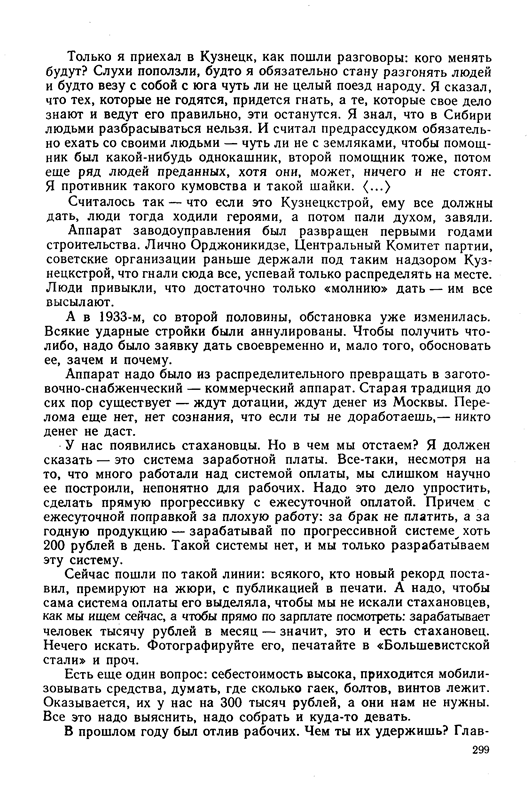
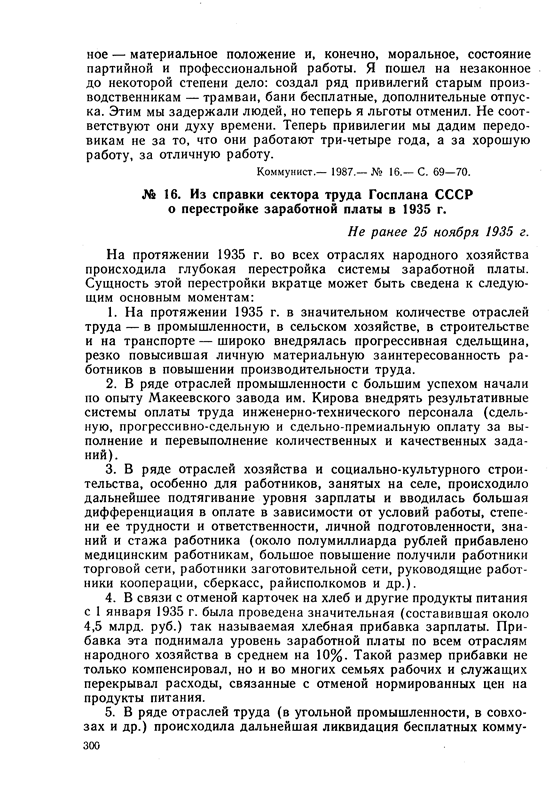
 2015-05-26
2015-05-26 5534
5534






