Я считаю, что князь Сергей Трубецкой был гениальным философом, ушедшим из жизни раньше, чем создал все, что мог. Поэтому учение его не завершено, а мы вынуждены изучать его мысли по черновикам и наброскам. Чтение работ Сергея Трубецкого — это всегда своеобразная археология смыслов, которая, к счастью, вознаграждает поразительными находками...
Свое понятие души князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862—1905) описал в 1889 году в работе с названием «О природе человеческого сознания», а потом подтвердил в 1896 году в «Основаниях идеализма».
Именно в этот промежуток времени философское сообщество России бурно спорило о душе, — я опишу эти споры в следующих главах. Но Трубецкого они словно и не коснулись, хотя в его работах поминаются все используемые спорщиками понятия. Трубецкой шел сквозь этот хаос, творя нечто подобное тому, что создавал вокруг себя Платон. Некий космос, порядок, который, впрочем, так же мало имел отношения к жизни, как и Платоновская теория государства.
Трубецкой увлекался и позитивизмом, и Спенсером, но заимствовал лишь у двух человек — у Платона и Владимира Соловьева. Да и заимствование ли это было?!
К примеру, он всю жизнь разрабатывал одну идею, которой вдохновил его еще Владимир Соловьев и ради которой он стал лучшим в России знато-
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 ком античной философии. У Соловьева она называлась София, Трубецкой прочитал ее вслед за Платоном как Мировую душу.
ком античной философии. У Соловьева она называлась София, Трубецкой прочитал ее вслед за Платоном как Мировую душу.
Об этом юношеском увлечении рассказывал его брат Евгений Николаевич: «Е. Н. Трубецкой в незаконченной своей книге "Из Прошлого" пишет о своем брате, что он с юных лет (очевидно, под влиянием Вл. Соловьева — его "Чтения о Богочеловечестве") думал о том, что "претворяет хаос в космос". "Я знаю, — пишет Е. Трубецкой, — что брат мой незадолго до окончания университетского курса работал над сочинением о св. Софии, но не знаю, уцелела ли его рукопись"» (Зеньковский, т. 2, ч. 2, с. 101).
Зеньковский, однако, рассказывает, что Трубецкой был вполне независим как философ.
«Князь С. Трубецкой может быть назван, без умаления его оригинальности, последователем Вл. Соловьева — так много он обязан последнему. Можно сказать без преувеличения, что в своих исходных философских вдохновениях кн. С. Трубецкой всецело зависел от Соловьева. Однако, ближайшее знакомство с творчеством С. Трубецкого убеждает в том, что влияние Соловьева имело лишь "вдохновляющий" характер, пробуждая собственные интуиции у нашего философа» (Там же, с. 95).
Из этих интуиции меня более всего занимает его «универсальная чувственность», вырастающая и из понятия Софии, и из понятия соборного сознания. Приведу краткую выборку из его мыслей об этом, сделанную протоиереем Зеньковским:
«"Я, — пишет дальше Трубецкой, — признаю мир одушевленным. <...>
Есть, — продолжает дальше Трубецкой, — некая универсальная, мирообъем-лющая чувственность "<...>
Но кто же является субъектом этой универсальной чувственности?
"Если субъектом ее, — пишет тут же Трубецкой, — не может быть ни ограниченное индивидуальное существо, ни Существо Абсолютное, то остается допустить, что ее субъектом может быть только такое психофизическое существо, которое столь же универсально, как пространство и время, но вместе с тем, подобно времени и пространству, не обладает признаками абсолютного бытия: это — космическое Существо или мир в своей психической основе — то, что Платон назвал Мировой Душой"» (Там же, с. 100—101).
Можно сказать, что у Сергея Николаевича Трубецкого было два учения о душе. Одно — историко-философское. Его он создавал во всех своих работах, посвященных античной философии. В «Метафизике в Древней Греции» и в «Учении о Логосе в его истории». Я не буду сейчас о нем рассказывать, но сделаю подробную выборку и сведу в последовательное изложение все эти его мысли, когда буду рассказывать о древнегреческом понятии души. Так и напишу эту главу, составив ее из наблюдений Трубецкого. Естественно, там будет присутствовать его прочтение древних понятий, а значит, и его собственное понятие о душе.
Но сейчас я расскажу о том, как он понимал душу, когда философствовал.
Глава 6. Мировая душа. С. Н. Трубецкой
 Свою психологию Трубецкой дает в работе с обманчивым названием «О природе человеческого сознания». Обманчиво оно потому, что о «природе» сознания он там не говорит, а основной вопрос его звучит так: «-Что прежде,что существенно: род или индивид — в природе вещей, в сознании человека, в его личной и общественной жизни?» (Трубецкой. О природе, с. 486).
Свою психологию Трубецкой дает в работе с обманчивым названием «О природе человеческого сознания». Обманчиво оно потому, что о «природе» сознания он там не говорит, а основной вопрос его звучит так: «-Что прежде,что существенно: род или индивид — в природе вещей, в сознании человека, в его личной и общественной жизни?» (Трубецкой. О природе, с. 486).
Конечно, с точки зрения русского языка, высказывание: природа человеческого сознания соборна, — вполне допустимо. Но с точки зрения науки о душе оно означает лишь то, что мы хотим подойти к исследованию природы сознания через описание его соборности, или, как говорил уже известный Трубецкому Люсьен Леви-Брюль, с точки зрения коллективности человеческого мышления.
При углубленном исследовании этого явления мы, однако, оказываемся перед лицом совсем иного вопроса: как сознание и душа могут принимать в себя образы, созданные другими людьми. Тем самым мы оказываемся перед «вопросом о субстанции души». Что такое эта самая иностранная субстанция, спорить будут аж до больших кровопролитий, вроде мировых революций, но сводится спор всегда либо к тому, что субстанция есть вид некоего тонкого вещества, либо она непостигаема для человека.
Трубецкой обойдет этот вопрос. В окружающем его хаосе он умудрялся видеть лишь то, что его занимало. А занимало его отношение личности к народу, ее соборность. Поэтому для него существует множество очевидное -тей, в которых он нисколько не сомневается, считая, что они так же очевидны и всем другим. К примеру, он однозначно считает, что сознание — это то, что считает сознанием европейская философия. Он может сколько угодно разбирать эти европейские школы, но при этом так и не дает собственного определения, полагая, что мы с вами хорошо образованы и сами все поймем. Хорошо образованы, конечно, по понятиям конца девятнадцатого века.
В итоге его рассуждения о психологии или сознании порой оказываются весьма странными, но с этим можно только смириться и медленно распутывать порядок, в который запутаны его мысли. В действительности, за ними немалая глубина.
«Вся — так называемая — психология от простого самонаблюдения до психофизических экспериментов убеждает нас в отличии личности от сознания. Отождествляя их, мы приходим к отрицанию личности.
Личное самосознание пробуждается в нас лишь много времени спустя после нашего рождения. "Личность" исчезает, забывается во сне, в обмороке, каталепсии, при различных поражениях головного мозга, когда остается еще некоторая степень сознательности.
В явлениях — так называемого — раздвоения личности, в явлениях "душевной диссоциации", мы видим в одном и том же теле — как бы — несколько индивидуальных личностей, несколько разобщенных памятей, сосуществующих друг с другом» (Там же, с. 572).
При всей странности такого зачина, он является чрезвычайно плодотворным для исследования нашего понятия о душе. Я бы начал его так: рус-
 Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 ский язык знает такое выражение, как двоедушие. При этом наш народ считает, что при двоедушии некоторые люди лишь кривят душой, а в некоторых действительно поселяется чужая душа. Попробуем разобраться с этим понятием с точки зрения современной психологии.
ский язык знает такое выражение, как двоедушие. При этом наш народ считает, что при двоедушии некоторые люди лишь кривят душой, а в некоторых действительно поселяется чужая душа. Попробуем разобраться с этим понятием с точки зрения современной психологии.
«В нормальной жизни, наблюдая наши сновидения и деятельность нашей фантазии, игры детей, вникая в творчество поэта, в сценическое искусство актера, мы убеждаемся в непроизвольном творческом драматизме нашей душевной деятельности, которая не ограничивается созиданием образов, но оживляет, олицетворяет их, иногда подчиняя им все наше существо. Мы встречаем здесь фиктивную, призрачную, но вместе интенсивную жизнь, — фиктивные, но нередко крайне сильные наслаждения и страдания. <...>
Указанные явления естественно перетолковываются теми психологами, которые отождествляют личность с ее сознанием или рассматривают сознание как субъективное, личное отправление человека. В этом смысле "гипнотические явления ", точно так же, впрочем, как и правильные наблюдения нормальной психической деятельности, грозят нанести отвлеченному спиритуализму более чувствительный удар, чем самому материализму» (Там же, с. 572—573).
Как у него все так сложно переплеталось? Наверное, от избытка образования. Лишь мелькнувшее между делом словечко «спиритуализм» показывает, что все это относится к душе и утверждению, что душа может быть независима от тела, а значит, бессмертна. Излишнее образование, в котором я упрекаю князя, не речевой оборот. Он действительно весь в тех идеях, что сражались в то время вокруг него. Вроде споров о телепатии.
«Материалисты отвергали эти явления за то, что в них сказывалась, по-видимому, какая-то реальная психическая связь между индивидами. Спиритуалисты отвергали их так же, как самые достоверные результаты физиологии мозга или естествознания вообще, потому не умели согласовать эти результаты со своими представлениями о множестве бесплотных, замкнутых в себе индивидуал ьностей.
Как бы то ни было, на одних этих явлениях ничего нельзя строить; но весь спор о природе личности, вновь вспыхнувший по этому поводу, существенно зависит от ходячего воззрения на сознание как единоличную функцию или даже как на нечто тождественное с личностью, с "душою " человека» (Там же, с. 574).
К чему ведет Трубецкой — ясно: соборность, как некая способность наших сознаний сливаться и проникать друг в друга, может объяснить телепатию и все подобные явления, как ему кажется. Ошибка, конечно, детская. Вроде той, когда психиатр, поглядев на странное поведение больного, ставит диагноз: шизофрения, — и испытывает облегчение. Он этим словом объяснил странности? Нет, этим словом он объяснил себе, что делать. А именно, как избавиться от беспокойства, которым является для него этот больной. Имя ничего не объяснило в болезни.
Так и соборность ничего не объясняет в том, что сознания могут сливаться. Как раз наоборот — исследование природы сознания может объяснить соборность. Но это мне сейчас не важно.
Глава 6. Мировая душа. С. Н. Трубецкой
 Важнее, что здесь довольно определенно звучит: с личностью, с «душою» человека. Можно было бы посчитать, что это и есть понятие души князя Трубецкого, не поставь он здесь душу в кавычки. Поэтому продолжим блуждания по его космосу. Я немножко подтруниваю над его юношеской верой в то, что он несет порядок в этот хаос, потому что на деле довольно часто его рассуждения оказываются как бы стоящими на голове. И если мы естественностью посчитаем даже для князя ту среду, в которой он воспитывался, а она была русской и исходно народной, то он сумел себя переделать настолько, что порой совершенно неестественен, хотя и умен.
Важнее, что здесь довольно определенно звучит: с личностью, с «душою» человека. Можно было бы посчитать, что это и есть понятие души князя Трубецкого, не поставь он здесь душу в кавычки. Поэтому продолжим блуждания по его космосу. Я немножко подтруниваю над его юношеской верой в то, что он несет порядок в этот хаос, потому что на деле довольно часто его рассуждения оказываются как бы стоящими на голове. И если мы естественностью посчитаем даже для князя ту среду, в которой он воспитывался, а она была русской и исходно народной, то он сумел себя переделать настолько, что порой совершенно неестественен, хотя и умен.
Вот, к примеру, как он выводит понятие души. Оно у него оказывается какими-то дальними задворками научного понятия «личность».
«На деле под личностью разумеют обыкновенно три или четыре вещи, час-тию весьма различные, частию тесно связанные между собою, откуда возникает множество недоразумений и смешений, затрудняющих и без того сложные вопросы.
Под личностью разумеется, во-первых, эмпирическая индивидуальность каждого человека, как она является нам — со всеми особенностями и характерными чертами;
во-вторых, эта самая индивидуальность, видимая изнутри, при свете самосознания;
в-третьих, "я ", как необходимый субъект сознания, всегда тождественный себе, обусловливающий единство сознания,
и, наконец, в-четвертых, душа, тот невидимый реальный субъект моей воли и мысли, носитель всех моих способностей и деятельностей, который проявляется эмпирически во внешнем и нравственном облике каждого человека и который сознает свое "я", как свое личное местоимение» (Там же).
Вот это уже некоторая определенность, которую даже можно перевести в определение: душа — это то, что говорит про себя я.
Далее Сергей Николаевич, будто вызвав произнесением имени дух души из иного мира, втягивается в рассуждения о ней, как бы смещая полюс своих рассказов. Если до этого он все говорил о душе от личности, то теперь он даже дойдет до того, что будет о личности говорить от души. Но, по порядку изложения.
«Очевидно, что эта душа, облекаемая нами в столь различные образы, не может быть тожественною с нашим внешним явлением или с тем, что мы сами о себе мним или чувствуем. Очевидно также, что она не может быть только субъектом сознания: это Я, которое мы непосредственно в себе сознаем, само есть нечто отличное от нашего сознания.
Я мыслю, — следовательно, я существую; но мне думается, что я существую и тогда, когда я не мыслю и временно теряю сознание» (Там же, с. 574— 575).
Вообще-то считается, что Трубецкой был одним из главных деятелей того философского движения, которое вслед за Соловьевым пыталось ввести религиозные вопросы в круг философских исследований. Но вот с душой
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 это было как-то так скромно и неприметно, что даже такая невзрачная запятая картезианству воспринимается уже философским подвигом. Боюсь, что виновато в этом было само христианство, которое не слишком-то заботилось о разработке такой своей основы, как понятие о душе. А раз его не было в самой религии, то и религиозные философы не вольны были говорить что-то от себя.
это было как-то так скромно и неприметно, что даже такая невзрачная запятая картезианству воспринимается уже философским подвигом. Боюсь, что виновато в этом было само христианство, которое не слишком-то заботилось о разработке такой своей основы, как понятие о душе. А раз его не было в самой религии, то и религиозные философы не вольны были говорить что-то от себя.
А если говорили, то строго в рамках, дозволенных наукой, а не религией. Поэтому их рассуждения о душе как бы непрямые и слегка притуманен-ные философичностью.
«Существование некоторого реального субъекта воли и сознания, отличного от телесных явлений и случайных внутренних аффектов и состояний, имеет для нас высшую внутреннюю, субъективную достоверность: для каждого из нас наше собственное Я, собственное существо — вернее всего.
Но когда речь идет о существовании или бессмертии души, разумеется объективное, абсолютное существование, всеобщая достоверность. Существует ли моя душа не только для себя, но и всеобщим образом, для всех вообще? Имеет ли она универсальное, объективное бытие, — о субъективном не может быть спора.
Мне невозможно представить, что мое Я не существовало или чтоб оно когда-нибудь уничтожилось. Это понятное субъективное верование или чувство, — понятное сознание, если можно так выразиться: углубляясь в сознании своего существа, сознавая его нравственную действительность, я не могу себе представить его обращение в ничто. Но, размышляя о себе объективно, в связи со всеми другими эмпирическими явлениями, я не только признаю неизбежным свое уничтожение, но могу легко усомниться в самом существовании реального Я, души» (Там же, с. 575).
Это исходное состояние ума человека, сильно испорченного философским образованием. И не в том даже дело, что он переполнен множеством чужих и плохо переваренных понятий. Самое страшное, что он уже не верит самому себе. Теперь единственная опора для поиска истины — это логика. Да и то потому, что ее признает все философское сообщество. А с ним лучше не спорить, все равно переспорят любого! Это исходное состояние обязательно и неизбежно для философа, потому что без него он не будет узнаваться как свой. А значит, то, что он будет творить, он может нести куда угодно — хоть к мистикам, хоть в бульварную прессу, но это не будет принято на алтарь философии.
И вот рождаются логичные для этого обязательного состояния ума вопросы, на которые исследователь имеет право дать собственные ответы.
«Имеет ли душа, подлинная личность человека, объективное бытие? Можно ли объективно познать ее, доказать ее бытие? Возможна ли метафизическая психология и есть ли душа познаваемый объект?
Дикие народы и спириты всех времен признавали, что душа имеет объективное явление, подлежащее восприятию или даже экспериментации. Но если даже допустить возможность таких явлений, можно ли отождествлять призрак с душою и ставить на одну доску вопрос о душе с вопросом о призраке?
Глава 6. Мировая душа. С. Н. Трубецкой
 Единственные объективные психические явления, подлежащие научному исследованию, суть психофизические явления. Единственным научным методом в психологии может быть только метод экспериментальной психофизики, которая не задается метафизическими вопросами, но выясняет конкретную связь между органическими и душевными процессами.
Единственные объективные психические явления, подлежащие научному исследованию, суть психофизические явления. Единственным научным методом в психологии может быть только метод экспериментальной психофизики, которая не задается метафизическими вопросами, но выясняет конкретную связь между органическими и душевными процессами.
Мы видим, однако, что понимаемая ложно психофизика ведет прямо к отрицанию души, — поскольку она выдает себя за целую психологию. На самом деле психофизика изучает не душу, а физические явления, связанные в нашем теле с психическими процессами. Для научной психофизики душа может и должна быть проблематичной. И как для геометра не существует физических свойств тела, так для психофизиолога — духовной природы души. Ясно поэтому, что психофизические явления духа и сами по себе еще не доказывают ни его индивидуальности, ни его существования; взятые сами по себе, они скорее говорят против него.
Где же и при каких условиях дух может иметь объективную, универсальную действительность?» (Там же, с. 575—576).
Когда Трубецкой говорит здесь о неком призраке, не надо забывать, что до этого он провел изрядное исследование понятия «душа» в античном мире, где оно распадалось на несколько составных частей. Но к этому я еще вернусь. Сейчас мне важнее, что из этого рассуждения и рождается собственное учение Трубецкого о душе.
«Самые понятия личности и души дают нам некоторое указание в ответ на этот вопрос. Ибо понятие личности есть прежде всего нравственно-юридическое понятие, сложившееся под влиянием нравственных и правовых отношений; а представление о душе есть первоначальное религиозное представление, развившееся под влиянием религиозной жизни народов, точно так же как и все понятия о бессмертии, воскресении и прочие.
Таким образом, нисколько не предрешая вопроса о духовной личности человека, мы видим, что самое понятие о ней он приобретает только в обществе» (Там же, с. 576).
Гениально противоречивое заключение. Да, понятия наши приобретаются в обществе, уже потому только, что мы вне общества и не живем. И сознание наше наполняется своим содержанием через общество. Все ведь верно. И в то же время, сознание должно быть, чтобы воспринять в себя понятия. И душа должна быть, чтобы в обществе появилось понятие о ней.
То, что делает здесь Трубецкой, самими философами называется гипо-стазированием понятий. Понятию придается некая то ли вещественность, то ли самостоятельность бытия. В чем оно здесь? Да в том, что если душа все-таки есть, оторвать от нее понятие о ней же и заставить его жить как понятие о понятии, или как искусственное словосочетание, которое теперь и исследуется всеми желающими, — это преступление. И не Трубецкого, конечно, а как раз той среды, из которой он брал свои подходы и узнаваемые черты философского способа вести себя.
Душа — это не то, что считает душой народ, потому что народ сер и безграмотен. Как можно судить о таких философских вещах, не имея фило-
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 софского образования?! А что говорит о душе философское образование? О! Оно очень, очень объективно и научно, оно говорит абсолютно неуязвимо: что такое душа, мы, вообще-то, не знаем, не понимаем, да и понимать не хотим. Но зато мы знаем, как использовать это слово для построения наших учений. И этому мы научим вас, что и будет признаком настоящей науки.
софского образования?! А что говорит о душе философское образование? О! Оно очень, очень объективно и научно, оно говорит абсолютно неуязвимо: что такое душа, мы, вообще-то, не знаем, не понимаем, да и понимать не хотим. Но зато мы знаем, как использовать это слово для построения наших учений. И этому мы научим вас, что и будет признаком настоящей науки.
Вот и Сергей Николаевич Трубецкой демонстрирует, как он ловко может использовать слово душа для построения своей философской теории:
«Человеческий дух объективен лишь в обществе и в общественной деятельности, в общении с разумными существами,— там, где они существуют истинно, не только в себе и для себя, но и в других и для других, и где другие существуют в нем и для него, так же, как он сам. Поэтому человеческий дух может быть вполне объективным лишь в совершенном, абсолютном обществе. И можно сказать, что стремление к такому обществу есть стремление к истинной жизни духа, бессмертию и воскресению.
Таким образом, вопросы о душе сводятся, в сущности, к вопросу о природе сознания: ибо если моя самость, мое "я " может быть объективно вполне лишь в сознании всех, то спрашивается, что такое это всеобщее сознание и как относится к нему мое личное сознание? Иначе, чтобы вернуться к прежней постановке вопроса: индивидуально ли, субъективно ли сознание или же оно соборно?» (Там же, с. 576-577).
Да нет, не сводятся вопросы о душе к вопросу о природе сознания. Просто потому, что прямо рядом с Трубецким множество философов видело душу совсем иначе, и даже будто бы не заметили его вопросов и «интуиции». Но как познать душу, если не отбросить такую помеху, как собственное сознание?! Ведь это же та материя, через которую душа и дается нам в познании. И как выйти на понятие Мировой души, если не увидеть, как твоя собственная душа сливается с другими, расширяясь до Народной души и шире?..
Я использую слово «интуиции», которое означает для меня прозрения, потому что Трубецкой ничего не доказал, но так много увидел! Какая способность прозревать и сущность и связи явлений была дарована этому нераскрывшемуся гению! Ведь соборность сознания, прочитанная как коллективизм, потом семьдесят лет была правящей идеологией России. Но никто не вспомнил Трубецкого, как он сам не помнил хотя бы того же Кавелина!
Наши философы все ненормально рано умирают! — воскликнет про него Лев Лопатин. Князь Трубецкой умер ненормально рано, надорвав здоровье на общественной деятельности, в которую сбежал от решения вечных вопросов. Как жаль!..
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 Глава 7. Субстанция души. Лопатин
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
Про русских философов всегда можно выяснить, к какому западному направлению мысли они принадлежат. Даже учебники истории философии так и писались, распределяя философов по принадлежности их к той или иной философской школе, которая всегда в России соответствует чему-нибудь ихнему, за исключением славянофилов, наверное. Лосский, к примеру, относит Льва Михайловича Лопатина (1855—1920) к персоналистам. Что это такое, я не знаю, да и выяснять не буду.
Слава богу, в отношении Лопатина иногда звучит хотя бы то, что на него большое влияние оказала философия Владимира Соловьева. Соловьева — единственного из русских философов — даже можно было поминать в философских работах. На других можно было только намекать. Упоминается рядом с ним и плеяда его современников — Трубецкие, Грот, иногда Введенский или Вернадский. Но почти невозможно найти в его работах ссылок на труды других русских философов, особенно предшественников. Это словно бы было не принято у наших мыслителей — развивать русскую философскую школу. Когда просматриваешь «Вопросы философии и психологии», которые долгие годы возглавлял Лопатин, то обнаруживаешь, что все общение с соплеменниками шло у тогдашних философов в виде критических статей, откликов и разборов вышедших книг. Но никогда не в виде сотворчества.
Культура, что ли, у них такая была, которая не допускала признавать наличие рядом с собой кого-то равного, с кем можно побеседовать в своей главной работе дружески. Либо разбить его в пух и прах, чтобы был такой спор, в котором ожидается рождение истины, либо пообщаться с зарубежными ребятами.
Вот такая обида щемит мою душу, когда я читаю работы тех лет. Ведь я уже показал наличие огромной философской и психологической школы, творившей в России науку о душе, и при этом даже еще не затрагивал религиозных философов. А каждое последующее поколение русских мыслителей ничего не знает о предыдущем. Лопатин ничего не слышал о Владиславлеве, который стал деканом философского факультета Петербургского университета в том же 1885 году, когда Лопатин защитил магистерскую диссертацию по философии в Москве. Естественно, грешно было бы даже ожидать от него знакомства с Кавелиным или Ушинским. Они же не чистые философы!
Стеснялись они, что ли, своих предшественников? Неуютно ли им было, как с провинциальными родителями выйти в свет крутого компьютерного кафе. Они ведь такие неловкие, такие излишне русские, что это не модно и вообще отстало! Нет, я не думаю, что это было откровенное молодежное хамство. Скорее, это была утонченная интеллигентность, вроде той, какой болели старатели на Клондайке: каждый столбил свой участок золотофило-софской жилы и с уважением относился к правам соседа на его философскую собственность.
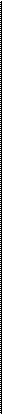 Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
 И еще при жизни Лопатин будет наказан забвением сам. В 1916 году Франк напишет, что в России никто не занимался наукой о душе! Это при живом-то классике этой науки! Что ж, наверное, история справедлива, и все получают то, что сеют...
И еще при жизни Лопатин будет наказан забвением сам. В 1916 году Франк напишет, что в России никто не занимался наукой о душе! Это при живом-то классике этой науки! Что ж, наверное, история справедлива, и все получают то, что сеют...
Учение Лопатина о душе, безусловно, складывалось в противостоянии взглядам Николая Яковлевича Грота, который издал свою работу «О душе в связи с современным учением о силе» в 1886 году. Прямых упоминаний Грота в трудах Лопатина, конечно, нет, и даже в посвященном ему некрологе он об этом споре не говорит. Но во второй работе Грота о душе — «Понятия души и психической энергии в психологии», изданной в 1897 году. есть места, тоже без упоминания имен, которые прямо адресованы Лопатину. Например, такие высказывания:
«Останется еще за психологией старая область отвлеченных метафизических рассуждений и мечтаний о субстанции души и ее отношении к веществу» (Грот. Понятия души // Вопросы философии, 1897, № 2, с. 243).
Или вот такое:
«Некоторым людям, знакомым с историей философских проблем и с основными учениями естествознания, может a priori показаться, что утвердительное решение вопроса о подчинении психической деятельности закону сохранения энергии может окончательно погубить идеализм и спиритуализм, учение о свободе человеческой воли и о бессмертии человеческого духа, то есть привести нас к новой форме материализма» (Там же, с. 244).
Это все осторожные выяснения границ золотоносных участков именно с Лопатиным, который и возглавлял тогда лагерь философского спиритуализма в России. Для нас же эти высказывания Грота важны тем, что вводят все рассуждения Лопатина во вполне определенную историческую канву, а именно в споры между естественниками и сторонниками души, затеянные Чернышевским и переросшие в травлю Кавелина и Юркевича.
Именно тогда Грот поддерживал близкие отношения с Кавелиным, но при этом защищал взгляды Сеченова. И весь первый период своего творчества, на который приходится и его первая работа о душе, он был позитивистом Спенсеровского толка, близким по взглядам к материализму Сеченова. Про его работы так и говорили, что в них ощущается влияние идей Сеченова. В своих работах он создал интереснейшее понятие души и сознания, вытекающее из физического закона сохранения энергии.
Правда, Грот многократно менял свои взгляды и к концу жизни стал чуть ли не защитником души и сторонником бессмертия духа. Поэтому однозначно о нем судить нельзя. Но это никак не уменьшает значения его работ для понимания Лопатина.
Лопатин начал спорить с идеями той школы, которую представлял Грот, еще в восьмидесятые годы. Уже в реферате «Вопрос о свободе воли», отчитанном им на заседании Психологического общества в 1889 году, говоря о человеческом сознании, он пишет по поводу причинности:
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 «Закон причинности есть закон неизменного единообразия и последовательности явлений, — вот определение, которое теперь наиболее распространено и с которым редко решаются спорить.
«Закон причинности есть закон неизменного единообразия и последовательности явлений, — вот определение, которое теперь наиболее распространено и с которым редко решаются спорить.
Известный английский логик Бэн сделал к этому определению — чисто формальному — очень важное добавление: он объявил, что закон причинности есть просто физический закон сохранения энергии. Как ни странен с первого взгляда этот неожиданный переход от самого общего и коренного закона нашего ума в область физики, Бэн, по моему мнению, был совершенно прав, когда на него отважился.
Ведь единообразная последовательность явлений только тогда и понятна, когда мы предположим существование их неизменного субстрата, всегда одаренного одним и тем же количеством движения, которое совершается по одним и тем же законам» (Лопатин. Вопрос о свободе воли, с. 29).
Введенное здесь понятие «субстрата» как некой основы, без которой невозможно рассуждать о любых явлениях, разовьется в последующих работах Лопатина в понятие «субстанции душевных явлений». Если есть субстрат физических явлений, должен быть и субстрат или некая иная основа и у духовных. Впрочем, переход к духу делается уже в этом рассуждении.
«Эти соображения бросают яркий свет на происхождение современного понятия о причинности; оно извлечено из данных физики; его подлинная опора есть механический закон сохранения движения, поставленный в основу объяснения законов природы еще со времен Декарта; его научное подтверждение можно найти лишь в явлениях внешнего мира, и оно по аналогии только переносится на явления жизни и духа.
Но ведь закон причинности— со всеми своими требованиями— существовал в человеческом уме гораздо ранее возникновения научной физики. И самый грубый дикарь,и едва начинающий сознавать ребенок понимают вопрос: почему?— и не могут мыслить действий без деятелей, их производящих» (Там же, с. 29—30).
Это рассуждение есть основа всей Лопатинской науки о душе. Именно оно разовьется в то, что Грот обзовет «мечтаниями о субстанции души и ее отношении к веществу». Но это будет на поверхности. А вот скрыто пройдет через все его творчество обращение к бытовой очевидности и стремление освободиться от тех чар, что наложила Цирцея-Наука. Нельзя уж слишком заигрываться в наукотворчество. Это приводит к тому, что ученый вынужден искусственно ослеплять себя и отучать видеть то, что видит любой человек с детства. Как-то нездорово это, и доверия не вызывает...
В 1890 году Лопатин публикует работу «Теоретические основы сознательной нравственной жизни». В ней он развивает все те же взгляды, но теперь он доходят до рассуждения о бессмертии души. Надо полагать, что именно здесь описано исходное понятие души Льва Лопатина. Потом он развивал его уже как философ и психолог. Но в бой с материализмом его бросало то понимание, с которым он пришел в философию. Каково же оно?
Прямого определения мы не найдем. Этим отличаются все бытовые понятия — они действенны, но не описываются и не определяются. Определение же, чаще всего, переводит их в разряд научных. Так что придется понимать, что видится за сказанным.
13 Заказ №1228 193
 Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
 Начинается все с разговора про этику, то есть науку о нравах. Это всегда означает, что мыслитель хочет поменять существующий мир, воздействуя на сознание людей. Значит, он живет ради мечты об ином мире, ради какого-то «идеала», которому и служит. И действительно, Лопатин всю жизнь бился за «иную Россию», но сейчас я говорю об этом лишь затем, чтобы отсечь этот слой образов, лежащих поверх понятия души.
Начинается все с разговора про этику, то есть науку о нравах. Это всегда означает, что мыслитель хочет поменять существующий мир, воздействуя на сознание людей. Значит, он живет ради мечты об ином мире, ради какого-то «идеала», которому и служит. И действительно, Лопатин всю жизнь бился за «иную Россию», но сейчас я говорю об этом лишь затем, чтобы отсечь этот слой образов, лежащих поверх понятия души.
«Свобода человеческой воли и нравственная разумность мировой жизни— таковы два коренные предположения этики, насколько она должна быть объективным знанием о действительном назначении человека. Только при них нравственный идеал становится подлинным долгом, то есть неотменною целью деятельности всякого разумного существа. И мы знаем уже, какое содержание получит этот идеал, если мы поверим, что вся вселенная есть реальное воплощение свободного творчества духа» (Лопатин. Теоретические, с. 111).
Рассуждения эти вовсе не «идеалистические бредни», выскочившие дополнительно к основному философствованию. Это продолжение все того же спора с Гротом — что есть первооснова мира, его субстрат или субстанция: материя или дух. Понятие же «идеала», при его переводе на русский, оказывается «образом мира», что означает, что здесь идет противоборство двух картин мира, одна из которых естественнонаучная, а вторая — идеальная, условно говоря. Но и та и другая ценны и сильны тем, что предписывают определенные правила поведения, вытекающие из лежащих в их основе законов.
«Мир, если он создание свободы и разума, должен носить в себе цель, и этой цели ни в чем другом без противоречия положить нельзя, как в согласном существовании и бесконечном совершенствовании того, что имеет в себе настоящую, исполненную действительного творчества жизнь.
Человеческая душа есть то бесконечно ценное в себе, пред чем бледнеет значение всех других вещей. Христос спрашивал: "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?"» (Там же).
Если вы вглядитесь в эти слова, то вас поразит мысль, что Наука внедрила своим служителям именно мысль о возможности покорить мир. Именно за это они и продались своему искусителю...
Собственные рассуждения Лопатина о душе в этой главе неинтересны. Но в конце ее он приходит к своему главному вопросу «о вечности нашего умопостигаемого существа» (Там же, с. 120).
Лопатин продолжает спор с естественниками, с физиками, в частности. Спор, конечно, не физический, а философский. Он показывает, что опровергать бессмертие духа доводами физики недопустимо.
«Те самые аргументы, которым мы приписываем полную силу, когда дело идет о материальном мире, выставляются неубедительными, темными, схоластическими, когда их переносят на область духа. К одному и тому же логическому приему, в совершенно однородных случаях применения, прикладываются две разные меры оценки. Действительно, чем, например, доказывается неуничтожи-мость вещества, которая является основным положением современного физического миросозерцания?
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 Совершенно очевидно, что эта истина не допускает опытного обоснования. Нет таких весов, которыми можно было бы бесспорно показать, что ни одна малейшая частица вещества не исчезает и не возникает; нет таких инструментов, которые были бы способны обнаружить, что материя всегда одна и та же, что она не уничтожается и не появляется вновь, хотя бы постоянно в одном и том же количестве. Даже в отдельных опытах ничего подобного доказано быть не может.
Совершенно очевидно, что эта истина не допускает опытного обоснования. Нет таких весов, которыми можно было бы бесспорно показать, что ни одна малейшая частица вещества не исчезает и не возникает; нет таких инструментов, которые были бы способны обнаружить, что материя всегда одна и та же, что она не уничтожается и не появляется вновь, хотя бы постоянно в одном и том же количестве. Даже в отдельных опытах ничего подобного доказано быть не может.
А между тем мы отдельными фактами не ограничиваемся, мы распространяем истину о неистребимости вещества на бесконечность пространства и времени: мы вполне убеждены, что оно никогда и нигде не возникает и не исчезает» (Там же).
Как видите, это идет все тот же спор по поводу закона сохранения энергии, являющийся продолжением разговора о причинности. И Лопатин на самом-то деле не отказывает ему в праве на существование, он говорит всего лишь о том, что закон этот не закон вовсе, а рабочее предположение, когда-то принятое для облегчения решения физических задач до того мига, пока не будет обнаружено, что мир устроен иначе. По большому счету, Лопатину нет настоящего дела до этого закона, для него он — частное правило, которое может быть и верно. Ему нужно лишь то, чтобы ради торжества науки не уничтожали тех, кто может спорить с ее правилами. Оттого, что не будет сомневающихся, предположения законами все равно не становятся.
«Неуничтожимость материи есть вывод из истины более общей, из неунич-тожимости субстанции вообще» (Там же).
А что такое эта неуничтожимая субстанция, исходная первооснова вселенной? Отсюда и переход к разговору о душе.
«Это значит, что занимающий нас вопрос весь сводится к следующему: как мы должны судить о духе? Есть он субстанция, то есть самостоятельный источник некоторой своеобразной жизни, или только свойство физического организма, математически неизбежный результат сочетания механических процессов?» (Там же, с. 121).
Это основной вопрос философии и жизни Льва Михайловича Лопатина. Он непосредственно объединяет в себе три понятия: духа, души и сознания. В этом смысле Лопатин мог бы считаться продолжателем Ушинского, если бы только были хоть какие-то основания считать, что он был знаком с его работами. Впрочем, переоткрывать уже открытое, сносить и делать заново то, что уже сделали предки, это так по-русски. Нам не жалко, у нас всего много!
«Вопрос может идти лишь о том, как нужно представлять себе эту вечность духовной субстанции?
Должна ли она относиться только к всемирной психической силе, разлитой везде, которая непрерывно творчески рождает внутреннюю жизнь индивидуальных духовных центров и деятельность которой эти центры лишь пассивно отражают в себе, — или сами индивидуальные центры сознания обладают своим независимым творчеством — стало быть, имеют бытие субстанциальное, и вечность должна их касаться?» (Там же, с. 121—122).
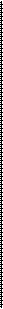 Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 Лопатин еще много писал на эту тему, так что вряд ли он считал, что ответил на этот вопрос окончательно. В работе, считающейся у него важнейшей, в «Явление и сущность в жизни сознания» он пишет все о том же. И его взгляды полностью современны, потому что применимы к тому, как рассматривает свой предмет вся современная академическая психология.
Лопатин еще много писал на эту тему, так что вряд ли он считал, что ответил на этот вопрос окончательно. В работе, считающейся у него важнейшей, в «Явление и сущность в жизни сознания» он пишет все о том же. И его взгляды полностью современны, потому что применимы к тому, как рассматривает свой предмет вся современная академическая психология.
«Итак, для физической области неизбежная соотносительность явлений и субстанций есть аксиома, признанная всеми.
Совсем иначе судим мы о жизни духа: здесь общераспространенный взгляд склоняется в другую сторону. По весьма популярному теперь мнению, факты душевной жизни суть чистые явления или чистые состояния и события, в которых ничто субстанциальное не присутствует и не выражается.
Душевные явления не имеют никакого носителя, они не привязаны ни к какому субстрату, — в этом их основная и наиболее резкая особенность. Наша душа есть только множественность психических явлений, связанных между собою; это — совокупность перемен, в которых, однако, совершенно отсутствует то, что подлежит переменам.
Другими словами, никакой души как существа, как субъекта душевных состояний нет вовсе» (Лопатин. Явление, с. 147).
Из этого отрицания правящего представления уже можно сделать вывод о том, как понимал душу сам Лопатин. И действительно, странно: явление есть, а что являет себя, не вижу. Почему? Да не хочу, наверное! Почему? Может, так проще? Да не похоже, скорее, так как раз сложнее. Ведь так естественно, просто само вытекает из устройства нашего разума, отразившегося в языке: если есть явление, посмотреть, что явилось. Но пути научные как раз не ведут к простоте, наука вообще не для простых умов.
Основной работой, прямо посвященной понятию души, стал реферат, прочитанный Лопатиным в Психологическом обществе в 1896 году. Он и назывался «Понятие о душе по данным внутреннего опыта». В связи с этим сочинением необходимо указать еще на одну странность той русской философии. Вся эта плеяда мыслителей девяностых годов почему-то страдала неспособностью писать о том, что заявили в названии. Как вы понимаете, в статье «Понятие о душе...» речи о понятии души не будет.
Что это означает для читателя, да и для философии Лопатина? Неприятную вещь. Мысли, заложенные в этой работе, чрезвычайно глубоки, но плохо доступны для усвоения. И не только потому, что без понятия «душа» писать о душе так же сложно, как без бумаги и ручки. Не хватает инструментов для рассуждения. Но это еще и приводит к тому, что сам Лопатин постоянно сбивается с разговора о душе на разговор то о духе, то о сознании. И это еще не самое страшное. Хуже то, что теперь, поработав над темой, он больше не говорит о том понятии души, которое когда-то принес в философию из христианства, а говорит о каком-то лично своем понятии, которое никому неведомо и непонятно.
Кстати, он тоже был из числа любителей употреблять в простонаучной философской речи словечко, созданное Владиславлевым при переводе Кан-
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 та — «вещь в себе». Этот искаженный перевод простого понятия «вещь сама по себе», «вещь как таковая в противоположность представлению о ней же» делает непонятными все рассуждения русских кантианцев. И при этом постоянно ощущаешь, что они то ли наслаждались этим тайным языком, то ли что-то такое видели сквозь эти философические игры со словами.
та — «вещь в себе». Этот искаженный перевод простого понятия «вещь сама по себе», «вещь как таковая в противоположность представлению о ней же» делает непонятными все рассуждения русских кантианцев. И при этом постоянно ощущаешь, что они то ли наслаждались этим тайным языком, то ли что-то такое видели сквозь эти философические игры со словами.
Вот в такие же игры превращается постепенно и Лопатинское понятие о душе. Он настолько ушел от исходной простоты, что его перестали понимать даже лучшие из друзей, и по поводу этого его «субстанциального понятия души» произошел казус. Владимир Соловьев, бывший долгие годы вдохновителем и философским гением Лопатина, решил сделать ему приятно и помянул его в «Первом начале теоретической философии» так, что Лопатин взъелся и доказывал, что его неверно поняли, чуть ли не до самой смерти.
Из этого родился редкий случай, когда русские философы называли друг друга в своих философских трудах, но выглядело это как обычный журнальный скандал, которым воспользовался Алексей Введенский и показал, что он тут поумнее всех будет, а оба маститых философа ударились в крайности в их понятии о душе. Что хочет сказать о душе сам Введенский, вообще понять нельзя, поэтому я эту историю опускаю. А вот как мучился со своим понятием души Лопатин, покажу. И мучился он, по-моему, как раз потому, что не захотел вывести этого понятия.
Что я имею в виду. Очень простую вещь, которую подсказывал еще Владиславлев, когда говорил, что народ имеет более глубокие психологические понятия, чем наука. Означает этот его неуслышанный призыв исследовать понятие души через язык то, что никакой иной души, кроме той, что народ или язык называет душой, нет. Исследователь может в ходе исследований найти нечто, скажем, некую сущность, которая на его взгляд и будет душой. Но это не будет душа. Это он нашел нечто, для чего посчитал удобным использовать народное имя. Душой она будет лишь тогда, когда совпадет с тем, что понимает под душой народ.
При этом исследователь может видеть тонкий состав человека гораздо глубже народа, но это не значит, что он может применить имя души к тому, что разглядел. Он должен дать своим находкам свои имена. А душой будет только душа. Просто потому, что народ решил ее так называть. Ей, кстати, тоже можно дать иное имя, например, психика. Но это все равно как соседской собачке Жучке дать имя Двортерьер или Киноид. Жучка останется для соседа Жучкой, а твои умствования — либо заигрыванием с соседом, либо хамством.
Душа — это то, что народ называет душой. Вести какие-то философические разговоры о душе, не озаботившись тем, чтобы понять, какое понятие вкладывает народ в это имя, — это тоже хамство. Да еще и мелкая кража, вроде карманной. Нам, философам, наплевать на то, что вы все думаете и знаете, мы будем считать, что вы все недоумки, и поучим вас тому, что в действительности означают ваши слова. А поучим просто: мы вложим в привычные вам слова свой заумный смысл, и вы сразу поймете, что никогда не понимали того, что говорили.
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 В сущности, это мещанин во дворянстве наоборот. Мы привыкли смеяться над этим разбогатевшим плебеем, который пробрался в высшее общество за счет умения делать деньги, а сам даже не знает, что говорит прозой! Какой осел! Но вдумайтесь, над кем тут насмешка? Этот необразованный осел сумел показать великолепное знание устройства мира, что позволило ему так взаимодействовать с ним, что мир стал управляем и наградил его богатством. А вот теперь появляются ученые шарлатаны и объясняют ему, как разучиться видеть мир, для чего всего-то и нужно вложить в привычные слова искаженный смысл, а то, что работало, назвать новыми именами, чтобы взаимодействие с миром затруднилось. И что в итоге? Его обирают, он теряет деньги. Значит, теряет действительную связь с настоящим.
В сущности, это мещанин во дворянстве наоборот. Мы привыкли смеяться над этим разбогатевшим плебеем, который пробрался в высшее общество за счет умения делать деньги, а сам даже не знает, что говорит прозой! Какой осел! Но вдумайтесь, над кем тут насмешка? Этот необразованный осел сумел показать великолепное знание устройства мира, что позволило ему так взаимодействовать с ним, что мир стал управляем и наградил его богатством. А вот теперь появляются ученые шарлатаны и объясняют ему, как разучиться видеть мир, для чего всего-то и нужно вложить в привычные слова искаженный смысл, а то, что работало, назвать новыми именами, чтобы взаимодействие с миром затруднилось. И что в итоге? Его обирают, он теряет деньги. Значит, теряет действительную связь с настоящим.
Вот так же и Лев Лопатин в погоне за все более тонким видением того, что назвал духовной субстанцией, все более, на мой взгляд, теряет связь с чем-то настоящим, что чувствовал вначале. При этом его работы не теряют блеска и поразительного видения неожиданных связей между вещами и явлениями. Они только становятся все менее понятными. Тем не менее, попробую пройти по тем рассуждениям, в которых он раскрывает свое видение, названное им «понятием о душе».
Лопатин начинает работу с описания тех взглядов на природу души, которые стали правящими к концу девятнадцатого века. Они остаются правящими взглядами психологии и поныне, поэтому их стоит привести.
«Между общими философскими предположениями современной психологии к числу самых популярных нужно отнести то, по которому в нашей душе мы знаем только явления и ничего другого не можем знать.
По этому взгляду все, что мы можем воспринять и сознать о себе самих, тем самым неизбежно оказывается явлением, а стало быть, и наша душевная жизнь, поскольку она наблюдается и понимается нами, должна представлять цепь явлений и ничего больше. Существует ли какая-нибудь субстанция психических феноменов?
Этого мы не знаем наверное; во всяком случае, мы не можем составить о ней никакого понятия по тем данным, какие доставляет нам опыт. В явлениях души не заключается никакого намека на свойства ее сущности. Что такое душа в самой себе, есть ли она самобытное, бестелесное существо, по своим признакам резко противоположное всему материальному, — или носителем духовных процессов является вещество, из которого слагается наш телесный организм, — или, наконец, подлинный субстрат психического существования представляет нечто среднее, возвышающееся над противоположностью материального и духовного, одинаково способное служить основой и того и другого?
Эти вопросы могут интересовать метафизиков, но до них нет дела настоящему психологу» (Лопатин. Понятие, с. 174).
Да, настоящему психологу до них действительно нет дела. Он знает все ответы до того, как задал себе вопросы. Мучиться с неопределенностями — это удел мечтателей, вроде Льва Лопатина.
Что больше всего задевало его в этой «позиции», в которую выставили себя «настоящие психологи», так это утверждение, что в явлениях души не
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 заключается никакого намека на свойства ее сущности. Узколобое утверждение, которое могло быть сделано только в состоянии предубеждения или по злому умыслу. И он приводит дальше прекраснейшую цепь рассуждений, показывающих, что невозможно воспринимать явления, не воспринимая в нем являющееся. Это большое рассуждение понятно и настолько хорошо, что я предпочитаю не резать его на куски, а отослать к первоисточнику. В каком-то смысле, это школа и классика русского философского рассуждения.
заключается никакого намека на свойства ее сущности. Узколобое утверждение, которое могло быть сделано только в состоянии предубеждения или по злому умыслу. И он приводит дальше прекраснейшую цепь рассуждений, показывающих, что невозможно воспринимать явления, не воспринимая в нем являющееся. Это большое рассуждение понятно и настолько хорошо, что я предпочитаю не резать его на куски, а отослать к первоисточнику. В каком-то смысле, это школа и классика русского философского рассуждения.
Что же касается его понятия о душе, то оно сводится к понятию «субстанции» душевной жизни. Что такое «субстанция»? В данном случае нет смысла обращаться к словарям, поскольку надо понять Лопатина. Уже из этого приведенного отрывка видно, что он свободно заменяет «субстанцию» на «субстрат» и на «сущность». Иными словами, субстанция душевных явлений для него есть то, что являет себя в них.
Но когда начинаешь задаваться вопросом, а что являет себя для Лопатина, то оказывается, что вовсе не душа, а я. Иногда он говорит об этом, как о «нашем подлинном существе» (Там же, с. 177). А иногда и гораздо определеннее: «наше я, или наша душа» (Там же, с. 200).
Но в целом его взгляды на понятие души теперь гораздо ближе к Декарту, чем к христианству. Это мое собственное мнение, но оно удивительно совпадает с мнением Владимира Соловьева, которое обидело Лопатина. А значит, он не согласен с ним. Вот как он возмущался:
«Он причисляет меня к многочисленным сторонникам Декарта, которые разделяют с этим последним его главную ошибку в решении вопроса о природе сознания. <...>
Обвинение В. С. Соловьева меня несколько удивило. Как? Я оказываюсь защитником самодостоверного существования нашего субстанциального я в том смысле, что оно не нуждается ни в каких доказательствах и должно быть принято прямо сейчас на основании свидетельства непосредственного сознания с абсолютной обязательностью?» (Лопатин. Вопрос о реальном, с. 222—223). Поняли? Если поняли, значит, вы профессионал. А я ничего не понял, да и никто не понял. А Соловьев, которому оставалось жить всего год, не стал даже отвечать на возмущение сердечного друга Лёвы и сочинил стишок, который послал А. Д. Оболенскому:
«Сею ночью, отходя ко сну, но уже весьма отягченный оным, я сочинил письмо моему другу Лопатину, довольно нелепо ополчившемуся на меня из-за какого-то "феноменизма".
Ты взвел немало небылицы
На друга старого, но ах! —
Такие ветхие мы лица
И близок так могилы прах,
Что вновь воинственное пламя
Души моей уж не зажжет,
И полемическое знамя
Увы! висит и не встает.
Я слишком стар для игр Арея,
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 Как и для Вакха я ослаб, — Заснуть бы мне теперь скорее... Ах! мне заснуть теперь пора б. "Феноменизма" я не знаю, Но если он поможет спать, Его с восторгом призываю; Грядем, возлюбленный, в кровать!» (Борисова. Примечания, с. 514).
Как и для Вакха я ослаб, — Заснуть бы мне теперь скорее... Ах! мне заснуть теперь пора б. "Феноменизма" я не знаю, Но если он поможет спать, Его с восторгом призываю; Грядем, возлюбленный, в кровать!» (Борисова. Примечания, с. 514).
Спор этот, правда, возник не по поводу «Понятия о душе», а чуть позже. Но он показателен донельзя. Что-то неладно было у Лопатина с использованием понятий.
При этом вчитайтесь в его рассуждения о природе сознания, которую он показывает на примере памяти, тожества личности и понятия времени. Что-то настолько большое пыталось проявить себя в нашем мире сквозь этого жреца субстанциональности, что ему, право, можно было простить множество мелких огрех.
«То, что мы назвали исчезаемостью явлений, абсолютною мгновенностью их составных элементов, объясняется из того простого условия, что явления совершаются во времени и проходят вместе с ним.
Если только мы допустим, что время представляет форму всяких явлений вообще (а спорить против этого значило бы идти против очевидности), мы тем самым должны будем признать, что абсолютная текучесть есть их непременное и неотъемлемое свойство: в нем тогда наглядно схематизируется основная природа их всеобщей формы.
В самом деле, нельзя уместиться во времени, как в своей исчерпывающей форме, не подчинившись его основным отношениям, — не возникая вместе с наступающими моментами и не исчезая вместе с проходящими,— потому что в самом времени ничего не дано, кроме непрерывного прохождения моментов» (Лопатин. Понятие, с. 180).
Явление потому и временно, что являет себя, чтобы потом исчезнуть. В этом смысле время — это способ говорить о том, что делается с явлениями. Они то существуют в нашем восприятии, то исчезают, что значит, что их существование временно. А как же бессмертие? Если душа бессмертна, если я бессмертен, я не могу быть явлением.
«Если коренное свойство явлений состоит в непрерывном исчезновении всего, что в нем дано, бытие субстанциальное характеризуется, напротив, посто янством своего пребывания.
Явления никогда не бывают одними и теми же, каждый новый, самый неуловимый момент их развития неизбежно приносит новые явления, которые становятся на месте прежних; напротив, все, что можно понять как субстанцию, всегда остается одними тем же. Так, вещество, из которого образована вселенная, в настоящую минуту совершенно то же, что и миллионы лет назад, хотя оно тогда было дано и в иных сочетаниях, нежели теперь. <... >
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 Явления, происходящие с ним, составляют ему в этом отношении резкую противоположность: движение, происходящее сейчас, может быть, очень похоже на какое-нибудь прежнее движение, но оно никак не одно с ним...» (Там же, с. 180-181).
Явления, происходящие с ним, составляют ему в этом отношении резкую противоположность: движение, происходящее сейчас, может быть, очень похоже на какое-нибудь прежнее движение, но оно никак не одно с ним...» (Там же, с. 180-181).
После этого рассуждения Лопатин говорит об ошибках картезианцев, что означает, что, видя душу сходно с Декартом, он при этом ощущал себя философствующим вполне независимо, а на Соловьева обиделся за невнимательность к себе именно как к философу. Но это между делом, а что касается понятия субстанции, то как раз отсюда Лопатин делает переход к природе памяти и ощущению тожества себя с самим собой в воспоминаниях, а значит, во времени.
Именно здесь я бы хотел поспорить с Лопатиным, хотя этот спор был бы в его пользу. Мне кажется, что он не прав, считая время формой явлений. Время как раз есть их материя. Просто и время, и явления являются формами, то есть выражением той сущности, что в них является. Форма и явления действительно находятся в связи, прав Лопатин, но в какой? Скорее всего, это лишь разные имена одного и того же, либо разные фани одного и того же. И это кажется мне большой находкой, которая еще ждет своего понимания.
«В самом деле, процесс тогда лишь мыслим и понятен для нас, когда мы представляем себе, что предшествующие явления не просто исчезают, а переходят в последующие и сливаются с ними, то есть когда мы думаем, что содержание предыдущего не пропадает в бездне ничтожества целиком, а что-то в нем остается и переносится в последующее, только изменив свою форму. Это что-то и есть субстанциальное в вещах» (Там же, с. 182).
Под «процессом» он здесь, очевидно, понимает те движения, что описывал чуть выше. Поэтому и возникают тут какие-то «вещи», что, безусловно, означает вещественность того, что меняет формы во вселенной. Иными словами, речь пока идет не о душе, а об аналогии, то есть о сопоставлении душевной субстанции с материальной. Но если проводить аналогию до конца последовательно, то получится, что неизменяемое в душе подобно веществу в материи. То есть является неким «духовным веществом». Что это такое — особый разговор. Но оно бы и должно считаться носителем памяти.
Вообще-то, все рассуждения о субстанциальности так и крутятся вокруг такого понимания духовной основы. Пусть «духовное вещество» были бы всего лишь слова, но зато русские, а значит, хоть как-то понятные. Их хоть как-то можно было бы опровергать, исследуя и продвигаясь в понимании. Но тогда пострадало бы исходное знание Лопатина о том, что такое дух. А дух — это нечто во всем противоположное материи! Что-то вроде: вы говорите, что материя — это то-то и то-то, — так вот у нас все наоборот!
Понятие личной духовности, а еще лучше, спиритуализма, — это такая отметка исключительности, такой соблазн, что даже «духовность» надо не объяснять, а превратить во что-то, что тебе либо дано понимать с рождения, либо ты вообще не тот человек!
Вот Лопатин восклицает:
«Покинутое духовное понимание мира точно ли окончательно обнаружило свою внутреннюю несостоятельность или от него просто отвернулись, потому
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 что в определенный исторический период оно, ввиду особых обстоятельств, перестало удовлетворять умственным требованиям?» (Там же, с. 205).
что в определенный исторический период оно, ввиду особых обстоятельств, перестало удовлетворять умственным требованиям?» (Там же, с. 205).
Я и понимаю его и готов за него биться против врагов «духовного понимания», и в то же время мне постоянно хочется обернуться к моему вождю и спросить: а что такое «духовное понимание мира»? Но я боюсь задавать такие вопросы, дабы не оказаться в числе врагов духовного понимания. И я ищу его тайком по его работам, и только запутываюсь и запутываюсь.
Но для себя я знаю: духовное — это не материальное, и значит, родилось после того, как стало пониматься, что такое вещество или материя. Но ведь такой подход здорово делит мир на друзей и врагов, но не дает возможности исследовать, потому что нельзя исследовать то, что исходно не доступно исследованию или познанию. А утверждение: все наоборот, все не так, — означает, что и исследовать нельзя, раз про материю сказано, что ее можно исследовать.
Дух непознаваем человеком! Поэтому Лопатин и вводит непонятные иностранные речения, позволяющие ему возмущаться, что его поняли не верно. Однако, про вещественное понимание души он скажет в 1899 году с жесткой определенностью, рассказывая о взглядах «спиритуалистов и мистиков наших дней»:
«В их уме часто не оказывается самых простых категорий, чтобы мыслить духовную действительность. <...>
Теперь не приходится изумляться, если, читая возвышенные рассуждения о Божестве, о человеческом духе, об отличной от духа человеческой душе, о жизненной силе и так далее, мы вдруг узнаем, что и Бог, и дух, и душа, и жизненная сила суть только разные виды вещества различной тонкости и разреженности» (Лопатин. Вопрос о реальном, с. 204).
К чему же возмущение, если дух непознаваем?! Откуда ж набраться категорий? А если он познаваем, если исходно мы и начали разговор с того, что духовная сущность познается в ее явлениях, даже больше, мы не можем познавать явления, если у нас нет способности воспринимать саму сущность, то чего же делать темным то, что и так темно?! Почему не упрощать, не отталкиваться в исследовании от общедоступного и понятного? Не было ли для Льва Михайловича наслаждения в том, чтобы быть последним защитником уничтоженного царства?
Как бы там ни было, но «вещество различной тонкости и разреженности» в физике конца девятнадцатого века, вероятно, означало то, что сейчас бы назвали разными видами энергии, поскольку сейчас и все-то вещество рассматривается физикой как частный случай энергии. А это значит, что мы опять вернулись к спору Лопатина с Гротом о применимости закона сохранения энергии к понятию души. И как бы я ни искал личного бессмертия и подтверждения самостоятельной жизни души, Лев Михайлович невнятен со своей духовностью.
Но зато остается пронзительным и понятным вопрос, который его мучил:
«Почему я, однако, знаю, что все воспоминаемое мною было действительно?» (Лопатин. Понятие, с. 192).
Глава 7. Субстанция души. Лопатин
 Это и есть вопрос о тожестве личности, но на самом деле это как раз вопрос о том, что является носителем моих воспоминаний, который современная нейропсихология решить так и не смогла. Физического носителя эн-граммы, то есть собственно воспоминания, не найдено.
Это и есть вопрос о тожестве личности, но на самом деле это как раз вопрос о том, что является носителем моих воспоминаний, который современная нейропсихология решить так и не смогла. Физического носителя эн-граммы, то есть собственно воспоминания, не найдено.
«Он не так неуместен, как может показаться. Ведь всех этих событий, пережитых мною вчера, сейчас уже нет. Вчерашний день прошел, а с ним прошло все, что его составляло. Правда, я о нем сохраняю воспоминание. Но что оке оно такое?
Ведь воспоминание есть мое представление или ряд представлений, который сознается мною теперь, сейчас, так же, как я, например, сейчас вижу перед собою горящую свечу» (Там же).
Вот отсюда и производится выход к природе души, которую Лопатин понимает как Я.
«Мне уже однажды приходилось защищать тот тезис, что сознание реальности времени есть самое очевидное, самое точное, самое бесспорное доказательство сверхвременной природы нашего я.
Если вспомним, что было сказано раньше о природе явлений вообще, об их отношении к времени и о природе самого времени, мы поймем неизбежность такого вывода. Для нас теперь ясно, что если бы душевная жизнь и сама душа представляли простую череду состояний, то существование каждого из них должно было бы ограничиваться тем мгновением, в которое оно дано, но не могло бы содержать моментов уже протекших или еще не возникших» (Там же, с. 194).
«Другими словами, память и сознание времени суть a priori необходимые атрибуты деятельной субстанции, сознающей себя» (Там же, с. 195).
Если перевести это последнее высказывание с научного на русский, то означает оно, что человеческая душа не является чистой доской, как утверждал Локк, потому что, по его взглядам, a priori, то есть до опыта, в ней ничего не может содержаться. Наша душа есть продукт нашего опыта. На это Лопатин говорит: душа не творится человеком с помощью восприятия, она даже не является «субъективным наростом на физиологических операциях животного организма» (Лопатин. Вопрос о реальном, с. 207), что и есть приравнивание души к череде явлений, — душа приносит с собой некоторые способности из своего бессмертия. Из того самого безвременья, где она существует, когда не является нам в своих явлениях, и даже когда является. А приносит она с собой сознание времени и память. Кстати, Грот и с этим не согласился.
Но и во взглядах Локка и во взглядах Лопатина остается место для еще одного вопроса: что же такое та доска, на которую опыт заносит впечатления, или: что же такое та вневременная духовная субстанция, если у нее есть способность сознавать время и запоминать? Что является носителем памяти? Во что запечатлеваются воспоминания и где они живут тогда, когда я их не помню?
Может быть, прав был Ушинский, утверждая, что у души может быть некая «вещественность», хотя бы в виде сознания?
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 Глава 8. Споры о душе
Глава 8. Споры о душе
Девяностые годы девятнадцатого века действительно были временем расцвета русского философствования. Не берусь перечислять все возникшие тогда направления философии, но что касается души, то тут спорили все и со всеми. Больше всех, конечно, с Лопатиным. Наверное, потому
 2015-05-22
2015-05-22 562
562







