Яванаили посвящается…

I

С тальной блеск. Ложка. Аллюминиевая. Раскаленная, как и все вокруг. Ему жарко, и он потеет, поедая эти горячие, терпкие щи. Откусывает хлеб, чтобы хоть чуть-чуть притупить кипящую боль на кончике языка, обожженного первой ложкой и, до сих пор, запоздало колющего при каждом неловком тыканье в раскаленную щеку. Горячо! Сначала не глотает, сперва поперекидывает капусту и кукурузную кашицу по всему рту, а только потом глотнет, а то совсем горячо. Снова и снова откусывает хлеб, но и он ему противен, ведь и он сдался перед всепоглощающей жарой. И мягкий ломоть, на его глазах, сперва покрывается испариной, а потом постепенно превращается в сухую корку. Горячо! Весь пропотел, прежде чем добрался до синего цветочка на донышке тарелки. И в голову тотчас бьют воспоминания.
Он сидит перед тарелкой с пюре. Кукурузным пюре. Он ненавидит его. И няня его – старая, добрая, теплая, морщинистая Урсула… Она тоже ненавидит это пюре – она его союзник. Но рядом отец: он злится, он морщится, он – враг. И Урсула гладит его доброй шероховатой ладонью: «Ну, малыш, ну, Рикки, пожалуйста, еще ложеньку.» Как она умеет образовывать всякие словечки. Такие неправильные, корявые, морщинистые и такие нежные. Он нагибает голову и сует за щеку горячую ложку. Отвратительно. Тошнотворно. Его мутит, и он не выдерживает – сплевывает. Отец темной тенью вырастает у него за спиной и стремительно дергается в его сторону. Машинально, уже в полузабытье, отклоняется в сторону, но рука отца успевает быстрее. Сильный удар в его затылок. Он окунается носом в зловонную желтую слякоть. Он знает, что за спиной уже схватились Урсула и отец. И он знает, что она победит. Она всегда побеждает. Как медведица встает между ним и вторым ударом и спасает. Всегда. А отец виновато садится на свое место или и вовсе уходит, недовольно ворча: «Совсем его избаловали, фрр.» А в окно бьет солнце. Горячо!
Он глотает последнюю ложку и неловко откидывается на скрипучую поломанную спинку стула, сделанную из того ясеня, что срубил пятнадцать лет назад Джонни Дровосек, погибший через пятнадцать дней после того под колесами поезда. Единственный, кто погиб так из всех жителей Мнарувесто. Горячо!
***
У каждого в Мнарувесто есть своя температура. И самый горячий он – Криквун д‘Морс, по прозванию Утиль. У каждого есть своя температура, даже у Невидимки. И только у него, бесплотного духа, она может меняться. Колеблется между 7°С и 70°С. Ведь именно это разброс температур воздуха в Мнарувесто. Горячо! Воздух и ветер изменчивы, а он – нет. 48°С. Он побил даже Льюка Пирожка. Такого румяного старичка… Он даже застал его, притчу во языцех. Однако, 46°С! Видел пару раз, как потухает его огонь на одре болезни, в соломенной хижине на краю Мнарувесто.
А еще у всех жителей есть прозвища. Большинство из них придуманы самими людьми, а у него – нет. В его десять лет, мама купила у индуса-проходимца такую кожаную потертую книжку, ему на день рождения. «Тиль Уленшпигель»! Он с ней, с тех пор, и не расставался. Еще бы, ведь Тиль – его alter ego. И додумался же он ляпнуть в салуне попьяне: «Я Тиль У.» Болван! Его тотчас и окрестили «Утилем». Вот болван! Теперь никогда, видать, не отлипнет…
А сейчас даже думать больно, так горячо. Горячо! Выходит из усадьбы д‘Морс. Как всегда по понедельникам дневной обход Мнарувесто. На плече дробовик. Ковбойская шляпа лихо сдвинута на лоб. В зубах спичка. Он так любит вкус серы. Горячо! День побеждает утро с его сомнительной, но все же прохладой, какая бывает так часто тихими, ноябрьскими вечерами, когда Шаман гадает на зубочистках. А сейчас приходит день. День, как жерло вулкана. Лава, кипящая под мокасинами. Горячо! Поезд тихо стучит колесами. Милочка Мари лихо крутит длинными, крашенными, синими волосами, сплетенными в тугие косы. Бежит к платформе. «Билли, постой! Мне к Дрю Продавцу надо! Подожди!» Запыхалась. А Билли щелкает рычагами. Двери отворяются. Мари впрыгивает в вагон. А ему, Утилю, пора обходить Мнарувесто, ведь все знают, что по понедельникам Шериф валяется пьяным у салуна Дика Промочи Горло.
***
Утиль – самый лихой парень города Мнарувесто (который и не город вовсе, а всего-навсего большое поселение, только никто не смеет возглашать это на его кривых улочках, потому что знает, что ребра здесь за такие речи могут переломать молотками и гаечными ключами). Так думает Утиль, идя по этим улочкам, держа на плече старый дробовик его покойного отца – Вурдала д‘Морса старшего.
Был еще Вурдал д‘Морс младший. Он исчез из жизни маленького Рикки, когда тому было всего три года. Он не помнит как, а только знает, что брат погиб. И еще отчетливо проносятся перед ним глаза матери, полные серебристыми слезинками, оставляющими на щеках горячие красно-черные борозды, подобные тем, что остаются в теплой влажной земле, когда по ней скользит колесо телеги Фургонщика Муна.
Горячо! Вскипает мозг в голове Утиля. Горячо! Тихо шагает он по почти пустынным улицам Мнарувесто. То тут, то там появляются люди. Мелькают между хижин и деревянных домов, несут торопливо звенящую воду в глиняных и жестяных горшках… Все, кроме него, да Шерифа Алекса, да Билли Мопса, в такое время дня сидят по домам, облизывая пальцы после второго завтрака или погрузившись в сон, коим полнится Мнарувесто. Полнится, растет и звенит этот сон в дневном летнем воздухе, и даже Невидимка похрапывает летая между домов и салунов, присаживаясь на крышу Усадьбы д‘Морс, покрытую зноем, как защитной ребристой пленкой. Сопит, горестно складывает руки и продолжает лететь, ибо полет есть воздух, есть дыхание, а по-другому душно. Душно и горячо!
***
Устроил мистеру Уксусу отгул, выходной. Он этого достоин. И так захромал на прошлой неделе, ковыляя от станции «Усадьба» до самой Усадьбы д‘Морс. Правое переднее копыто перебито. Надо идти к лекарю. Их тут двое.
Первый седовласый, властный старец Хуан Кастильский, один из самых холодных жителей Мнарувесто. Никто толком не знает, что означает «Кастильский», но звучит красиво и величественно, а потому никто не ходит к нему по пустякам. Кажется даже смерть, если это смерть от простого заболевания, не является достаточным поводом к посещению его. Мистер Уксус не будет желанным гостем в его высоком каменном доме, по его уверениям являющемся маленькой копией какого-то средневекового замка в Испании с длинным и сложным названием, которое только Хуан один и может запомнить, хотя у Утиля складывается впечатление, что он всегда придумывает новое название еще красивее, длиннее и замысловатее, чем в прошлый раз.
Второй врач Мнарувесто, наоборот, простак. Выздоровление он празднует вместе с пациентами, напиваясь в хлам и обыкновенно приговаривая: «Вино… Вино это вреднее всякой заразы, а вот виски – совсем другое дело. Весьма целебный напиток, мда…» Это тот редкий случай, когда он называет виски «виски». Обычно он именует его «снадобьем», которое он при этом часто и довольно успешно использует как таковое, для исцеления всяких хворей и зараз, которые смеют разгуливать в обнимку с Невидимкой по улочкам Мнарувесто. Этого лекаря зовут Брайан Лягушка в пузе. Никто точно не знает откуда взялось это странное прозвище, но Утиль вспоминает…
Мечется в горячем бреду, раскинув руки поперек белой простыни, а Урсула напевает ему и тихо, коряво рассказывает о молодом Брайане. Как он вылечил прекрасную волшебницу и попросил ее об одном, остаться переночевать в ее чудесном замке, почти как у Хуана Кастильского, но сам напился и не заметил, что волшебница ночью превратилась в лягушку. Слопал ее попьяне, и теперь лягушка в его пузе поет горестные мелодии о любви и смерти.
Вокруг его детской кроватки сидят люди. В сером, заляпанном халате врывается, пошатываясь, он – Брайан, что-то сует ему за щеку и стучит большим, толстым пальцем по горячему лбу температурой в 48°С. Утиль вспоминает вкус той таблетки: она такая кисленькая, шипучая, а потом сладкая-сладкая, как сахар, что он таскает у Урсулы, когда она готовит свои шероховатые булочки с корицей. Таких таблеток больше никогда не пробовал. А Брайан потом сидит всю ночь напролет у его детской постели, у самого изголовья и все повторяет, как целительское заклинание: «Снадобье… Снадобье оно хорошо, а вот вино… Вино – это зло, это от Дьявола…»
Вообще, в Мнарувесто очень любят поминать нечистого. Вопрос ли это «куда идти?», «что делать?», пожелание ли удачи в каком-нибудь начинании – ответ всегда один: «К черту!»
Воображение его, воспаленное горячим Мнарувестским солнцем, раскаленным дулом дробовика и плывущими перед глазами картинками из детства Утиля, рисует узоры на стенах адской пещеры, куда все рано или поздно попадут по уверениям Шамана. Там в аду сейчас так же горячо и душно, как здесь, жарким, летним днем. Утиль идет вперед, а перед ним мелькает адское пекло, прибежище Дьявола, которого так уважают в Мнарувесто. Он идет нетвердо, а солнце нещадно палит. Утиль оступается, падает. Лежит несколько секунд, но земля еще горячее, чем воздух. Быстро встает, охая. Отряхивается. Надо зайти в салун Дика Промочи Горло. Тут недалеко, а голову надо остудить. Обязательно.
Солнце! Горячо! Детство! Брайан! Лягушка в пузе! Мистер Уксус! Хуан! Солнце!
Утиль сворачивает со своего маршрута и направляется туда, где теперь, наверняка, валяется пьяный Шериф Алекс, прижав к своему впалому брюху бутыль с надписью «Револьвер – кукурузный виски». Как же горячо?! Невидимка шелестит где-то у него за спиной и согласно кивает. Все плывет перед глазами. Утиль шагает. Солнце палит. Горячо!
***
Прохлада. Черт возьми, как же хорошо. И тут урчание – зычное, мужское, квакающее. Утиль открывает глаза, которые прикрыл было от удовольствия, когда вошел под сень салунной вывески «Промочи Горло». Такое же прозвище у владельца – Дика. Это неудивительно, ведь салун – его жизнь!
Утиль трясет головой, скидывая груз мыслей, чтобы снова превратиться в человека, воспринимающего мир. Его глаза привыкают к прохладе первыми. Они видят толстого, небритого мужика, лет шестидесяти, который сидит здесь же в тени большого салунного навеса, как раз напротив Шерифа Алекса, лежащего в обнимку с бутылью виски. Тень от этого человека падает мягкая, округлая, не то, что угловатая тень Шерифа, которая, кажется, даже свернулась калачиком, надеясь сгладить свои края, острые, как нож за поясом Алекса.
Следующими включаются уши, слух. И снова тишину дневного Мнарувесто прорезает медленное, настороженное журчание, постепенно перерастающее в могучий рык…
Утиль вздрагивает, и так пробуждаются прочие его чувства, и сознание проясняется, и он понимает, что это – старый Брайан Лягушка в пузе, и что чудовищный рокот исходит из его, Брайана, утробы. Так входит в прохладу салуна Криквун д‘Морс – самый горячий житель Мнарувесто. Черт возьми, как же хорошо.
***
Двойные скрипучие дверки позади. Снаружи снова раздаются любовные серенады Брайановой утробы. На это раз они напряженнее и чувственнее. В конце раздается напористый булькающий перебор, а потом давящее урчание и тишина…
В прохладной полутьме салуна Утилю сложно разглядеть кого-то конкретного, но когда глаза немножко привыкают к блаженному спокойствию, после кипящего огненного дня, пузырящегося на сухой земле и в раскаленном воздухе, ему удается различить человека за барной стойкой. Сначала ему вдруг видится, что это его отец: такая же могучая, властная, слегка сутуловатая и развязная фигура, но потом он понимает, что дыхание Мнарувесто снова сыграло с ним злую шутку, исказив пространство, и это всего-навсего Дик. Дик Промочи Горло. Неотъемлемая часть этого места: его душа, сердце и больная, зараженная печень. Среди городских Мнарувестских легенд, наподобие легенды о Брайане и чудесной лягушке в его пузе, бытует еще одна. Говорят будто бы Дик пришел однажды в салун и напился в хлам. Но звучит это так неправдоподобно и сказочно, что Утиль никогда не верил в это, даже когда был десятилетним пареньком, катавшимся на деревянной лошадке, сделанной из того ясеня, что срубил несчастный Джонни Дровосек пятнадцать лет тому назад.
Дик пьет всегда. Напивается – никогда. Дьявол наделил Дика мутными глазами, жирным мясистым носом и влажными детскими губами, которые окружают сцепленные в одном хороводе твердые серые щетинки. И волосы у него серые, спутанные и длинные. Рядом с ним серая жена. Утиль никогда не помнит ее имени, но помнит, что оно невероятно простое. Кажется, на букву «Н», хотя, черт его знает. Она живет своими иллюзиями и мечтами, кои навеяны тугими грудями и пухлыми розовыми губками из тысяч журналов. Любит журналы, живет журнальными сплетнями о тупых дурах: актрисах или женах рогатых бизнесменов. Журналы из Того Города. «Журнальная жена» - так Утиль зовет ее про себя.
– Здарова, Утиль. Чо пить будишь седня? – Голос у Дика высокий и натянутый до предела, что кажется будто вот-вот лопнет, как струна мандолины Звида о‘Камо. А интонация развязная и ленивая, почему-то.
– Давай свой фирменный, – Утиль подмигивает, – Виски напополам с лимонной настойкой.
– Он называеца «Промочи Горло», – Дик важно кивает.
– Промочил штанишки, придурок? – Из салунной темноты к барной стойке подваливает Алканавт. Все уже забыли, как его зовут. Осталось только прозвище, – Молокосос в салуне!
– Проси прощения, Алканавт, – сквозь зубы хрипит Утиль, а лоб, несмотря на приятную прохладу, покрывается испариной, как всегда перед дракой.
– Прости, молокос. Я не хотел. Такой порыв. Захотелось стать чуть больше похожим на мужчину. Хвалю… – Алканавт остер на язык, и груб, и он раздражает его в понедельник, когда Утиль представляет власть в Мнарувесто.
В это мгновение любопытное солнце зрит сквозь ставни и непроизвольно несет с собой ярость и гнев, потому что горячо, а вовсе и не со зла. Солнцу горячо. Утилю горячо. Горячо, хотя самый горячий, он сам.
Разворачивается и локтем бьет под дых Алканавта. Затем злоба колет его в колено, потом в селезенку, потом бьет по легким. Разгорается! Выше! Сердце! Гонит горячую, бурлящую кровь по венам и артериям. Жилы натягиваются, как канаты. Мускулы пружинят. Пока Алканавт не пришел в себя – еще удар. Теперь в челюсть! В зубы! Огонь стучит в его голове, как поезд всего пару часов назад стучал раскаленными колесами по раскаленным рельсам. Все повторяется! Он повторяет удар! Алканавт крючится. Падает. На колени. Пузырится кровь на его разбитых вспухших губах. Сплевывает и вскакивает. Быстрее, чем Утиль соображает, его горячее тело охлаждает удар Алканавта. Что-то хрустит и предательски визжат мышцы, как несмазанные шестерни. Утиль силится поднять руку и не может. Она бессильно дергается под мокасинами Алканавта. Тотчас перед глазами начинают свистеть картинки… Память! Не вовремя…
***
Стоит перед Клуни силачом и боится. Коленки так и ходят ходуном. Сердце трусливо екает. И вот, кажется, что ниже душа уже не уйдет, а она ниже. Ниже! После пяток, вдавливается в землю, а он почему-то еще дышит.
– Ты чо? К моей подружке подкатил?! – Спрашивает Клуни.
– Я просто болтал с ней, – Оправдывается Рикки, а потом собирает всю свою горячую решимость и смелость в кулак, температурой в 48°С, и бьет, первый, – Да! Я люблю Луизу и ради нее пойду даже против тебя.
И он бьет его. Бьет, разрывая свои хилые мышцы, но не останавливаясь, потому что страх перед Клуни Силачом подгоняет его острыми шпорами. В этой драке нет места любви. Не от своей любви к Луизе, хрупкой, черноволосой девочке, он бьет Клуни. Бьет, потому что ужас и страх переполняют его, потому что они дошли до краев и теперь, разорвав границы, хлещут во все стороны. И он бьет, бьет, пока рука не опускается, и он не падает рядом с поверженным противником. Рука, все еще сжатая в кулак, ноет, гудит, как потревоженный улий. Вот-вот лопнет, и пчелы вырвутся на свободу, жаля всех вокруг.
Он возвращается обратно. Улий лопается…
***
Вспышка гнева проходит. Красный туман спадает, и Утиль видит, что натворил в салуне «Промочи Горло». Первыми бросаются в глаза лица Дика и его Журнальной жены. Глаза, почти вылезшие из орбит, с ужасом смотрят на него и его руки. Он переводит взгляд на ладони. Они в крови. Не просто в пятнах, – с них течет теплая густая жижа, температурой в 37°С. Вокруг грязного тела валяются обломки стульев и осколки бутылок. Кровь и алкоголь разноцветными лужами блестят повсюду. В забытье он вываливается из салуна на палящее, насмешливое Мнарувестское солнце. Расталкивает Брайана и кричит: «Хей, Лягушка в пузе, зайди внутрь. Там одному уроду. Помощь нужна!» Затем, шатаясь, идет прочь. На плече сверкающий, торжественный дробовик. Заляпанная кровью шляпа лихо сдвинута на лоб. Еще не осознав ужаса всего, что случилось, он идет к Усадьбе д‘Морс. Невидимка проносится мимо, летит к салуну. А Утиль идет домой. Надо выспаться. Сует в зубы спичку и яростно грызет. Горячо!
II

Г орячая вода тихо капает с уха. Мокрые длинные волосы лезут со лба в глаза и сплетаются с бровями и ресницами. С одной стороны – влажная подушка, с другой – солнечные лучи, пробившиеся через ставни. Мокрые слипшиеся губы и отвратительная засохшая пленка в уголках рта из крови и слюны. А в голове видения. Сны…
Он бежит по туманному, зловещему лесу. На зубах хрустят расщепленные спички. Запыхался. Останавливается у толстого бурого клена, окутанного клубами дыма. Вдруг яркая вспышка. Пламя! Кора в таинственном сверкании. Поднимает голову. На нижней ветке сидит Звид о’Камо Менестрель со своей мандолиной. «Обернись!» – говорит он, не разжимая губ. Губы у него пунцовые и яркие. У живого Менестреля они совсем другие: кривые и шероховатые. «Обернись!» – повторяет он.
Он поворачивается и смотрит на свои руки. У него вырастают длинные ногти, отливающие серебром… Грудь начинает чесаться и зудеть. Разрывает рубаху и видит, что быстро обрастает шерстью. Упругими сизыми волосками. А потом… «Вот ты и обернулся, друг мой…» – слышится издалека голос Менестреля.
Он переносится в Усадьбу д‘Морс, на второй этаж, в узкую заброшенную мансарду, увитую сетями паутины. Рядом, по-прежнему, Звид преображенный.
– Зачем мы здесь? – Слышит Утиль свой голос, какой-то чужой и слабый.
– К черту. Память. И твои чувства, – Отвечает Менестрель, не разжимая губ.
– К кому чувства?
– Смотри, – Следует ответ.
Он смотрит на своего собеседника и видит, что Звид не Звид, а Его (Точнее Не Его) Кошка Агата. Светлые волосы до лопаток, огненно-карие глаза, сильный, крепкий стан, а еще ключицы. Прямые, нежные, но не к нему.
– Я давно тебя не видел, – Говорит ей Утиль.
– И хорошо, – А голос холодный и острый, причиняющий ему боль.
– Я соскучился.
– И что?
– Потанцуем?
– Хорошо, – Она подходит к нему, и он выпрямляется, чтобы быть придать себе роста, но не выходит: она выше на пару сантиметров.
Они кружатся по пыльной комнатке, а сквозь старые ребристые ставни, почти не проникает солнечный свет… У окон стоит Звид о‘Камо и легонько бьет по струнам своей мандолины. Ему тяжелее и тяжелее дышать, но он не останавливается. Продолжает кружиться с ней, потому что не должен показать ей свою слабость, а ее руки сжимают ладони. И впервые за всю жизнь Утиль чувствует, что кто-то горячее него. Он как в раскаленных тисках.
– Почему… твое прозвище… «Кошка»? – Сбив дыхание и запинаясь, спрашивает он.
– Захотелось, – Тихо отвечает Агата.
– А я обернулся, – Гордо говорит Утиль.
– Знаю.
– Больше я не Утиль!
– Мне неважно кто ты, – Перебивает она.
– Почему у тебя такие красивые глаза? – Они уже остановились и теперь не в мансарде, а стоят у салуна «Промочи Горло».
Она молчит, и ее золотистые волосы скрывают лицо от него. Рука ее бессильно опускается.
– Я обернулся, – Повторяет он.
– Это ужасно.
У нее на спине прорезаются крылья, большие и перепончатые. Они рвутся сквозь ее летнее нежно-зеленое платьице и доставляют ей невыносимую боль. Она кричит. Вместе с крыльями из ее лопаток бьют струи темной крови, которые заливают сухую землю перед салуном. Земля трещит, и тут Агата отрывается от земли. Взмахивает крыльями и летит. Прочь! «Утиль! Утиль!»
***
Открывает глаза и в первые секунды не понимает где он, кто он и что за силы правят миром. Нет! Спальня Усадьбы д‘Морс, Утиль, Дьявол.
«Утиль! Утиль!» – далекий крик откуда-то слева.
Встает с постели и неловко шлепается на пол. Все тело ноет невыносимой болью, а с правой руки капает горячая тягучая жижа. Удивленно смотрит на ладони, все еще заляпанные кровью Алканавта. Так это был не сон… В правой руке зажато раскаленное солнцем лезвие ножа (так вот почему рука Агаты была такой горячей). Схватился, очевидно, во сне и порезался. Приподнимается на колени, и в голове проясняется. Припоминает странный сон и события сегодняшнего дня. Черт возьми!
«Утиль! Утиль!» – снова слышит он.
Встает и идет на звук. Шлепает босыми кривыми ступнями, искалеченными в драке, по горячему деревянному полу. Из спальни, через гостиную, которая почему-то в три раза больше, и огромный коридор, увешанный портретами д’Морсов, мимо сухой маленькой проходной каморки, где когда-то жила старая няня Урсула, выходит Утиль в старинный холл, где летает клочьями летняя пыль, купаясь в солнечных лучах, бьющих в решетчатые окна, и витают где-то здесь духи предков Криквуна д‘Морса. Нет, они не настолько принадлежат Мнарувесто, как Невидимка, присутствие которого ощущают все, чьи мысли и движения воспринимают на каком-то телепатическом уровне все, чье имя не помнит никто, но чье прозвище отпечатано в каждом. Невидимка!
«Утиль! Утиль!» – раздается совсем близко, за большими двустворчатыми дверьми парадного входа.
Шатаясь и перекатываясь с боку на бок, как Брайан Лягушка в пузе, подходит он. Прислоняется к горячему дереву потным лбом. И отворяет двери.
***
На пороге стоит она. Кошка. И трясет золотыми волосами, так что ему кажется, что сыплются искорки во все стороны. И тут только, смотря за спину Агаты, видит Утиль, что пенящийся солнечный глаз катится на запад, и краснеет и ширится, как будто зрачок вечером. И потом переводит взгляд на нее, и уже больше не может отвлечься ни на что другое, потому что опьянен ее лицом: ее скулами, пунцовыми потрескавшимися губами, носом и смело изогнутыми бровями. Опьянен ее лбом, на который лезут золотистые волосы, в надежде, что и они получат возможность увидеть красоту Агаты. Опьянен ею. Она пришла к нему. В первый раз после того дня…
– Я люблю тебя, Агата! – Он неловко встает на одно колено. Никогда и ни перед кем не склонял голову, а сейчас встает на колени. Протягивает ей водяную лилию. Искал ее по всей реке. Доплыл на своей самодельной долбленке даже до первой плотины Того Города, то есть так далеко, как не доплывал никогда раньше. И нашел ее все-таки. Знал ведь, что она не растет в их широтах, но нашел. Протягивает ей водяную лилию. Огненно-желтую внутри и непорочно-белую снаружи, – Я хочу быть рядом с тобой. Не умею я говорить красивых фраз. Просто… – Он останавливается, переводя дыхание, еще не осознав, что сказал ей самое важное, но уже понимая, что все изменится.
– Больше никогда не делай так, – Ее нежный мелодичный голос разносится под сводами полуразрушенной арки, второго каменного сооружения в Мнарувесто, после «замка» Хуана Кастильского, – Потому что все очень сложно… Я не могу… И я не люблю цветы… – Она опускает глаза, молча берет кувшинку и удаляется. Грациозная и прекрасно-ледяная. Не самая ледяная, но очень холодная. 31°С!
А он стоит. На душе легко и больно. «Я сказал!» Но стало плохо. Ужасно… И тут от бессилия изменить что-либо падает ничком, больно ударившись о каменный блок в основании арки.
А потом, спустя всего неделю, пригласил ее к себе на чашку кофия. Из Усадьбы тогда уже выехал его двоюродный дядя Марк. Последний житель поместья, еще кроме него, Утиля, имеющий плоть и кровь. Он остался один. И в первые дни погрузился в сладостное безделье, которое так поощряет горячий Мнарувестский воздух. Потом начал грустить и вспоминать родителей и няню, а потом мысли о ней снова наполнили его. И он уже не смог думать ни о чем другом. Тогда-то и пригласил ее. И она пришла. Тоже в сиянии алого засыпающего солнца. Пришла и они сидели на балконе, что потрескавшейся лапой выдается из всей прочей Усадьбы. Единственное место во всем доме, которое направлено не внутрь себя, не в свою старую историю и не в прошлое… И они сидели и пили кофий, который обжигал горло и потухал где-то в глубине тела, как закатное солнце, за которым они наблюдали.
Тогда он достал кольцо. Безо всякого умысла. Просто чтобы подарить ей его. Оно было идеально золотым, с маленьким изумрудом. Так под стать волосам… Взял ее руку и неловко надел на средний палец. Она сначала не поняла, что случилось. Дрожь пробежала по телу. Так в ее холодном существе прорастал гнев. Она вскочила, сейчас особенно похожа на разозлившуюся, ощерившуюся, дикую кошку.
– Меня раздражает все, что ты делаешь, – Она не кричала. Никогда не кричала, разве что от боли. Она шептала, очень тихо произносила каждое слово, врезающееся в его сознание навеки, – Увы. Я не могу скрыться от тебя и твоих ухаживаний, – Она резко, слегка добавив силу своих голосовых связок, выплюнула последнее слово. А потом развернулась и бросила ему в лицо, на прощание, – Они отвратительны. За что мне это?! – Потом Утиль слышал, как скрипят ступени, под ней, когда она бежала прочь из Усадьбы.
– Потому что я люблю тебя! – Крикнул он, а духи предков, растворенные в воздухе, тысячу раз фальшиво повторили, дразнясь, эти слова.
Это было чуть меньше года назад. Зачем же она пришла?!
***
И тут она подняла глаза. Карие, огненные, не вписывающиеся в образ холодной, никому недоступной девы.
– Ты, должно быть, задаешься вопросом, зачем я пришла к тебе?
– Черт возьми! Она читает мои мысли, – Пронеслась предательская мысль в голове Утиля.
– Я пришла как друг.
– Понятно… чувство вины… – Утиля чуть было не вывернуло, когда он понял это. Насколько он жалок в ее глазах?!
– Нет! Я пришла не из-за чувства вины, – Она, не отрываясь, смотрела в его глаза и, казалось, читала все, что он думает и думал когда-либо, – Тебе нужна помощь, а ты мне важен, как человек, который мне близок до такой степени, что мы очень хорошо понимаем друг друга…
– Ложь! – Чуть было не крикнул он, – Я не понимаю тебя! И, во имя Дьявола, больше всего на свете, я хотел бы понять тебя. Почувствовать как ты! – Но ни звука не вырвалось из его груди. Его тело было объято чувством, которое не остыло ни на мгновение с того вечера под аркой. Тем чувством, которое подчиняет все человеческое существо, заставляет биться сердце в два раза быстрее, которое переполняет мозг и душу и не дает покоя ни днем, ни ночью, которое занимает все мысли и сны человека, тем чувством, которое простаки и философы, все зовут одинаково…
– Можно мне войти? У нас мало времени, – Агата слегка прикоснулась к его правой окровавленной руке, которой он перегородил дорогу, когда встал в дверях. Она знала, что это подействует. Если перед словами он еще мог устоять, то ее кошачье прикосновение, давало ей абсолютную власть над ним.
Они прошли в гостиную и сели на большой старый диван. Он в бессилии откинулся на спинку, так что позвоночник хрипло взвизгнул.
– Зачем мне твоя помощь?
Агата слегка придвинулась к нему, – Потому что ты, милый, убил человека…
***
Треск. Звон! Звон в ушах, и когда стеклянная бутыль задевает слегка потрескавшийся от времени край бокала. Виски янтарным водопадом, под стать ее волосам, течет в стеклянный кубок, так напоминающий вывернутый наизнанку жабий глаз. Он отхлебывает и в первое мгновение не понимает, горячо или холодно его глотке. Нет, острый холод пронзает горло, и алкоголь струится вниз, как расплавленное золото, обжигая ледяной злобой его внутренности. Мозг сначала отуманен, но потом «Револьвер», наоборот, обостряет его восприятие и зовет глотнуть еще. Кошка снова наливает ему. И он пьет. Жадно отхлебывает и давится. Давится! А горячие руки трясутся в ужасном судорожном приступе. Пьет, и виски разрывает его изнутри. Потому что ледяной и кукурузный. Ненавидел кукурузу с рождения, и горячий тоже с рождения. Пьет! И снова давиться, а Агата держит руку у него на спине и подливает еще и еще в его жабий прозрачный бокал.
– Стоп! – Наконец говорит она, когда бутыль пуста.
– Сухо… Горло… – Хрипит. Знаками объясняет ей, что хочет еще.
– Больше нет, – Она с жалостью и мольбой, смотрит в его глаза, впервые за все время. Затем резко дергает своей рукой нежно-молочного цвета, и сшибает со столика пустую бутылку, доказывая, что так ему уже не помочь.
Мутная, стеклянная она летит и вдребезги разбивается, как будто даже раньше, чем коснулась пола. Прозрачные твердые брызги вонзаются в деревянный пол и застревают в нем, как яростные злобные занозы в коже ног. Две тонкие золотые капли виски текут по куску стекла, всего несколько мгновений назад бывшим горлышком.
– Там еще оставалось, дура! – Он встает с дивана горячий и сильный.
– Нет, Утиль! Нет. Садись, – Она встает рядом с ним, как всегда выше и чуть-чуть главнее. Кладет руку ему на плечо и нежно гладит по выступающей горячей кости.
Он шатается и падает в объятия старинного дивана.
Она обнимает его! И он чувствует сладостный аромат ее чистых волос, который разрушает его пьяную спесь и сбивает с него остатки гордыни, и гнева, и тщеславия, и осознания собственной правоты. Вместе с ней, Его (Точнее Не Его) Агатой, уходит опьянение Утиля, виски испаряется из его разума и тела, сквозь горячую кожу. «Ускоренный метаболизм!» – так говорил Хуан Кастильский о нем когда-то… И с этим первым объятием Кошки (и объятием старинного дивана их обоих) проступает четкая мысль, которая, он знает наверняка, бьется и в ее голове. В светлой, золотистой голове Агаты. Его единственного друга. «Что теперь делать?»
***
Они оба знают, как карают в Мнарувесто за убийство.
Свист пуль и его отец… старый, злой, властный, гневливый, ужасный, жуткий, слегка сутуловатый, мощный, сильный, хрипящий, напоминающий могучий корень старого ясеня, твердый, непоколебимый, смелый, отчаянный, сморщенный временем, но распрямленный его собственной железной волей, любящий своего маленького сорвиголову-сына, живой… его отец Вурдал д’Морс старший падает на горячую принимающую всех, независимо ни от чего, землю.
Кровь из его изрешеченной груди струится в корявую общую мать, которая забирает его жизнь вместе с душой, идущей прямиком за теплой красной густой кровью. В самое адское пекло!
– Ты мне дорог, – Она разъединяет руки и садится рядом с ним, прекращая целительное объятие.
– Вздор, – говорит он слабым голосом, – я тебе не верю.
– Правда, – Она дотрагивается своей холодной рукой до его щеки, и между ними как будто сверкает искра, а потом пар…
– Я виновен. Я убил его.
– Ты должен бежать, – Говорит Агата.
– Я виновен, – Повторяет он.
– Молчи, – Она прикладывает палец к алым губам, – Молчи!
– Я убил его. Убил. Убил. Убил, – Как будто не понимая значения этого безапелляционного понятия, повторяет он.
– Молчи! Прошу!
– Ты уверена? Он мертв? Откуда ты знаешь? – Помолчав с секунду, вдруг взрывается он. Это стадия отрицания. Они оба знают это.
– Это так. Я видела труп.
Утиль бросается на пол, и его тело, уже не подростка, но еще не взрослого, начинает сотрясаться от могучих рычащих рыданий. Агата сидит на диване и смотрит на него. Сверху вниз. Как и всегда.
– Я пойду и сдамся им! Шериф Алекс – мой друг… Он… – Прорываются слова сквозь его стоны.
– У тебя нет друзей, – отрезает она, – а твой друг, убил твоего отца!
– Он исполнял закон, – Стонет Утиль.
– И снова исполнит его, если потребуется. Беги! Утиль. Беги. Прочь из этого места. Беги в Тот Город. Прошу тебя, Утиль, – Она поднимает его с остывающего пола, и он видит, как последний луч закатного солнца распарывает пространство на два розово-багровых мира.
И в этот момент у дверей Усадьбы они слышат голоса. И могучий стук в ворота! «Именем Закона! Откройте!»
III
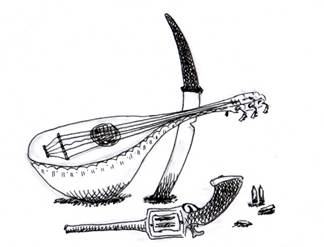
С перва не понимает, что происходит, сперва не верит, сперва отрицает, сперва смотрит на Агату, но она сидит недвижно. «Опоздали!» Дребезжит воздух, в котором все уже натянуто до предела.
И тут он позволяет себе то, что не позволял никогда. Первым прикоснуться к ней. Нет! Он не нежно трогает ее талию, он не гладит ее мягкие плечи и не обнимает ее. Он даже не целует ее алые кроваво-красные губы, хотя, во имя Дьявола, этого он всегда жаждал больше всего. Он хватает ее сильное гибкое тело, прижимает к себе и, несмотря на шепот гнева, раздающийся у него над ухом, бежит. Наверх! В пыльную, старую мансарду.
Дребезжит! Ступени хрустят под весом Утиля и Кошки, а пуще под весом страха и страсти. Под весом стыда, совести и Смерти, которая теперь неотступно следует за ним, Криквуном д’Морсом. Невидимка обвивает его ноги и силится удержать. Он, как создание этого города, всегда за Правду, всегда за Закон, всегда за саму суть Мнарувесто. А этот Закон в трех словах звучит так: «Виски, Жизнь, Горячо!» И, именем Сатаны, да не посмеет кто-нибудь нарушить этот Закон! Сгущается воздух. Дребезжит!
Трясутся поджилки у Невидимки, ибо творится натянутость, несправедливость, а Мнарувесто не терпит этого, ибо лучше кипящее солнце пойдет обратно, нежели убийца останется в живых. Летит и свистит в трубах Усадьбы Невидимка, свистит, чтобы привлечь к нему, окровавленному Утилю, Шерифа и прочих жителей. Мнарувесто горяч! А лихие всегда исчезают из этого места, навсегда. Жужжание в воздухе все нарастает. Натянуто. Дребезжит!
Стук все явственнее и сильнее. Вот-вот ворота лопнут. Звенит в ушах и трещит. Мозг заполняется до краев кашей из мыслей и чувств, которым нужен выход.
Врывается с Агатой на руках в мансарду и крепко запирает дверь! Первая мысль его: «Потанцуем?» Но он гонит глупость и фантазию прочь, ибо сейчас все реально, и Смерть куда ближе, чем Кошка, которую он сильными руками прижимает к себе. Она уже не рвется из его горячих тисков, она только слушает его сердце, которое стучит быстрее и даже стремительнее чем тогда, когда он говорил ей те слова, которые все меняют! Дребезжит! И сердца их бились бы в унисон, не будь его сердце таким сильным и наполненным жидкой красной лавой д‘Морсов.
Но сейчас они единый бунтарский организм и мысли их в безумном экстазе соединяются вместе и вулкан льда и айсберг пламени взрываются тут же, в старинной мансарде, где паутина с дохлыми, но почему-то жужжащими мухами, опутывает все. И дребезжит! Натягивается! Она отпускает его кипящую шею, легко, по-кошачьи, спрыгивает на пол и смотрит мгновение в его синие-синие глаза. Утиль наполняется страстью к ней. Снова она завладевает его телом, и сладкая дрожь страха и забвения убийства бежит по его взмокшей, взмыленной, вспененной спине. Дребезжит!
Они одновременно хватают оружие. Она – старый зазубренный тесак, а он – свой дробовик. Отныне и впредь, во веки, его, а не его отца Вурдала д‘Морса старшего! Дребезжит!
***
И тут он понимает всю серьезность, и опасность, и ужас того, что происходит сейчас. Вот что жужжало в его мозгу, что не давало ему права, выйти сейчас из Усадьбы и кулаками, и выстрелами, расчистить себе путь в неизведанное. Рядом с ним Его (Не Его) Агата! И он любит ее так, что, кажется, лучше бы ему никогда не видеть ее, ибо боль треплет его душу с каждым прикосновением, с каждым взглядом и вздохом, в такт его прикосновению, взгляду и вздоху. Спасти ее из капкана, в который он сам заставил ее влезть. Дребезжит и почти лопается, как кукуруза, которую он ненавидит и поджаривает в пламени камина, чтобы сделать ей больно!
Утиль хватает ее на руки… Она сопротивляется, потому что знает его сейчас, потому что он забыл расцепить их мысли и чувства, когда понимал всю серьезность происходящего. И Агата бьет. Бьет его по мокрой зудящей спине рукоятью тесака, пока он тащит ее на руках вниз, к черному ходу, чтобы избавиться от нее и уже, наверняка, никогда не увидеть ее пьянящих губ и карих огненных глаз, так выбивающихся из образа ледяной девы! Дребезжит! Их тела и души сейчас все дальше друг от друга, и, впервые, ее душа тянется к нему, а он закрывается, как черепаха в бурый панцирь, когда к ней подступает когтистая дикая опасность…
***
А все равно дребезжит! И когда он захлопывает перед Его (Не Его) золотой защитницей тяжелую кленовую дверь, окованную сталью Жоржа Молота. Дребезжит! Он перезаряжает дробовик. Вытряхивает дробинки. Слишком слабо! Время пуль и Смерти, которая уже растворилась в его крови и теперь резко подступает к сердцу и мозгу. Толчками! Дребезжит!
Отчаянный стук Кошки в коричневую дверь за его спиной, нарушает треск, который врывается в уши, рвет барабанные перепонки Утиля. Это парадная дверь в щепы… И теперь они, жители Мнарувесто, будут вершить свой безжалостный к убийцам Суд! Что-то переворачивается, щелкает в его мозгу, как затвор. Он знает, наверняка, что он неправ, что ему пора умереть, но теперь кровь д‘Морсов достигла консистенции кипящего пунша. А это значит, что терять уже нечего и за свою смерть, он получит многое. Жизни других людей! И в Аду, где он встретит своих жертв, ему уже будет уготовано место подле трона пылающего Дьявола!
Дребезжит! Раньше, все было стихийно, мгновенно, и он упивался своими резкими, импульсивными поступками. Как он схватил Агату, как он приволок ее в мансарду, как он взялся за дробовик. А сейчас, вместе со взведенным курком, ударяет ему в мозг волна холода. Это Смерть добралась до разума. Дребезжит! Нет. Он не бросает свое грозное оружие. Утиль встает на лестницу, ведущую на первый этаж. Путь к нему теперь только один, под огнем дробовика. Расставляет ноги, и поднимает дуло, чтобы стрелять с плеча, точнее и смертоноснее. Сознание подчинено Смерти и уже ничто не изменит начатого. И сейчас ледяная рассудительность и хладнокровие, как никогда раньше переполняют его. Дребезжит…
Дребезжит дерево под осторожными шагами Шерифа и его подчиненных. Они уже идут. Их ведет летучий, легкий Невидимка. Создание Мнарувесто! Дребезжит…
***
Только на миг мутнеют глаза Утиля в вечернем полумраке. И он слегка подергивает плечами, чтобы вернуть свою напряженное сильное тело в состоянии натянутой тетивы и взведенного курка, это как кто любит… Но этого краткого мига достаточно для Алекса. Он перекатывается и вскакивает на ноги, держа в угловатых, узловатых руках длинный шестизарядный револьвер.
– Стой, Криквун д‘Морс! – Кричит он, – Я смогу продырявить твою башку, прежде чем сдохну от пули твоего дробовика.
– Зачем мне ждать, Шериф? Я не боюсь Смерти! – Утиль прицеливается.
– В наших руках твоя бунтарка! Она бросилась на меня, когда я уже прошел через твою душную гостиную, – Голос Алекса вкрадчивый и бархатный, но в нем кроется сталь, как и в его острых выпирающих локтях и коленях.
– Черт!
– Что ты сказал, недоумок? – Уже почти шепчет Шериф.
Воздух. Сгущается. Дребезжит. Натягивается. Надувается. Жужжит. Гудит. Висит масляными клочьями в духоте. Лестница! Вот все, что разделяет двух злейших друзей.
– Мне наплевать, что вы сделаете с ней!
– Ты не переубедишь меня, Рикки! Я ведь знаю, что ты сказал ей год назад под Аркой. Я ведь тогда каждый вечер приходил к ней и целовал ее потрескавшиеся, красные губы, а когда мы останавливались, чтобы взять дыхание, она говорила мне о твоих отвратительных, – он особенно давит на это слово, потому что знает, что цитирует, – ухаживаниях. О! Ты удивлен? – Он снова переходит на хриплый острый шепот, – Но, знаешь, она отправила меня к черту! После чего?!
– Мне наплевать! Я больше не люблю ее! – Утиль сжимает зубы, которые уже раскалились добела от гнева, горечи и ярости, и вдавливает дробовик в свое плечо, готовясь выстрелить и пробить грудь самого жуткого человека на земле.
– Я предложил ей, пристрелить тебя, как бешенную собаку. Уже тогда, когда ты приставал к ней с любовными посланиями и просьбами о встрече. Ты думаешь, что я жуткий человек? Нет! Это ты. Ты убил Алканавта, – Шериф замолкает и взводит курок.
И больше всего дребезжит и звенит эта тишина. Самый громкий вопль. Молчание! И весь воздух сосредотачивается рядом с тремя существами. Утилем, Шерифом и Невидимкой.
Дыхание. Они ловят его распухшими от гнева и злобы ноздрями, а потом не выдерживают и раскрывают рты, как рыбы, выкинутые на берег. Судорожно глотают, понимая, что следующий вздох, будет у кого-то одного. На другого просто не хватит. Не любви Кошки Агаты, даже. А попросту воздуха, пропитавшегося Смертью, исходящей из двух черных дыр. Дул их оружий…
***
– Стойте! – Прежде чем раздается это окончательное, могучее слово, лестницу и оба этажа наполняют урчание и кваканье, расслабляющие и ленивые.
– Нет! – Кричат они оба, сорвавшись с резьбы, с колеи, с напряженного поединка жизни и смерти, дыхания и удушья, но все-таки не спустив курки.
И это означает победу! Победу их обоих: Шерифа Алекса и Криквуна д’Морса Утиля над злобой и ревностью, которыми они обуреваемы оба. И Невидимка испаряется с мощным потоком воздуха, ворвавшегося в дом, вместе с Брайаном Лягушка в пузе. Испаряется, потому что речь уже не о Законе, а о Любви и Ненависти, а как он, призрак, может понять такое?!
***
Не дребезжит больше и не тихо теперь.
В пространство, которое Утиль видит с верхней ступеньки лестницы, постепенно втискиваются люди. Жорж Молот, с молотом на плече, Билли Мопс держит волосатыми грязными руками у горла замершей Агаты длинный нож. Такой же есть и у него, Утиля: висит на поясе, рядом с цепочкой патронов. Следующими он видит чету Мунов. Фургонщик Мун и Цветочница Мун. Они кудрявые и симпатичные, но сейчас в их глазах страх, а в руках гаечный ключ и старинный кольт. Потом рядом с Шерифом появляется Дик Промочи Горло и сам Брайан. Толстый, немного дрожащий и абсолютно безоружный.
– Стойте! – Еще раз повторяет лекарь, – Алканавт умер.
– Мы знаем! Убейте мерзавца, и его сучку! – Раздаются голоса, заставляющие Утиля снова положить палец на курок и вспениться его крови в артериях и венах.
– Ну почему? Почему она не убежала? – Утиль сжимает горячие зубы, – Она же не любит! Зачем она рискует собой ради меня?
– Молчать! – Вслед за выкриком Брайана следует громкий рык лягушки в пузе, которые заставляет всех подчиниться, – Алканавт умер, но я услышал его последние слова…
– Что же это такое? – Утиль подается вперед, не выпуская из виду револьвер Алекса.
– Если вы хотите услышать волю погибшего, положите оружие на пол! Все! Сейчас же! – Лягушка в пузе одобрительно урчит.
Все медлят, но видя, как Шериф легонько кладет револьвер на сухие, треснувшие доски, разоружаются и сами. Последним кладет свой дробовик на верхнюю ступеньку сам Утиль, глядя сверху вниз на жителей Мнарувесто, сверкающих глазами в ночной полутьме Усадьбы д‘Морс.
***
– Он сказал всего четыре слова, – Брайан говорит громко, уверенно и спокойно, так что Смерть горестно отворачивается от противников и хмурая, унылая ковыляет прочь, почти осязаемая, когда переступает со ступеньки на ступеньку, волоча за собой длинную зазубренную косу.
– Ну, говори же, Лягушка в пузе! – Срывается на визг Цветочница Мун, заламывая костяшки пальцев.
– Он сказал: «Не казнь – охота. Оборотень». – Брайан складывает руки на груди и продолжает, осознав, что сейчас количество его работы на будущей неделе зависит от его ораторского искусства, – Вам, жители Мнарувесто, предстоит решить! Устроить ли сейчас перестрелку, в которой многие из вас, погибнут или… – Лягушка в пузе эффектно молчит, – или отдать это ружье Утилю и послать в лес. Охотиться на Оборотня!
– Он убежит, – криво усмехается Шериф, – Никто не пойдет на Оборотня в одиночку с дробовиком.
– Нет! Он не пойдет в одиночку. У него будет Койот Алканавта, а у нас заложница – Кошка Агата. Мы все тут знаем, что он безумно любит ее! – Брайан ударяет на последние слова и властно урчит пузом, в знак того, что решение уже принято, а что там скажут все прочие, уже неважно.
– И пусть он принесет нам голову Оборотня или умрет, – Добавляет Шериф Алекс и подбирает револьвер одновременно с тем, как Утиль хватает дробовик.
Билли Мопс держит масляными грязными руками машиниста ее горло, и тащит прочь из Усадьбы д‘Морс. И последнее, что замечает Утиль, это ее карие светящиеся глаза, которые сверлят его разум и душу, и говорят красноречивее всяких слов: «Я люблю тебя!»
***
Как только стихает скрип пола под ненавистными ногами, ненавистных людей, Утиль падает на лестничную площадку, потому что уже не может двигаться. Ибо мышцы застыли теперь, и им нужен покой, а душа готова была уже сотни раз разорваться за сегодня, но не разорвалась. И она должна теперь вернуться в грудную клетку. Там ей место, по представлениям Шамана.
И силится Утиль Убийца встать, но не может. И силится пошевелить хоть одним членом, но застыл и теперь пролежит так без движения не меньше трех часов.
Усадьба погружается во мрак и не слышно вокруг ничего, только вдруг под окнами второго этажа попереговариваются о событиях сегодняшнего дня, мнарувестские большие цикады, или же прострекочет какая-нибудь букашка, что вылезла из-за комода в столовой, и теперь думает, что открыла новый неизведанный мир гостиной. Прохлада…
Сколько он уже лежит так?!
И тут раздаются тягучие струнные звуки, звенящие в ночи, окутавшей Мнарувесто прохладой. Это мандолина Звида о‘Камо догадывается Утиль и теряет сознание.
***
– Давай еще глоток, – Низкий, странный, звучный голос заливается, как мед в уши Утиля.
– Кто ты?
– Я Звид. Звид о‘Камо, – Представляется голос.
Утиль приоткрывает слабый правый глаз, который болит, чуть меньше, чем левый и смотрит на сверкающее непроницаемое лицо Менестреля.
– Зачем ты здесь? Где я? – Спрашивает Утиль.
– Ты в своей спальне, в Усадьбе д‘Морс, а я тебе помогаю.
– Зачем? Я – Убийца.
– Я знаю, но мое дело – воспевать! Лежи и пей, – Низкий голос Звида втекает в сознание Утиля и несет ему покой и мир.
Менестрель подносит к губам прохладную плошку и вливает ему сквозь зубы, все еще сжатые, какую-то горькую жидкость.
– Это яд? – Спрашивает Утиль.
– Лучше бы было для тебя, если бы это был яд, – Отвечает Менестрель и занимается своей мандолиной, слегка постукивая по дребезжащим струнам.
Дребезжит. Но не как вчера. Или сегодня. Черт его знает, который сейчас час. Но не как тогда! Успокаивающе. И Утиль уже не спит, но уносится в страну грез, где ждет его мать, Урсула и Агата. И приходит в себя он только тогда, когда слышит за воротами, как протяжно воет Койот. Койот Алканавта. Койот человека, которого он убил…
IV
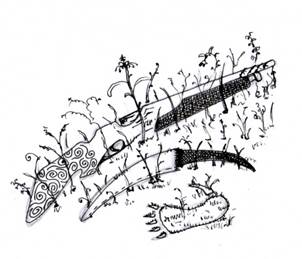
П ервые несколько секунд они наравне, и волк и человек. Валяются в придорожной пыли у самых ворот Усадьбы и дерутся. Койот кинулся на него чуть только он вышел из старого, умирающего здания. Понял по запаху или своим особым чутьем, что вот он – враг, негодяй и убийца. Схватил сильными вытянутыми челюстями и принялся вгрызаться клыками сквозь кожу и плоть к самой кости. Рука заскрипела и взорвалась болью, жуткой и невыносимой. Скорее не используя какой-то прием, а просто инстинктивно, крутанул корпусом и слегка по кривой, едва задев морду, ударил в верхнюю челюсть мимо черного влажного носа.
Койот катится в желтую утреннюю пыль, озаренную зловещей зарей. Не ожидая следующей атаки, Утиль спиной поворачивается к волку и свистит, как свистел своему крупному старому мастиффу, который жил в Усадьбе д‘Морс, когда-то раньше.
Но Койот не сдается. Стремительно, даже не разбегаясь, несется на Утиля, резко вскочив на потрескавшуюся землю, поле боя. Прыгает и только молниеносная реакция спасает человека от смерти, от жуткого волчьего удара в горло. Они сплетаются в единый клубок и теперь, подняв столб пыли, единоборствуют там, у общей матери, у самой земли.
И тут раздается музыка. Он едва различает ее среди шума и скрежета зубов и когтей Койота. Но эта мелодия, летящая между дрожащих струн мандолины, меняет все и соединяет его, Утиля, и Койота. Так преломляется музыка Звида в их душах. Эта резвая, быстрая, звенящая песня. Песня о двух врагах, ставших лучшими друзьями. Они, по-прежнему, катаются в песке… Но теперь без злобы и боли! Они поняли друг друга, и простили. Койот – за хозяина, Утиль за разодранную гудящую руку, из которой плавно, легонько все еще брызжет кровь. Тогда все закончено, когда Койот встает на лежащего и смеющегося Утиля и начинает лизать его руку. Своим шершавым, мокрым языком, который, наверняка, обжег о 48°С горячую кожу с непривычки.
А мелодия затухает, и Звид о‘Камо вешает свою расписанную причудливыми узорами мандолину за спину. Пора отправляться!!!
***
– Теперь будем звать тебя Упрямец, потому что уж больно громко сказано – Койот, – Утиль дергает поводок.
– Упрямец, – Звид о‘Камо перебирает задумчиво струны, – Амфибрахий… или Ямб.
– Ого! – Поражается Утиль, – Амфибрахий это так здорово звучит. Давай лучше так его называть.
– Неплохо, – Менестрель усмехается и кивает.
– Звид, мы возьмем мистера Уксуса?
– Утиль, во-первых, это твой поход, а я всего лишь воспеваю его в балладе «Охота на оборотня». Во-вторых, я не брал бы коня в Лес, что по ту сторону реки. Вопросов не задавай, это - всего лишь мое мнение. И да, поэзия требует тишины, Утиль.
Утиль понимающе кивает и, все равно, направляется в конюшню. Не затем чтобы оседлать мистера Уксуса, а с тем, чтобы попрощаться.
Растворяет трухлявые двери и входит в помещение, усыпанное старой золотистой соломой.
– Прощайте, мистер Уксус, – Утиль прижимается лицом к теплой, вонючей, старой, слепой морде его хромого друга, – Прощайте.
– Фрр! – Отвечает мистер Уксус и выдыхает в Утиля сквозь свои старые, хриплые, широкие, дергающиеся ноздри. Так когда-то фыркал возмущенный Вурдал д‘Морс старший.
И он, Утиль, понимает, что все это прошлое. И отец, и конь, и Усадьба. Все это незаметно прошелестело в могучем временном потоке, неслышно утекло в Ад. А он должен смотреть вверх и вперед, когда-то рожденный в прошлом, но существующий в настоящем. И настоящее для него это Оборотень и Агата, а еще Звид о‘Камо и койот Амфибрахий.
Он отвязывает конскую узду и оставляет своего больного, старого друга. Прикрывает дверь и выходит. Если мистер Уксус захочет, он сможет выбраться. Теперь он свободен, и так же свободен он. Новый Утиль. Утиль настоящего.
***
Они идут вчетвером. Шагают по пустырю, что расположен за Мнарувесто. Все здесь заполнено мертвым городским мусором. Все отходы идут сюда, чтобы земля пожрала их, и была благосклоннее к тем, кто подчинен Дьяволу.
Здесь тоже был когда-то один из жителей Мнарувесто…
И зовут его Перри Бомж. Перри Изгой. Перри Бродяга. Перри всегда жил на помойке, сколько Утиль себя помнит. Перри не нужен свой дом в Мнарувесто. Перри достаточно приходить раз в месяц в салун, где для него уже стоит бутылочка виски. Он молча, ни с кем не здороваясь и не прощаясь, высыпает перед собой грязную мелочь, глухо звенящую. Затем берет сальными, вонючими пальцами бутылку и бережно прячет за пазуху, под защиту дранной, вонючей рубашки. А потом идет на свою свалку и устраивает пир, но никто не знает этого наверняка. Всего лишь мнарувестские слухи и сплетни. И ему, Перри, хорошо на свалке. И его устраивает все… Устраивало…
А потом Перри исчез. Без звука, вопля или крика. Был утащен неведомым чудовищем, пожиравшим раньше только телят, свиней и коров. И гул прокатился по Мнарувесто. Оборотень! Сходились во мнениях все. И след его, ужасный, получеловеческий, полуволчий, полуптичий навеки отпечатан не только на свалке несчастного Перри, но и в сердце каждого жителя Мнарувесто, ибо все трепещут.
Они движутся вчетвером. Первый весело и беззаботно скачет, прыгает и бежит, то затаившись, то вырываясь вперед, навострив свои храбрые острые уши. Другие два идут спокойно и уверенно. Один из них наигрывает что-то на своей мандолине, подбирая мелодию для следующего куплета баллады. Второй спокоен, зол и угрюм. И мысли его мечутся в горячей голове. А солнце уже перевалило через середину синего полотна, и теперь кипит и жжет им спины. Четвертый – бесплотный дух. Летит и вертится. Он – Невидимка, и он летит с ними, с проклятыми. насмехаясь и беззвучно визжа. Пока может, летит над свалкой, пока может преследовать изгоев… А потом вернется к своему беззаботному, законному полету над крышами заброшенной Усадьбы д‘Морс, салунов и «замка» Хуана Кастильского.
***
А потом поток, через который нет моста. И никогда не было, потому что Лес, по ту сторону реки, таинственный Лес. Зачарованный Лес. Лес, где Всесозидающая Природа живет в каждой веточке и каждой былинке, и эта первозданная мощь зелени и жизни, жизни, не имеющей ничего общего с горячей жизнью Мнарувесто, сокрушит всех людей, кто входит под ее сень, потому что эта Природа дикая, необузданная, в абсолютном смысле враждебная человеку.
И тогда сказал Звид о‘Камо: «Дальше мне хода нет! Я не изгой, я житель Мнарувесто. Все. Я буду ждать тебя здесь, как Лес бы тебя не изменил, я дождусь и закончу балладу об отважном огненном охотнике на Оборотня. Вы двое, Вам больше нет места в Мнарувесто! Все. Идите, а мне дальше хода нет». Он сел на прохладный остывающий камень и принялся подбирать мелодию к словам, которые еще не оформились, но уже звучали в его голове. Это было ясно по его горящим глазам, такие же, как и у Утиля во время драки. Он творил и это был его экстаз, его истинная жизнь, заключенная в те короткие мгновения, когда мысли и чувства сливались вместе, созидая песнь: соединение музыки и слова, деяния души и деяния разума. И вместе со Звидом о‘Камо остался по эту сторону реки Невидимка и весь Мнарувесто, который, быть может, он, Утиль, больше не увидит никогда. И не увидит Агату.
Мысли его снова обратились к ней…
Он пошел вброд, высоко воздев вверх руки с дробовиком и патронами, сейчас похожий на Шамана в трансе, когда он гадает на зубочистках в конце осени… За ним следовал Амфибрахий, быстрый и бесстрашный, как и подобает койоту.
***
Лес большой. Никогда еще Утиль не входил в него. И это благоговейный ужас перед тем, что невозможно понять его простому сознанию. Солнце уже не жжет спину. Оно отступило, когда он стал на лесную тропу. Тропу войны с Оборотнем, который есть создание Природы. Природы Леса. Живого врага всему человеческому. Солнце было злым и яростным божеством, посланником из Ада. Но оно было родным, и горячий утренний зной, когда солнце лениво сжигает всех зенитом, и пылающий, как головня, закат, и рдеющий рассвет, все это было ясным и неотъемлемым. И вот теперь, когда на замену злобе и гневу Огненного Дьявола приходит Мрак и Тьма Леса, тоже Адские, но таинственные и непонятные, которые несут ему смерть не в открытую, как это делает Мнарувестское солнце, а исподтишка, околдовывая и разрушая, вот теперь, по-настоящему, жутко.
Так входит в прохладу Леса Криквун д‘Морс – самый горячий житель Мнарувесто. Черт возьми, как же жутко.
***
Пока Утиль стоит в нерешительности, койот Амфибрахий прыгает и нюхает все вокруг. Его этот Лес примет, он здесь свой, он здесь друг и гость, ибо Природа Леса его второй дом, после сухой пустоши, на которой и расположен Мнарувесто.
И тут Утиль видит, как ширятся зрачки в глазах его друга. Как встает мокрая острая шерсть на загривке, как вытянутая мордочка ужасающе скалится. Нет! Амфибрахий бесстрашен, но гнев заполняет его дикую душу. И тут только понимает Утиль, что Койот этот значительно больше всех прочих, значительно сильнее их и отважнее. И страх самого Утиля плавно испаряется с его горячей кожи, еще не остуженной лесным холодом ночи.
Амфибрахий находит след. Страшный искореженный отпечаток большой ступни. Сначала Утилю кажется, что она нисколько не отличается от человечьей, но потом он вглядывается в влажную лесную почву и мерцание вечернего Леса открывает ему свою тайну. Тайну Оборотня. Из пятки торчит кривой выгнутый по-птичьи коготь и острые волчьи когти, на месте ногтей, а сама ступня косолапая и тоже кривая. Жутко!
Тогда к Утилю приходит осознание, что пути назад нет, и Агата может быть спасена только его смелостью и решительностью. Он заряжает дробовик пулями и говорит своему спутнику лишь одно слово: «След!»
***
А потом сумасшедшая гонка по буреломам.
И сначала Утиль не чувствует, что Оборотень где-то рядом, сначала ему кажется, что все это возня глупого безрассудного Амфибрахия, что все это детский сон, что все это видение или фантазия, что нет вокруг него Зачарованного Леса, которым его пугала Урсула, старая няня, что Оборотень это миф и нет никого сверхъестественного рядом с ним на миллионы километров, и что он всего лишь маленький мальчик, с большим и тяжелым дробовиком на плече…
Но нет!
Оборотень уже поблизости, уже бежит, уже настороженно поводит ушами, уже подкарауливает их, запутав свои жуткие таинственные следы.
Но нет!
Не сон, эта безумная гонка, не видение и не фантазия. Это борьба за жизнь, за жизнь не только свою, или жизнь Агаты. Это сражение Города и Леса, первозданной Природы и изгнанника, который жаждет и алчет возвращение к своей любви, которая заперта там. В обители человека. И сейчас все зависит от мощности его дробовика, от злобы и желания, которое он вложит в свой выстрел.
Но нет!
Койот тащит его сквозь арки и своды, сквозь храм Лесных Богов, которые не отрицают Ада, но которые сильнее его здесь, на земле, которая по праву и всегда принадлежала им. Сухие коричневые корявые тела стволов, когти корней и гривы крон. Это существа самой Природы, безмолвные и жуткие этим безмолвием, безумные своим абсолютным спокойствием и непоколебимостью, перед лицом горячего захватчика из Мнарувесто.
Но нет!
Постепенно нарастает гул и шорох, сквозь треск поломанных лесных рук и ног. Подняли его! Оборотня из Леса. Охота началась…
***
Скрипят, стонут и свистят столетние деревья, когда три могучих воина единоборствуют друг с другом в Зачарованном Лесу. И была бы вечной это погоня по буреломам и сплетениям ветвей и паутин, если бы не Скала. Утиль и Амфибрахий никогда не были в Лесу и не знали, как они выскочили туда, на поляну, где каждого из них ожидала Смерть, тихая и настороженная, как обычно. Поджидающая своих жертв. Очень терпеливая Смерть…
И тогда, когда за спиной у них Лес, а спереди Обрыв, с журчащей где-то далеко-далеко внизу речушкой, тогда они видят, наконец, Его. Нет! Вовсе не Короля Леса, вовсе не Королеву. Это – страж Леса, его воплощение, воплощение дикой и злой Природы, желающей уничтожить человека, за одно то, что он человек.
Он стоит на четырех лапах и угрюмо, оскалившись, смотрит на охотников. Смотрит одновременно и в глаза Утиля и, он знает, в глаза койота, бесстрашного Амфибрахия. Сизая колючая шерсть покрывает его с кончика волчьего носа, до самого хвоста, который напоминает изогнутую мохнатую змею. Глаза, сосредоточие гнева и ненависти, пронзают все существо Утиля и, он знает, все существо койота. Оборотень тихо угрожающе рычит… И тогда Утиль начинает медленно поднимать дробовик. Дрожащие руки его не слушаются, но он поднимает и поднимает его, пока, наконец, не останавливает дергающееся дуло, направленное прямо в лоб Оборотня. Огромного серого волка, с ужасными кривыми лапами, оставляющими жуткие следы. Оборотню некуда бежать: сзади Обрыв, а впереди – он! Криквун д‘Морс Утиль!
И он взводит курок…
***
И тут происходит то, чего Утиль не в состоянии понять своим разумом. Оборотень начинает смеяться. Маленькие синие слезинки текут из его огненных желтых глаз, а из зубастой, оскаленной пасти несется на охотников смех. Хриплый. Надорванный. Человеческий.
Утиль опускает дробовик и задает вопрос, всего один:
– Кто ты?
– Я? – Переспрашивает Оборотень, наклоняя могучую косматую голову, – Я! Я! Я! – Из глотки его рвется наружу хриплый смех, и он пробует на вкус это новое для него понятие «Я», – Оборотень, – Рычит он наконец, – Оборотень! Я!
– Что это значит? – Думает Утиль, снова поднимающий дробовик.
– Что это значит? – Оборотень перестает смеяться и язык, свешивающийся из его пасти, становится краснее и горячее, так что пар идет.
– Ты читаешь мои мысли? – Громко спрашивает Утиль.
– Нет, – Оборотень качает головой, – Я и есть – Ты! Я и есть Все! Ты думаешь, – из горла волка вырываются клубы дыма, языки пламени и рев, – что можно так вот запросто превратиться в кого угодно? Нет! Мой величайший дар и величайшее проклятие в боли! Я понимаю Всех, и значит, я и есть Все! И, значит, страдания мои это ваши страдания.
– Ложь! – Говорит Утиль.
– Смотри! – Отвечает Оборотень.
Он встает на задние лапы и становится меньше, и тоньше. Его здоровая оскаленная морда, постепенно обволакивается волосами… Золотистыми и сверкающими…
Утиль трясет головой, надеясь скинуть жуткое наваждение, но ничто не помогает. Опускает дробовик. Перед ним Его (Не Его) Агата. Такая же, как и в жизни. Настоящей. Той, что там, в Мнарувесто, той, что в городе.
– Я не верю! – Говорит Утиль наконец. Выдавливает из себя эти слова и целится в грудь Оборотню. В грудь Агате.
– Меня раздражает все, что ты делаешь, – Вдруг шепчет она, – Увы. Я не могу скрыться от тебя и твоих ухаживаний, – Она резко, слегка добавив силу своих голосовых связок, выплевывает последнее слово, – Они отвратительны. За что мне это?!
– Прекрати! – Кричит Утиль, а слезы брызжут из его синих глаз, – Остановись! Я должен убить тебя!!! – Он снова поднимает дробовик, и жуткий, горячий вопль раздирает ему горло.
– Ты целишься в самого себя, малыш Рикки, – Вдруг слышит он. Нет! Говорит он. Видит одновременно себя стоящего у кромки Леса и на краю Обрыва. Один из Утилей безоружен, а другой целиться в первого. Оба они Утили, и оба они настоящие.
– Вот дилемма! Убить самого себя! – Замечает первый.
– А что будет с другим? – Спрашивает второй.
– Не знаю, – Следует ответ.
– Зачем ты делаешь так? – Кричит Утиль. Оба они кричат. И оба они слышат крик.
– Потому что я хочу смерти. Потому что я… Все! – Оборотень снова становится серым волком на краю Обрыва.
– Почему ты пожираешь людей?
– Я лишь пожираю свою боль.
– Как?
– С каждой смертью, мне становится легче, – Волк щурит желтые луны глаз, – Стреляй, молокосос! – Добавляет он голосом Алканавта, – Стреляй! И избавь меня от мучений!
– Что будет?
– Увидишь! Выхода у тебя нет.
И тут лопается поводок. Амфибрахий в стремительном прыжке кидается на Оборотня и вгрызается в его горячее лесное горло. В стороны бьет густая красная кровь. И Утиль стреляет, потому что выхода у него и вправду нет… Выстрел поднимает стаи птиц над Таинственным Диким Лесом.
***
Два сцепившихся диких зверя падают в бездну, с Обрыва, и на какую-то долю секунды Утиль чувств
 2015-06-28
2015-06-28 345
345







