РАЗДЕЛ VII РОССИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО

1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ИВАНА [425]
Рожденный с пылкою душою, редким умом, особенною силою воли, он имел бы все качества великого монарха, если бы воспитание усовершенствовало бы в нем дары природы; но рано лишенный отца, матери и преданный в волю буйных вельмож[426], ослепленных безрассудным личным властолюбием, был на престоле несчастнейшим сиротой державы Российской: ибо не только для себя, но и для миллионов готовил несчастье своими пороками, легко возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, исправитель страстей, нем в юной душе, и если, вместо его, мудрый пестун не изъясняет ей законов нравственности. Шуйские старались привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских желаний: непрестанно забавляли, тешили во дворце шумными играми, в поле звериною ловлей, питали в нем наклонность к сластолюбию и даже жестокости, не предвидя последствий. Например, любя охоту, он любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросал их с высокого крыльца на землю; а бояре говорили: «Пусть державный веселится!» Окружив Иоанна толпою молодых людей, смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам, давил жен и старцев, веселился их криком. Тогда бояре хвалили в нем смелость. Они не думали толковать ему святых обязанностей венценосца, ибо не исполняли своих; не пеклись о просвещении юного ума, ибо считали его невежество благоприятным для их властолюбия; ожесточали сердце, презирали слезы Иоанна в надежде загладить свою дерзость угождением его вредным прихотям. Сия безумная система обрушилась над главою ее виновников. Шуйские хотели, чтобы великий князь помнил их угождения и забывал досады: он помнил только досады и забывав, угождения, ибо уже знал, что власть принадлежит ему, а не им. Каждый день, приближая его к совершенному возрасту, умножал козни в Кремлевском дворце, затруднения господствующих бояр и число их врагов, между коими сильнейшие были Глинские, государевы дяди, князья Юрий и Михайло Васильевичи, мстительные, честолюбивые: первый заседал в Думе; второй имел знатный сан конюшего[427]. Они внушали тринадцатилетнему племяннику, что ему время объявить себя действительным самодержцем и свергнуть хищников власти, которые, угнетая народ, тиранят бояр и ругаются над самим государем, угрожая смертью всякому, кого он любит; что ему надобно только вооружиться мужеством и повелеть, что Россия ожидает его слова. Вероятно, что и благоразумный митрополит[428], недовольный дерзким насилием Шуйских, оставил их сторону и то же советовал Иоанну. Умели скрыть важный замысел: двор, казался совершенно спокойным. Государь, следуя обыкновению, ездил осенью молиться в лавру Сергиеву и на охоту в Волок-Ламский с знатнейшими сановниками, весело праздновал Рождество в Москве и вдруг, созвав бояр, в первый раз явился повелительным, грозным, объявил с твердостью, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей, грабят землю, что многие из них виновны, но что он казнит только виновнейшего: князя Андрея Шуйского, главного советника тиранства. Его взяли и предали в жертву псарям, которые на улице истерзали, умертвили сего знатнейшего вельможу. Шуйские и друзья их безмолствовали; народ изъявил удовольствие. Огласили злодеяния убитого. Пишут, что он, ненасытимый в корыстолюбии, под видом купли отнимал дворянские земли, угнетая крестьян; что даже и слуги его господствовали и тиранствовали в России, не боясь ни судей, ни законов. Но сия варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным вельможею, была ли достойна истинного правителя и государя? Она явила, что бедствие Шуйских не умудрило их преемников, что не закон и не справедливость, а только одна сторона над другой одержала верх, насилие уступило
насилию.
Однажды государь, по своему обыкновению, выехав на звериную ловлю, был остановлен пятьюдесятью новгородскими пищальниками[429], которые хотели принести ему какие-то жалобы: Иоанн не слушал и велел своим дворянам разогнать их. Новгородцы противились: началась битва; стреляли из ружей, секлись мечами, умертвили с обеих сторон человек десять. Государь велел ближнему дьяку Василию Захарову[430] узнать, кто подучил новгородцев к дерзости и мятежу? Захаров, может быть по согласию с Глинскими, донес ему, что бояре, князь Иван Кубенский и Воронцовы, Федор и Василий, суть тайные виновники мятежа. Сего было довольно; без всякого дальнейшего исследования гневный Иоанн велел отрубить им головы. Так новые вельможи, пестуны или советники Иоанновы, приучали юношу-монарха к ужасному легкомыслию в делах правосудия, к жестокости и тиранству! Подобно Шуйским, они готовили себе гибель; подобно им, не удерживали, но стремили Иоанна на пути к разврату и пеклись не о том, чтобы сделать верховную власть благотворною, но чтобы утвердить ее в руках собственных.
Между тем великий князь ездил по разным областям своей державы, но единственно для того, чтобы видеть славные их монастыри и забавляться звериною ловлей в диких лесах: не для наблюдений государственных, не для защиты людей от притеснения корыстолюбивых наместников. Не видал печалей народа и в шуме забав не слыхал стенаний бедности; и оставлял за собою слезы, жалобы, новую бедность: ибо сии путешествия государевы, не принося ни малейшей пользы государству, стоили денег народу: двор требовал угощения, даров.
Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами, даже за теми, которые находились в опале, и вместе с ними был у государя.
Прошло три дни. Велели собраться двору: первосвятитель, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту: «Уповая на милость Божию и на святых заступников земли Русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моей мыслью было искать невесты в иных царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Могу не сойтись нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в России, по воле Божией и твоему благословению».
Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость державного, когда Иоанн объявил им другое намерение: «еще до своей женитьбы исполнить древний обряд предков и венчаться на царство». Он велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству. Оно было не ювое для московской державы: Иоанн III венчал своего внука на щрство; но советники великого князя, желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоми-гание о судьбе Дмитрия Иоанновича, говорили единственно о >евнейшем примере Владимира Мономаха, на коего митрополит)фесский возложил венец, златую цепь и бармы Константиновы[431]. Января 16-го утром Иоанн вышел в столовую комнату, где находились все бояре: а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в сенях. Духовник государев, благовещенский протоиерей, взяв из рук Иоанновых на златом блюде Животворящий Крест, венец и бармы, отнес их в храм Успения. Скоро пошел туда и великий князь: перед ним духовник с крестом и святою водою, кропя людей на обеих сторонах. Вступив в церковь, государь приложился к иконам; митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые златыми паволоками; в ногах лежали бархаты и камки[432]: там сели государь и митрополит. Пред амвоном стоял богато украшенный налой с царской утварью: архимандриты взяли и подали ее Макарию: он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы Всевышний оградил сего христианского Давида[433] силою Св. Духа, посадил на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия государю. Приняв поздравление от духовенства, вельмож, граждан, Иоанн слушал литургию. Как скоро государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, безмолвный, с шумом кинулся обдирать царское место: всякий хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для России.
С сего времени российские монархи начали уже не только в сношениях с иными державами, но и внутри государства, во всех Делах и бумагах, именоваться царями, сохраняя и титул великих князей, освященный древностью. Хотя титло не придает естественного могущества, но действует на воображение людей, и библейское имя царя, напоминая ассирийских, египетских, иудейских, наконец, православных греческих венценосцев, возвысило в глазах Россиян достоинство их государей.
Между тем, знатные сановники, окольничие[434], дьяки объезжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю: он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман хбрьевич, был окольничим, а 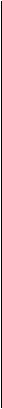
 свекор — боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке[435]. Но не знатность, а личные достоинства невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным; не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимою принадлежностью счастливой царской
свекор — боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке[435]. Но не знатность, а личные достоинства невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным; не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимою принадлежностью счастливой царской
невесты.
Набожность Иоаннова, искренняя любовь к добродетельной супруге не могли укротить его пылкой, беспокойной души, стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, к забавам грубым. Он любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей; играл, так сказать, милостями и опалами; умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных; своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устроении царства. Никогда Россия не управлялась хуже: Глинские, подобно Шуйским, делали что хотели именем юноши-государя; наслаждались почестями, богатством. Честные бояре с потупленным взором безмолвствовали во дворце: шуты, скоморохи забавляли царя, а льстецы славили его мудрость. Добродетельная Анастасия молилась вместе с Россиею, и Бог услышал их. Характеры сильные требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностью устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве!
Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими, но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году. Царь с вельможами удалился в село Воробьево[436], как бы для того, чтобы не слыхать и не видать народного отчаяния, вызванного пожаром. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец, богатые также спешили строиться, о бедных не думали. Сим воспользовались неприятели Глинских. Совершилось дотоле неслыханное в Москве злодейство: мятежники в святом храме убили родного дядю государева[437], извлекли его тело из Кремля и положили на лобном месте, разграбили имение Глинских, умертвили их слуг и детей боярских. Никто не унимал беззакония: правительства как бы не было.
В сие ужасное время явился удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей[438], родом из Новгорода, приблизился к Иоанну с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного, что огонь небесный испепелил Москву, что сила вышняя волнует народ. Сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных, заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов, представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком. Обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному, требовал от него силы быть добродетельным и приял оную. Смиренный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, коего описывают земным ангелом: имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы отечества. Сильвестр возбудил в царе желание блага, Ада-шев облегчил царю способы благотворения. — Так повествует умный современник, князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями.
Обуздали мятежную чернь, которая явилась шумною толпою в Воробьеве, окружила дворец и кричала, чтобы государь выдал ей свою бабку, княгиню Анну и сына ее Михаила[439]. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков: толпу рассеяли, схватили и казнили некоторых, многие ушли, другие падали на колена и винились. Порядок восстановился. Тогда государь изъявил попечительность отца о бедных: взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба.
Господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Государь велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного[440]. Они собралися, и в день воскресный, после обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинской на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Тут государь поклонился на все стороны:  «Люди Божий и нам Богом дарованные! Молю нашу веру к нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет!»
«Люди Божий и нам Богом дарованные! Молю нашу веру к нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет!»
В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных.
Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных, Сильвестра и Адашева, которые приняли в священный союз свой не только митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных, усердных к отечеству и прежде отгоняемых от трона. Ласкатели и шуты онемели при дворе. Несмотря на доверенность, которую Иоанн имел к совету, он сам входил и в государственные и в важнейшие судные дела, чтобы исполнить обет, данный им Богу и России.
2. АЛЕКСЕЙ АДАШЕВ [441]
Мелкий костромской вотчинник Алексей Адашев не блистал знатностью и богатством. Не без сарказма царь Иван заметил, что взял Алексея во дворец «от гноища» и «учинил» наравне с вельможами, ожидая от него «прямой службы». Адашев и в самом деле являл собой образец «прямого слуги», но этих достоинств было недостаточно, чтобы сделать успешную карьеру при дворе. Своим успехом Адашев был обязан удачной службе в приказах — новых органах центрального управления. Карьера будущего царского любимца началась со службы в Челобитенном приказе[442]. Этот приказ служил своего рода канцелярией царя, в которой рассматривались поступавшие на государево имя «изветы». Из Челобитенного приказа Адашев перешел в Казенный приказ[443] и служил там столь успешно, что вскоре же получил чин государственного казначея, который открыл перед ним двери Боярской думы. В конце концов Адашев, по образному выражению современников, начал «править Русскую землю», сидя в приказной избе у Благовещенского собора. Инициатор реформ А. Адашев обладал качествами, которые благоприятствовали его карьере на приказном бюрократическом поприще. Он снискал широкую популярность своей неподкупностью. Будучи судьей Челобитенного приказа, а затем фактическим пра вителем, он строго карал, невзирая на лица (вплоть до бояр), тех, кто чинил волокиту в приказах. Виновных ждала «кручина»[444] от государя, тюрьма и ссылка. Младшие современники Адашева вспоминали годы его правления как время процветания, когда «Русская земля была в великой тишине и во благоденстве и в управе». Им импонировало также редкое благочестие знаменитого временщика. Курбский вполне серьезно писал о том, что Адашев отчасти «в некоторых нравех» уподоблялся ангелам. «Ангелоподобность» царского любимца состояла в показном благочестии и таких ханжеских привычках, которые вполне роднили костромского дворянина с попом Сильвестром. В умерщвлении плоти первый сановник государства, казалось, поставил целью превзойти монахов. Он беспрестанно молился, подолгу выдерживал пост, «по одной просвире ел на день». Дом правителя всегда был полон каликами перехожими[445] и юродивыми. Если верить Курбскому, Адашев открыл в своем доме богадельню, в которой держал много десятков «прокаженных» (больных), «тайне питающе, обмывающа их, многажды же сам руками своими гнои их отирающа».
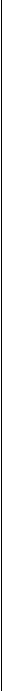 | |||||
 | |||||
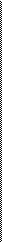 | |||||
3. СИЛЬВЕСТР [446]
Сильвестр родился в Новгороде в семье небогатого священника и избрал духовную карьеру. Из Новгорода Сильвестр перебрался в столицу и получил место в кремлевском Благовещенском соборе. Благовещенский поп, «последняя нищета, грешный, неключимый, непотребный раб Сильвестришко» (так он именовал себя), выделялся своим бескорыстием в толпе стяжателей, сребролюбивых и пьяных князей церкви. Положение при дворе открыло перед ним блистательные перспективы. При его влиянии он без труда мог бы занять доходное епископское место или пост настоятеля монастыря. Но он никогда не умел устроить своих дел. После пожара[447] перед Сильвестром открылась возможность получить «протопопствие» и даже официальный пост царского духовника, но он не воспользовался случаем. Начав карьеру священником Благовещенского Собора, он закончил жизнь в том же чине.
Благовещенский поп, надо полагать, принадлежал к образованным кругам духовенства. Он обладал неплохой для своего времени библиотекой. Некоторые книги ему подарил Иван IV из царского книгохранилища. Возможно, Сильвестр даже знал греческий язык. Иван немало обязан был Сильвестру своими успехами в образовании, но после разрыва с ним царь перестал признавать умственное превосходство бывшего наставника и наградил его нелестным прозвищем «поп-невежа». Этот эпитет свидетельствовал скорее о раздражении царя, нежели о необразованности Сильвестра.
После знаменитого московского пожара 17-летний Иван дал Сильвестру первое ответственное поручение. Священник должен был восстановить роспись кремлевских соборов, пострадавшую от огня. Сильвестр вызвал иконописцев из родного города и, «доложа царя государя», велел им браться за дело. Стены Золотой палаты[448] покрылись нравоучительными картинами, изображающими юношу царя в образе то справедливого судьи, то храброго воина, то щедрого правителя, раздающего нищим золотники. Средствами живописи Сильвестр старался оказать воздействие на эмоции питомца и вскоре преуспел в этом деле.
Сильвестр принадлежал к числу глубоко верующих людей. Его преданность религии граничила с экзальтацией: поп слышал небесные голоса, ему являлись видения. В придворной среде немало злословили по поводу новоявленного пророка. Даже Курбский, хваливший царского наставника, смеялся над его «чудесами». По словам этого писателя, Сильвестр злоупотреблял легковерием Ивана, рассказывая ему о своих видениях («аки бы явление от Бога»). Не знаю, замечает Курбский, были ли эти чудеса истинными или же Сильвестр выдумывал их ради того, чтобы напустить на ученика «мечтательные страхи», унять его буйства и исправить «неистовый нрав».
Рассказы Сильвестра производили на Ивана потрясающее впечатление. Фанатик зажег в душе Ивана искру религиозного чувства. Иван увлекся религией и вскоре преуспел в этом увлечении. Он ревностно исполнял все церковные обряды. По временам, в минуты крайнего нервного напряжения, у него случались галлюцинации. Под стенами Казани в ночь перед решающим штурмом 23-летний царь после многочасовой молитвы явственно услышал звон колоколов столичного Симонова монастыря[449].
Первоначально Сильвестр ограничивался поучениями морального и житейского толка. Осложнение политической ситуации после Казанской войны позволило ему взять на себя роль политического советника Грозного. С появлением в правительстве Сильвестра формирование Избранной рады завершилось.
4. ПАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ [450]
В истории средневековой России, пожалуй, не было такого десятилетия, в которое было бы проведено столько реформ, как в годы правления Избранной рады. Тогда шла напряженная, постоянная реформационная деятельность. У Избранной рады, видимо, не было тщательно разработанной программы действий. Идеи рождались у правителей в самом процессе преобразований, они учились у жизни как бы на ходу. Не все удалось осуществить. В 1560 году правительственный кружок Сильвестра и Адашева был устранен от власти, а сами его деятели оказались в опале. Этот разрыв царя с советниками только подвел черту под давними разногласиями и взаимными неудовольствиями. Первые предвестники охлаждения обозначились в 1553 году. В марте царь тяжело заболел: кто знает, что это была за болезнь, известно лишь, что она была «тяжка зело». Казалось, молодой государь умирает. Встал вопрос о наследнике. Царь к тому времени был отцом единственного сына — Дмитрия (впоследствии то же имя получит последний сын Ивана IV — несчастный царевич, погибший в Угличе ребенком почти через 40 лет), первенца, которому было всего около пяти месяцев от роду. Царь Иван хотел, чтобы бояре присягнули как наследнику именно Дмитрию. Однако среди приближенных началось брожение. Самым печальным для царя было то, что среди тех, кто поддерживал кандидатуру Владимира Андреевича[451] и сомневался, присягать ли «пеленочнику», были и некоторые деятели Избранной рады. Так, Сильвестр, хотя и не выступал прямо за то, чтобы Владимир Андреевич стал наследником, все-таки защищал его, ибо он у старицкого князя «советен и в велицей любви бысть». Отец Алексея Адашева боярин Федор Григорьевич, согласно официальной летописи, говорил царю, что хотя он и поцеловал крест царевичу Дмитрию, но все же испытывает сомнения: «...сын твой, государь наш, ещо в пеленицах, а владети нам Захарьиным, Данилу з братиею. А мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многия». Казалось, инцидент был исчерпан: все в конце концов присягнули младенцу царевичу, включая и самого князя Владимира Андреевича, царь выздоровел, а сам царевич не дожил до года: летом кормилица уронила его в реку, когда входила с ним на царское судно при поездке на богомолье. Колебавшиеся не только не пострадали, но многие вскоре даже получили повышения по службе. Но осадок остался, и муть от него поднялась со дна несколько лет спустя.
Взрыв в отношениях царя с его советниками произошел около 1560 года. Тогда пало правительство Избранной рады. Сильвестра постригли в монахи, отправили сначала в Кирилло-Белозерский, а потом еще дальше — в Соловецкий монастырь. Иван Грозный очень гордился тем, что не казнил Сильвестра и даже оставил на свободе его сына, с тем лишь, чтобы тот не видел царского лица, не бывал при дворе. Алексей Адашев и его брат Данило были посланы на службу в Ливонию, где шла тогда война. Вскоре туда прибыли люди для их ареста. Алексея в живых уже не застали, Данило же был заключен в тюрьму и через два-три года казнен.
В чем же причины такой резкой смены правительства? Нередко утверждают, что расхождения между Иваном IV и Избранной радой лежали прежде всего в области внешней политики, что правительство Адашева и Сильвестра настаивало, чтобы после взятия Казани и Астрахани продолжать действия на этом же, юго-восточном, направлении: вести войну против Крыма, а в перспективе и против Турции. Поэтому якобы эти деятели были против Ливонской войны.
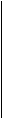 Однако факты говорят иное. В 1558 году, когда началась Ливонская война, именно Адашев был реальным руководителем внешней политики (Висковатый[452] — его подчиненный), именно Адашев вел те переговоры с ливонскими послами, срыв которых привел к началу военных действий. Адашев и Сильвестр, умные и одаренные политики, разумеется, могли через некоторое время после начала конфликта с Ливонией, когда стало ясно, что Великое княжество Литовское и Польша будут в этой войне противниками России, убедиться в бесперспективности этой войны (что было правдой) и советовать царю найти пути, чтобы с честью выпутаться из тяжелой ситуации. Они могли выступать против авантюризма в ведении Ливонской войны.
Однако факты говорят иное. В 1558 году, когда началась Ливонская война, именно Адашев был реальным руководителем внешней политики (Висковатый[452] — его подчиненный), именно Адашев вел те переговоры с ливонскими послами, срыв которых привел к началу военных действий. Адашев и Сильвестр, умные и одаренные политики, разумеется, могли через некоторое время после начала конфликта с Ливонией, когда стало ясно, что Великое княжество Литовское и Польша будут в этой войне противниками России, убедиться в бесперспективности этой войны (что было правдой) и советовать царю найти пути, чтобы с честью выпутаться из тяжелой ситуации. Они могли выступать против авантюризма в ведении Ливонской войны.
Чтобы разобраться в причинах падения Избранной рады, обратимся сначала к двум самым осведомленным свидетелям: Ивану IV и Курбскому. Удивительно: расходясь в оценках фактов, эти два противника сходятся в самих фактах. Иван Грозный связывает свой разрыв с советниками со смертью первой жены — царицы Анастасии, прямо обвиняя вчерашних временщиков в убийстве: «А и з женою вы меня про что разлучили? Только бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы (жертв свирепому греческому богу времени — Хроносу. — В.К.) не было».
В свою очередь Курбский в «Истории о великом князе Московском» говорит, что еще при жизни Анастасии ее братья «клеветаша» на Сильвестра и Адашева и «во уши шептаху заочне» доносы и обвинения против них. Он гневно называет Захарьиных «нечестивыми губителями тамошнего царства». После смерти Анастасии они же обвинили Сильвестра и Адашева в том, что царицу «сче-ровали (околдовали.— В.К.) оные мужи».
Однако раздоры из-за Анастасии, видимо, стали лишь последней каплей в разладе между царем и советниками. Именно охлаждение в отношениях, разочарование в Сильвестре, Адашеве и других деятелях правительственного кружка могли заставить Ивана IV поверить вздорным обвинениям. Должно быть, Адашев и Сильвестр переоценили свое влияние, не заметили того рокового момента,» которого царь стал подчиняться им со все большей неохотой. V тогда привязанность царя к своим советникам превратилась в жгу чую ненависть.
Но и этот психологический конфликт между царем и Избранной радой был только следствием другого, более существенного конф ликта — между разными представлениями о методах централизации страны. Структурные реформы, которые проводило правительств! Избранной рады, как и всякие структурные реформы, шли медленно, их плоды созревали не сразу. Нетерпеливому человеку (а царь Иван был нетерпелив) в таких обстоятельствах обычно кажется, что и результатов-то никаких нет, что ничего и не сделано. Ускоренный путь централизации в условиях России XVI века был возможен только при использовании террора.
Ускоренная централизация требовала террора прежде всего потому, что еще не был сформирован аппарат государственной власти. В годы правления Избранной рады суд кормленщиков на местах был заменен управлением через выборных из местного населения. Но выполняющие свои управительские функции «на общественных началах» и фактически из-под палки губные и земские старосты — это еше не аппарат власти[453]. Центральная власть была еще очень слаба, не имела своих агентов на местах.
Как так, слышу я возражения, это власть-то Ивана Грозного слаба? Чья же власть тогда сильна? Дело в том, что часто путают силу власти и ее жестокость. На самом же деле они противоречат друг другу. Сильная власть не нуждается в жестокости. Жестокость, террор — показатель слабости власти, ее неумения добиться своих целей обычными путями, т. е. компенсация слабости. Вместо длительной и сложной работы по созданию государственного аппарата царь Иван пытался прибегнуть к самому «простому», наиболее понятному методу: не делают то, что надо? — Приказать. Не слушаются? — Казнить. Чему удивляться, если даже в наше просвещенное время очень многие тоскуют по командно-репрессивным методам, наивно полагая, что если расстрелять 20 и посадить 200 жуликов из торговой сети, то все остальные немедленно начнут честную жизнь. Тем более понятен такой ход мыслей для людей средневековья. Но этот путь террора, который только и позволял надеяться на быстрые результаты, был неприемлем для деятелей Избранной рады. Суровый и непреклонный Адашев не был добреньким. Нр все же не массовый террор, не атмосфера всеобщего страха и массового доносительства, а жесткое и по сегодняшним меркам, быть может, жестокое наказание виновных. Но только виновных! Вот что характеризовало правление Избранной рады.
Отсюда вытекает и сопротивление Сильвестра и Адашева тем или иным начинаниям царя и упорство в проведении в жизнь собственных предначертаний. Так столкнулись две силы, два властолюбия. Увы, властолюбивый подданный не может надеяться на Победу в конфликте с властолюбивым монархом. Конфликт разрешился падением Избранной рады.
5. ИЗМЕНА АНДРЕЯ КУРБСКОГО [454]
Руководясь русским патриотизмом, конечно, можно клеймить порицанием и ругательствами Курбского, убежавшего из Москвы в Литву и потом в качестве литовского служилого человека ходившего войною на московские пределы, но в то же время не находить дурных качеств за теми, которые из Литвы переходили в Москву и по приказанию московских государей ходили войною на своих прежних соотечественников[455],— эти последние нам служили, следовательно, хорошо делали! Рассуждая беспристрастно, окажется, что ни тех, ни других не следует обвинять, да и вообще, чтобы вменять человеку измену в тяжкое преступление, надобно прежде требовать, чтоб он был гражданин, чтобы, вследствие политических и общественных условий, в нем было развито и чувство, и сознание долга гражданина,— без этого он или слуга, или раб. Если он слуга, то что дурного, когда слуга оставляет господина, который не умеет его привязать к себе, и переходит на службу к другому? Если же он раб, то преступления раба против господина могут быть судимы только пред судом того общества, которое допускает рабство, но не пред судом истории, которая, исследуя причины явлений, должна осуждать те неестественные общественные условия, которые производят подобные явления.
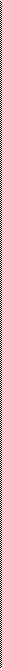
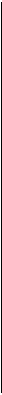
 6. ПЕРЕПИСКА ИВАНА ГРОЗНОГО [456]
6. ПЕРЕПИСКА ИВАНА ГРОЗНОГО [456]
Зачем, царь, воевод, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах и чародействе и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане — соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства? Не сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от Бога дарованной? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими?
А всех причиненных тобой различных бед по порядку не могу и исчислить. И воздал ты мне злом за добро мое и за любовь мою — непримиримой ненавистью. Полки твои водил и выступал с ними, и никакого бесчестия не принес, одни лишь победы одерживал для твоей же славы и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам. И все это не один год и не два, а в течение многих лет трудился и много пота пролил и много перенес, так что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей не бывал, и вдали от отечества своего находился, в самых дальних крепостях против врагов твоих сражался, а как часто ранен был варварами в различных битвах, и все тело мое покрыто ранами. Но тебе, царь, до всего этого и дела нет.
И не надейся, что буду я молчать обо всем: до последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя.
Не думай, царь, что мы уже погибли и истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола Господня стоя, взывают об отмщении тебе; несправедливо изгнанные тобой из страны, взываем день и ночь к Богу, обличая тебя.
Писано в городе Волмере[458], владении государя моего короля Сигизмунда Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью его королевской, а особенно с помощью Божьей.
 2013-12-28
2013-12-28 853
853








