 Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное, или растяженное, или сокращенное, или измененное.
Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное, или растяженное, или сокращенное, или измененное.
Общеупотребительным я называю то, которым пользуются все, а глоссой - то, которым пользуются немногие. Ясно, что глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же. Например, σίγυνον (дротик) - у жителей Кипра общеупотребительное, а у нас оно глосса.
Метафора - перенесение слова с измененным значением из рода в вид, или из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии. Я говорю о перенесении из рода в вид, например: "А корабль мой вот стоит", так как стоять на якоре - это особый вид понятия "стоять". (Пример перенесения) из вида в род: "Да, Одиссей совершил десятки тысяч дел добрых". Десятки тысяч - вообще большое число, и этими словами тут воспользовался поэт вместо "множество". Пример перенесения из вида в вид: "отчерпнув душу мечом" и "отрубив (воды от источников) несокрушимой медью". В первом случае "отчерпнуть" - значит "отрубить", во втором - "отрубить" поэт поставил вместо "отчерпнуть". Нужно заметить, что оба слова обозначают что-нибудь отнять. Аналогией я называю такой случай, когда второе слово относится к первому так же, как четвертое к третьему. Поэтому вместо второго можно поставить четвертое, а вместо четвертого второе. Иногда присоединяют то слово, к которому заменяемое слово имеет отношение. Я имею в виду такой пример: чаша так же относится к Дионису, как щит к Арею; поэтому можно назвать чашу щитом Диониса, а щит чашей Арея. Или - что старость для жизни, то вечер для дня; поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость вечером жизни, или, как у Эмпедокла, закатом жизни.
|
|
|
Для некоторых понятий нет в языке соответствующих слов, но все-таки можно найти сходное выражение. Например, вместо "сеять" семена говорят "бросать" семена, а для разбрасывания солнцем света нет соответствующего слова. Однако так как "бросать" имеет такое же отношение к лучам солнца, как "сеять" к семенам, то у поэта сказано: "сея богозданный свет".
Метафорой этого рода можно пользоваться еще иначе: присоединив к слову чуждое ему понятие, сказать, что оно к нему не подходит, например, если бы кто-нибудь назвал щит чашей не Арея, а чашей без вина. Составленное слово - то, которое совершенно не употребляется другими, а придумано самим поэтом. О трагедии и воспроизведении (жизни) в действии у нас сказано достаточно; а относительно поэзии повествовательной и воспроизводящей в (гекза) метре ясно, что фабулы в ней, так же как и в трагедиях, должны быть драматичны по своему составу и группироваться вокруг одного цельного и законченного действия, имеющего начало, середину и конец, чтобы, подобно единому и целому живому существу, вызывать присущее ей удовольствие. 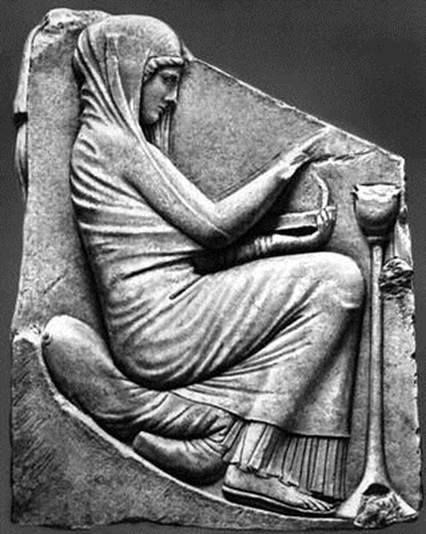
|
|
|
По своей композиции она не должна быть похожа на историю, в которой необходимо изображать не одно действие, а одно время, - те события, которые в течение этого времени произошли с одним лицом или со многими и каждое из которых имеет случайное отношение к другим. Например, морское сражение при Саламине и битва с карфагенянами в Сицилии совершенно не имеющие общей цели, произошли в одно и то же время. Так в непрерывной смене времен иногда происходят одно за другим события, не имеющие общей цели. Но, можно сказать, большинство поэтов делают эту ошибку. Почему, как мы уже сказали, Гомер и в этом отношении при сравнении с другими может показаться "божественным"; ведь он и не попытался изобразить всю войну, хотя она имела начало и конец. Его поэма могла бы выйти в таком случае слишком большой и неудобообозримой или, получив меньший объем, запутанной вследствие разнообразия событий. И вот он, взяв одну часть (войны), ввел много эпизодов, например, перечень кораблей и другие эпизоды, которыми разнообразит свое произведение. А другие поэты группируют события вокруг одного лица, одного времени и одного многосложного действия, например, автор "Киприй" и "Малой Илиады".
И вот о трагедии (критики думают) так же, как старшие актеры думали о своих младших современниках. Минниск называл Каллипида обезьяной за то, что он слишком переигрывал. Такая же молва была и про Пиндара. Как старшие актеры относятся к младшим, так целое искусство относится к эпопее: она, говорят, имеет в виду зрителей с тонким вкусом, которые не нуждаются в мимике, а трагедия - простых. А если она грубовата, то ясно, что она ниже эпоса. Но, во-первых, этот упрек относится не к поэтическому произведению, а к искусству актеров. Ведь и рапсод может переигрывать жестами, как, например, Сосистрат, и певец, как делал Мнасифей Опунтский. Во-вторых, нельзя отвергать всякие телодвижения, если не отвергать и танцев, а только плохие. В этом упрекали Каллипида, а теперь упрекают других за то, что они подражают телодвижениям женщин легкого поведения. В-третьих, трагедия и без телодвижений достигает своей цели так же, как эпопея, потому что при чтении видно, какова она. Итак, если (трагедия) выше (эпопеи) в других отношениях, то в телодвижениях для нее нет необходимости. Далее, трагедия выше потому, что она имеет все, что есть в эпопее: ведь тут можно пользоваться и (гекза) метром; в ней есть еще не в малой доле и музыка, и сценическая обстановка, благодаря которой приятные впечатления становятся особенно живыми. Затем трагедия обладает наглядностью и при чтении, и в действии. Она выше еще тем, что цель творчества достигается в ней при меньшей ее величине. Ведь то, что более сосредоточено, производит более приятное впечатление, чем то, что расплылось на протяжении долгого времени. Я имею в виду такой случай, как, например, если бы кто-нибудь изложил Софоклова "Эдипа" в стольких же стихах, сколько их в "Илиаде". Еще нужно заметить, что в эпических произведениях меньше единства. Доказательство этому то, что из любого эпического произведения можно составить несколько трагедий. Поэтому если эпические поэты создают одну фабулу, то при кратком изложении она кажется "бесхвостой", а если растягивать ее, следуя требованиям метра, - водянистой. Я говорю, например... А если поэма состоит из многих действий, как "Илиада" или "Одиссея", то она содержит много таких частей, которые и сами по себе имеют достаточный объем (для целого произведения). Впрочем эти поэмы  составлены, насколько возможно, прекрасно и являются наиболее совершенным воспроизведением единого действия.
составлены, насколько возможно, прекрасно и являются наиболее совершенным воспроизведением единого действия.
|
|
|
Итак, если трагедия отличается от эпоса всеми этими преимуществами и еще действием своего искусства, - ведь она должна вызывать не случайное удовольствие, а указанное нами, - то ясно, что трагедия выше эпопеи, так как более достигает своей цели. О трагедии и эпосе по их существу, об их видах и частях, - сколько их и в чем их различие, - о причинах, почему поэтические произведения бывают хорошими или нехорошими, о нападках критики и опровержениях их сказанного достаточно.
 2015-05-26
2015-05-26 549
549







