В условиях глобализацци наблюдается процесс ограничения суверенитета государства:
Задачи государства усложняются, а ресурсы их реализации уменьшаются:
Государство все чаще сталкивается с проблемами, источник которых находится за его приделами. Это связано с трансграничным перемещением капитала и трудовых ресурсов, организованной преступности (наркомафии и др.) и экологических про6лем.
Происходит диверсификация центров власти - передача управленческих полномочий на наднациональный или местный уровень.
Возрастающая автономия территориальных общин ведет к возникновению и укреплению трансграничных связей, например еврорегионы.
Изменяются отношения в обществе. Американизированная или европеизированная элита превращается в космополитов.
Миграция укрепляет взаимопроникновение культур и одновременно создает новые проблемы (взаимоотношение с коренным
населением, «новая бедность»).
Карл Поппер отмечает отсутствие естественник границ государства, которые меняются и могут быть определены только посредством применения принципа «статус кво», то есть чисто конвенциальной процедурой. Попытка отыскать некоторые «естественные» границы государства приводит к принципу национального государства и «романтическим фикциям» национализма и расизма.
|
|
|
Кризис государства-нации происходит по трем направлениям:
формирование международных регулирующих органов (ООН, МВФ и Всемирный банк, ВТО);
страна-система (государство-империя) или «Большое пространство»;
регионы внутри страны, формирующиеся на принципах су6сидиарности.
В книге Кеничи Омаэ «Конец национального государства. Восход региональных экономик» (1995) отмечается, что современное государство не является главным действующим лицом в мировой экономике и не осуществляет реальной экономической деятельности. Это относится не только к утере способности контролировать
обменный курс и защищать национальную валюту, но и ко многим другим сферам деятельности. Ученый выделяет четыре фактора, которые называет «Четыре И» - инвестиции, индустрия, информационные технологии и индивидуальные потребители.
Инвестиции больше не являются географически лимитированными и приходят туда, где создан наиболее привлекательный инвестиционный климат. В настоящее время инвестиции в подавляющем большинстве являются частными и роль государства или международных финансовых институтов снижается в их трансграничном перемещении.
Индустрия становится глобальной. Здесь транснациональные корпорации руководствуются не интересами государства, а привлекательностью мировых рынков, способствующей передаче технологий и управленческих ноу-хау.
|
|
|
Информационные технологии ускоряют движение инвестиций и индустрии. Компании могут действовать в любом регионе планеты без необходимости строительства системы бизнеса в каждой стране.
Индивидуальные потребители также стали глобальными в своей
ориентации и хотят иметь лучшую и дешевую продукцию, независимо от места ее производства. Мобильность «Четырех И» создает возможность для жизнеспособной экономической деятельности в любой части света без посреднической роли государства. В результате формируются экономические зоны «региональных государств», или «мир без границ». К таким «региональным государствам» Омаэ относит Северную Италию, Баден -Вюртенберг (Верхний Рейн), Силиконовую долину и зону Залива в Калифорнии, треугольник Сингапур-Джохор (южный штат Малайзии) и соседние острова Индонезии, Пусан (на юге Корейского полуострова). Хотя эти регионы ограничены по протяженности, они являются мощными двигателями глобальной экономики.
По мнению автора этой книги, понятие «региональное государство» не совсем удачное, так как имеет и другой общепринятый смысл. Поэтому более подходящим будет именовать эти зоны полюсами экономического и технологического развития.
В условиях трансформации стран с переходной экономикой особое значение приобретает прочность демократического устройства. В западной социологии вывели следующую закономерность. Страна с ВВП на душу населения не более 1500-3000 долларов не может быть демократической больше восьми-шестнадцати лет. Если показатель выше девяти-десяти тысяч долларов, государство не может не быть демократией. В первом случае власть практически не зависит от налогоплательщиков и живет за счет энергетичёских и других природных богатств. Во втором случае власть живет за счет налогов граждан, обладающих экономическим достоинством.
Кризис государства-нации сопровождается поиском новых политических форм, среди которых выделяются контуры государства-системы:
Соединенные Штаты, включающие в свои границы «зоны жизненных интересов» на всех континентах;
Европейский Союз;
Большой Китай, включающий Гонконг, Тайвань, Сингапур и
обширную диаспору (хуацао).
Перспективы политической гло6ализации связаны с трансформацией власти, которой Элвин Тоффлер в «Метаморфозах власти»
дает следующую характеристику:
власть возможна в мире, в котором сочетаются случайность и
необходимость, хаос и порядок;
среди инструментов власти важнейшими являются насилие, богатство и знания;
знания дают власть высочайшего качества;
когда система власти нестабильна, множатся нелинейные эффекты;
случайные факторы существенны, особенно при менее устойчивой системе власти;
«избыточный порядок», навязываемый сверх того, что нужно
для функционирования гражданскому обществу, аморален.
Во многих новых независимых странах наложились друг на друга
процессы строительства национального государства и вестернизации, что образовало «гремучую смесь». В национальном государстве доминирует титульный этнос, а в гражданском правовом обществе ‑ права конкретного человека, независимо от национальности и вероисповедания. В процессе политической гло6ализации кризис этих государств еще больше усугубился.
В заключение главы следует подчеркнуть, что политическая глобализация не означает конец государства в мире, где «граждане готовы умереть за отечество, но не за свою корпорацию».
Резюме
Политическая глобализация порождает кризис государства-нации. Государства лишаются части полномочий по контролю суверенитета. Глобализация отрицательно сказалась на мировой периферии, не готовой к жесткой конкуренции.
|
|
|
Неолиберальная глобализация означает интернационализацию экономиической, политической и культурной жизни человечества, сопровождаемую игнорированием многих цивилизационных императивов. Она породила нестабильный мир с мифом об устойчивом развитии и способствует приватизации планетарных ресурсов «избранным» меньшинством человечества. Различается просвещенческий, эзотерический монопольный, этнический и криминальный гло6ализм.
Глобализм (модернизм) и фундаментализм являются противоположными социальными движениями в политической и религиозной жизни современного мира, в котором столкнулись агрессивный неоли6еральный фундаментализм Запада и ответный фундаментализм Востока.
Международные отношения являются системой военно-политических, политических, социальных, экономических и других отношений между государствами.
Мировая политика исследует взаимодействие между негосударственными
акторами, нетрадиционными акторами, усиливающими воздействие на мировое
развитие. К негосударственным акторам относятся межправительственные организации и др.
Независимость государств определяется их реальным суверенитетом ‑
способностью самостоятельно определять свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику. Реальным суверенитетом обладает сравнительно небольшое число государств.
Американскому мышлению традиционно свойственен глобализм. Технология «мирной» вестернизации незападных стран включает дискредитацию основных атрибутов общественного устройства государства; дестабилизацию общественных отношений, ведущую к кризису экономики, государственного аппарата и идеологии; и другие меры.
В условиях гло6ализации наблюдается процесс ограничения суверенитета государства. Задачи государства усложняются, а ресурсы их реализации
уменьшаются.

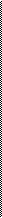 Глава 4
Глава 4
 2015-05-26
2015-05-26 963
963








