О Петре Яковлевиче Чаадаеве (1794—1856) писали так же много, как о любовных похождениях Пушкина. Поэтому я хотел бы опустить все, что связано с тем скандалом, который разгорелся вокруг его поразивших всю Россию «Философических писем».
Приведу только два свидетельства, одно против, другое за Чаадаева. Одно — хорошего русского человека писателя Михаила Загоскина из Статьи без заглавия, которая, кажется, никогда не была опубликована:
«Что отвечать на это?.. Статья, написанная Русским против России на французском языке, по одному этому заслуживает уже смех и презрение...» (Загоскин, с. 545).
Чаадаев заслужил презрение к себе и то, что его официально объявили сумасшедшим и ради унижения придумали небывалое наказание — к нему еженедельно ездил доктор обследовать его душевное здоровье.
Масон, европейски образованный и влюбленный в католичество, как впоследствии Владимир Соловьев, Чаадаев многими воспринимался врагом России. Бердяев сравнивает его с Печериным — не героем Лермонтова, хотя это и символично, — а русским мыслителем, так болевшим из-за смены мировоззрения России, что сбежал в то же время в Европу и стал католическим монахом. Бердяев пишет о нем:
|
|
|
«В восстании против окружающей действительности он написал стихотворение, в котором есть строки:
Как сладостно отчизну ненавидеть!!
И жадно ждать ее уничтоженья.
Это мог написать только русский и притом русский, который, конечно, страстно любит свою родину» (Бердяев. Русская идея, с. 75).
Бердяев понимал и принимал возможность такого порыва. В каком-то смысле понимаю его и я, когда думаю о том, как Россия раз за разом уничтожает или позволяет уничтожать все то, чем жила, во что верила, что было ее духовным светом. Поэтому я принимаю, когда свидетельствует за себя сам Чаадаев. Вот его слова из Письма Самарину:
«Я любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России было мне тяжелее, нежели я могу вам выразить!» (Чаадаев. Письмо Ю.Ф.Самарину, с. 196).
Нет, Чаадаев не был врагом или предателем Родины. Он просто не мог перенести тот внутренний разрыв, что родился у всего русского дворянства, когда они избрали своим мировоззрением Науку. Наука, как вы понимаете, шла в ту пору в Россию как служение некоему почти божественному Разуму, не зря и эпоху ту называли веком Разума или Рационализма, что вернее.
Круг четвертый — Слой первый— Век девятнадцатый
 Рационализм предполагает, что мы можем подчинить себе природу, заставив все действовать в соответствии с тем, что мы считаем разумным.
Рационализм предполагает, что мы можем подчинить себе природу, заставив все действовать в соответствии с тем, что мы считаем разумным.
Вот сущность той мечты, что вселил Петр в своих птенцов. И Чаадаев заявлял про себя: Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его!
|
|
|
Но Россия все никак не становилась разумной и управляемой, все-то в ней было непредсказуемо, не так, как в Версальском саду или в стриженых под линейку парках Великобритании. Все что-то скрежетало и сопротивлялось молодежной разумности. А ведь блестящие мальчики войны с Наполеоном и восстания декабристов хотели ее осчастливить!.. Ну, почему же эта дикая страна не принимала счастья из холеных рук образованных умников?!
Поразительная мечта о разуме, способном спасти Россию, — от какой беды они хотели ее спасать?! — была духовным движителем для всех философов начала девятнадцатого века. Только одни хотели прямо навязать России европейский рационализм, как спасение от ее неевропейскости, наверное, что и делал Чаадаев, а другие, как делали его противники — славянофилы, — жизнь положили, чтобы доказать, что не прав и Чаадаев и весь Запад. И ум западный нехорош, потому что русский лучше.
В итоге, тот же Иван Киреевский пишет, сам не замечая того, странные опровержения западного рационалистического пути, целиком построенные на утверждении собственного, исконно русского пути в Рационализм. У него почти ничего нельзя найти о душе, но зато дух, — а основная боль всей той философии, идущей вслед за Шеллингом и отчасти Гегелем, это стремление понять Дух, — дух становится у него бледной тенью разума. А сочинения его полны потугами подменить их рацио на наш дух, который более рацио, чем их разум. К этому сводятся и все его разговоры о превосходстве православия над католичеством.
Мечты, мечты, где ваша сладость...
Тем не менее, если бы Чаадаева не было в нашей истории, его следовало бы придумать, потому что в борьбе и возмущении против него русский дух осознал себя философски. Эта небольшая провокация, состоящая из восьми «Философических писем», написанных в 1829—1830 годах, была самой настоящей прививкой чужеродной инфекции, лечить которую бросилось все народное тело тогдашней России. Но лечить ее пришлось думая и философствуя. Русская философия родилась, как это ни странно, не из подражания Западу, а из сопротивления этому подражанию.
И что еще страннее, когда вчитываешься в Чаадаева, отбросив всю политику, вдруг обнаруживаешь, что и он постоянно бьется против западной мысли за величие мысли русской.
Как бы там ни было важно творчество ранней русской философии для определения понятия духа, сейчас мое исследование посвящено понятию души. Поэтому я ограничу себя лишь тем, что говорил Чаадаев, а за ним славянофилы о душе. Чаадаев о ней говорил мало, но зато так, будто является подлинным продолжателем Радищева. Что его волновало, и с возрастаю-
Глава 1. Мечта о философии. Чаадаев
 щей силой по мере приближения к старости, — это бессмертие души. Из этих его рассуждений можно составить и некоторое представление о том, как он видел саму душу.
щей силой по мере приближения к старости, — это бессмертие души. Из этих его рассуждений можно составить и некоторое представление о том, как он видел саму душу.
Чаадаев не так уж часто говорил о душе. Увлеченность битвой за разум и дух сильно мешала ему видеть такие мелочи. Тем не менее, Пятое письмо начинается с рассуждений, которые можно считать его душеведением. Поскольку рассуждения эти невелики, постараюсь привести их как можно полнее. Думаю, они весьма соответствуют и понятию о душе основных славянофилов.
Всё Пятое письмо начинается с эпиграфа из Мильтона:
«Они толкуют много о душе, но все превратно».
Из этого можно сделать вывод, что и все письмо будет посвящено душе. Это не так. Чаадаев довольно быстро утеряет нить своих рассуждений, и его затянет в умствования о человеческом духе. Но последую за ним, докуда поведет разговор о душе.
Все начинается с утверждения, которое прямо необходимо для собственного исследования Чаадаева:
|
|
|
«Вы видите, всё приводит нас снова к абсолютному положению: закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической: если мы находим последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым» (Чаадаев. Пятое филос. письмо, с. 377).
Он ведет исследование духовной природы, и психология вместе с душой оказываются лишь штрихами в создаваемой картине рационального построения идеального образа мира. Причем, какими-то не очень удобными для использования штрихами.
«Школьная психология, хотя и имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у науки о природе один лишь прием наблюдения, то есть именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот, вместо того, чтобы возвыситься до подлинного единства вещей, она только смешивает то, что должно оставаться навеки раздельным, вместо закона она и находит хаос.
Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ: это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше: в этом-то и заключается символ веры (credo) всякой здравой философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает неизреченный свет на великое ВСЁ: оно создает логику причин и следствий, но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедуют большинство современных философов, — пагубное учение, сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка совершенно так, как будто они имеет дело с фактами порядка материального.
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 Ум по природе своей стремится к единству, но к несчастию пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души» (Там же, с. 377—378).
Ум по природе своей стремится к единству, но к несчастию пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души» (Там же, с. 377—378).
|
|
|
Посвятить главу душе и идти к разговору о ней таким сложным и трудным путем можно лишь в том случае, если душа лежит очень далеко от того места, где живет твой дух. Именно это отразилось в общепринятом утверждении, что рационализм бездушен. Тем не менее, разговор о душе все-таки начался. И мы попадаем в тот самый способ доказывать душу, которым болел восемнадцатый век и весь Рационализм.
Рассуждение Чаадаева тоже болеет тем, что не наблюдает за душой, а использует душу в качестве некой логической категории. А значит, речь идет вообще не о душе, а о понятии души, которое и проверяется на непротиворечивость столкновением с другими понятиями в рамках единой картины мира. Это на поверхности, но не спешите делать окончательные выводы. Чаадаев не так прост и слишком искренен, чтобы не прийти к вопросу о том, а как же в действительности изучать живую душу?
«Вечно живая душа и Бог, подобно ему вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой — разве это возможно? Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут сосуществовать два вечных существа, два существа совершенных?
А дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было прийти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия» (Там же, с. 378).
Из этого уже можно извлечь первые черты понятия души. Противопоставление однозначно: сознание и материя. Сознательное существо и есть душа. Независимо от того, согласен ли Чаадаев с другими мыслителями в том, что она бессмертна, то, что она сознательна, для него само собой разумеется. И само собой разумеется то, что сознательное существо и состоит из сознания и тем противопоставляется веществу или материи. Это означает, что сознание и составляет тело души.
Не знаю, кто высказывал эту мысль до Чаадаева, но кто-то ее определенно высказывал, раз он ее не открывает, а использует как данность. Но данность эта однозначно свидетельствует, что таковы были общие представления в той общественной среде, где Чаадаев рос как мыслитель. А средой его была самая образованная молодежь аристократического сообщества России. Именно те, кто и разносил подобные идеи по умам читателей в своих сочинениях.
Глава 1. Мечта о философии. Чаадаев
 Думаю, это во многом объясняет, почему психология школы Вундта, да и вся предшествовавшая ей метафизическая психология назывались в России психологией сознания. Даже если они сами этого про себя не утверждали, русские люди просто знали, что это так, потому что как же еще это может быть?!
Думаю, это во многом объясняет, почему психология школы Вундта, да и вся предшествовавшая ей метафизическая психология назывались в России психологией сознания. Даже если они сами этого про себя не утверждали, русские люди просто знали, что это так, потому что как же еще это может быть?!
«Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной; но попав потом на слишком тучную почву Востока, она там разрослась сверх меры и вылилась, в конце концов, в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с Творцом, так что черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и запутывается» (Там же).
Тут Чаадаев, похоже, «наехал», как сейчас говорят вслед за русскими былинами, на Веды и Индуизм. Что называется, еду, еду не свищу, а наеду — не спущу! Основа ведического и индуистского самопознания заключается в вере в то, что познав свою сущность — атман, который чаще всего переводится на русский как душа, — ты познаешь и Атман, то есть Бога или Высший Дух. Иными словами, творение есть лишь проявление Бога, а значит, ты сам — прямая дорога к Богу и его Храм. Ты можешь отринуть все Церкви и держать службу в самом себе. Но тогда отменяется Христова Невеста — Христианская Церковь, как посредница между тобой, грешным, и Богом! Это и есть нечестивый догмат, осужденный отцами церкви, так сказать, с профессиональной точки зрения.
«А затем — эта идея вторглась вместе со многими другими, унаследованными от язычников, в христианство, в этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла таким образом совершенно покорить сердце человека. Между тем, всякому известно, что христианская религия рассматривает вечную жизнь как награду за жизнь совершенно святую; итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе?
Удивительное дело: хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным» (Там же, с. 378—379).
Затем Чаадаев говорит о несовершенстве того единственного орудия познания, которым располагает философия. Она объявляет им разум, но при этом утверждает, что он несовершенен, и его еще только предстоит сделать таким орудием.
«Далее философия эта и принимается изо всех сил рассекать и расчленять самый разум. Но при помощи чего производит она эту необходимую предварительную работу, эту анатомию интеллекта? Не посредством ли этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, которым она по собственному признанию не умеет еще пользоваться, как может она прийти к искомому познанию? Этого понять нельзя.
Но и это еще не все. Более уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает, что разум надо трактовать точь-в-точь как вне-
Круг четвертый — Слой первый — Век девятнадцатый
 шние предметы. Тем же оком, которое вы направляете на внешний мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляете и производите опыты над самим собой» (Там же, с. 379).
шние предметы. Тем же оком, которое вы направляете на внешний мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляете и производите опыты над самим собой» (Там же, с. 379).
В сущности, здесь Чаадаев и задает вопрос о том, как возможно познание себя как души. И может показаться, что он против использования такого разумного подхода к исследованию самого себя, когда ты пытаешься представить себе, что же ты есть такое, и создаешь описание самого себя, наблюдая и углубляя наблюдения над собой, рассматривая всю жизнь, как опыты, которые раскрывают твои глубины. Нет, Чаадаев не против этого. В данном случае он гораздо проще, хоть и не смог этого выразить. Он здесь возмущается по поводу эмпирической психологии, которая очень скоро станет физиологической.
«Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь нескольких ленивых умов, которые упорно топчутся на старых путях» (Там же, с. 379—380).
Не приняв эмпирическую философию, Чаадаев подтрунивает и над немецким трансцендентальным Идеализмом, а после чего и вообще расстается с западной философией, предлагая собственный путь. Не забывайте, сознание для Чаадаева и есть душа. А «столкновение сознаний», вероятнее всего, означает взаимодействие душ.
«Л пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной.
Так вот, если, как мы убедились, движение в мире нравственном, как и движение в мире физическом, — последствие изначального толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение в своей непрерывности подчинены одним и тем же законам, а следовательно, все явления жизни духа могу быть выведены по аналогии?
Значит, подобно тому, как столкновение тел в природе служит продолжением этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение сознаний также продолжает движение духа; подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно, и каждый из нас — участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков» (Там же, с. 380—381).
Это слишком глубокая мысль, чтобы проскочить мимо нее, и я разрываю рассуждение Петра Яковлевича, чтобы дать возможность задержаться на ней мыслью. Понятно, что второй раз слово «сознание» здесь появляется в значении некоего Мирового сознания или Мирового Разума. И означает оно, что Чаадаев переходит здесь к иной, нежели естественнонаучная, космогонии.
Глава 1. Мечта о философии. Чаадаев
 Не могу уверенно утверждать, что сюда не примешались масонские взгляды, но зато определенно могу сказать, что взгляды эти долго будоражили русское общество. И князь Трубецкой через шестьдесят лет будет писать именно об этом свойстве сознания — быть всеобщим, как о его природе. В этих взглядах есть что-то и от теософии и от гностиков и неоплатоников. Возможно, это еще разъяснится позднее. Но продолжим с духовной космогонией Чаадаева.
Не могу уверенно утверждать, что сюда не примешались масонские взгляды, но зато определенно могу сказать, что взгляды эти долго будоражили русское общество. И князь Трубецкой через шестьдесят лет будет писать именно об этом свойстве сознания — быть всеобщим, как о его природе. В этих взглядах есть что-то и от теософии и от гностиков и неоплатоников. Возможно, это еще разъяснится позднее. Но продолжим с духовной космогонией Чаадаева.
«Наконец, подобно тому, как некая построяющая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, то есть воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, то есть воспроизведение умов, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как единое и единственное сознание» (Там же, с. 380).
Духовные элементы — идеи или своеобразные атомы Духа, далее неделимые, — это и есть души. Поэтому Чаадаев прямо переходит к разговору о них, к сожалению, употребляя совершенно невнятное слово «формирование». В каком смысле оно употреблялось в его время и в его среде, мне неведомо. Именно тогда Гумбольдт впервые использует его для создания понятия «образование». В любом случае, оно не может означать создание души, потому что это дело Творца, а значит, души к тому времени, когда начинают формироваться, уже есть. К тому же они атомарны, значит, их нельзя слепить из небытия или хаоса, им можно лишь придать форму, то есть придать некий вид, если говорить по-русски.
«Главным средством формирования душ без сомнения является слово: без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю духовную работу, совершающуюся в мире.
Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды — и, в конце концов, порождают общий разум» (Там же).
Вот исходная точка, которая была нужна Чаадаеву, чтобы начать разговор о мировом сознании и человеческом духе. И здесь я вынужден распрощаться с Пятым философическим письмом. Поскольку уже в этом рассуждении появляются явные противоречия, а оно — основа; все остальное может быть сколь угодно любопытно, но точность описания явления уже утеряна. Да и не о душе там речь.
Что же касается его понятия души, то его можно было бы дополнить отдельными и случайными высказываниями, разбросанными по разным произведениям, в которых проявляется бытовое понимание той эпохи. Вроде вот такого утверждения, затерявшегося между строк Второго письма:
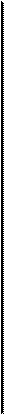 Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
Круг четвертый— Слой первый— Век девятнадцатый
 «И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием разума на эти идеи, ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами, и что есть, конечно, какие-то видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в которой, как в святом ковчеге, содержится неприкосновенное средоточие истины» (Чаадаев. Второе филос. письмо, с. 354).
«И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием разума на эти идеи, ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами, и что есть, конечно, какие-то видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в которой, как в святом ковчеге, содержится неприкосновенное средоточие истины» (Чаадаев. Второе филос. письмо, с. 354).
Или вроде душевного стона в письме Герцену за несколько лет до смерти:
«Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите» (Чаадаев. Письмо А.И. Герцену, с. 256).
Но я бы все-таки хотел завершить рассказ о Чаадаевском понятии души совсем другим. В 1846 году в письме Ю. Ф. Самарину он напишет строки, которые отзовутся целым потоком исследований души как сердца. Этот поток станет одним из важнейших направлений русского научного душеведе-ния. Конечно, сама эта идея заимствуется философами из христианского мистицизма, из науки сердечной молитвы, но вводит ее в число предметов светской философии, вероятно, Чаадаев. Да и не важно, кто и когда вводит. Однажды эта струя исследований возникает, и ее необходимо упомянуть. Первое же упоминание, что нашел я, сделано Чаадаевым.
В сущности, речь здесь идет как раз в продолжение рассуждения о том, как же можно познавать себя как душу.
«К тому же, есть столько вещей, доступных только взору, идущему от сердца, неуловимых иначе, как органами души...» (Чаадаев. Самарину, с. 196).
Чаадаев использовал эти понятия только в личном общении, а значит, лишь в бытовом смысле. Но это означает, что вопрос о способах познания себя органами души, с помощью сердечного взора, витал в русском сознании.
 2015-05-22
2015-05-22 468
468








