онтологического нисхождения Неиного в Сущее.
Метаисторический континуум нисхождения Неиного в Сущее содержит в себе последовательные этапы “развертывания свернутостей” и “свертывание развернутостей”, осуществляющиеся в режиме иерархического соподчинения низших, порождаемых универсумов, высшим, порождающим универсумам, и их согласованного коэманирования в Единую Множественность Сущего. Рассмотрим основные формы субъективаций и объективаций, имманентные экзистенциальным интервалам целостного континуума нисхождения Неиного в Сущее.
Самосубъективация Субъекта. Начальный этап Становления метаисторичен и проходит внутри самого Бесконечного Субъекта, а потому не обнаруживается в каких-либо объективациях или даже субъективацих субъективного. Это абсолютный нуль истории («нулевой историзм»), в который трансцендентно свернута вся иерархия историй, которым еще предстоит развернуться и актуализироваться в динамике Неиного в Сущем. “Движение, - учил Николай Кузанский, - есть развертывание покоя, поскольку в движении нет ничего, кроме покоя... движение и есть переход от покоя к покою, так что оно оказывается не чем иным, как упорядоченным покоем, или состояниями покоя, последовательно упорядоченными”.[97] Так как онтологическим модусом Абсолюта является Свобода (Где дух Господень, там и свобода (2 Кор. 15, 28)), то она в плане феноменальном может быть осмыслена в качестве вечного и бесконечного перехода от покоя к покою через целый континуум форм движения. Абсолютная субъективность предстает в качестве покоящегося начала лишь для стороннего наблюдателя, она чревата интенциональными всплесками, начала и концы которых поглощается бесконечной Вечностью или вечной Бесконечностью. Не случайно абсолютно покоящееся Начало «атрибутируется» способностью к самодвижению и самоинверсии. На стыке трансцендентного и феноменального в экзистенции Креатор воспринимается как инверсирующий Абсолют. Метаисторическое пространство даосизме представлено как Дао-Универсум. Центром Дао выступает «абсолютная пустота», вселенная которого имеет диаметр «размером» в бесконечность. Дао-Универсум представляет собой пульсирующую Вселенную, то сокращаяся до точки, то вновь расширящаяся до бесконечности. Хорхе Борхес в одном из своих рассказов предположил, что вся история культуры - это история нескольких ключевых метафор. И в качестве примера он проследил историческую эволюцию в культурах разного типа известной философской метафоры - Бог как круг, центр которого везде, а окружность нигде.
|
|
|
Когда говорят, что Вечность распадается не на времена, а на мгновения, то прежде всего имеют в виду “продолжительность жизни” самосубъективаций, существующих в вечной Одномоментности и одномоментной Вечности. Всякий раз когда Экхарту не хватало слов, чтобы вербально оформить свою интуицию о неявной динамике трансцендентно покоящегося Абсолюта, он успокаивал своих читателей утверждением, что здесь мы сталкиваемся с нечто рационально не выразимым, а потому и в рациональном понимании его нет не только возможности, но и необходимости. Интуиция о невыразимом в трансценденции никогда не покидает сферу бессознательного, и сознанию открывается лишь предощущение тайны, но не сама тайна. Потому и приходится принимать на веру не столько сами трансцендентные суждения, сколько неявные их интенциональные праформы. Самые глубинные интуиции невыразимы или выразимы лишь посредством особо напряженного умолчания о Предсущем, то есть о том, что предваряет Сущее. Сошлемся лишь на блестящую поэтическую аналогию, позволяющую если уж не поведать о том, что находится в предощущении “динамики покоя”, то хотя бы подвести к его понимающему непониманию или как любил повторять Николай Кузанский к ученому незнанию. У Мандельштама есть удивительная строчка: “Я слово позабыл, что я хотел сказать и мысль бесплотная в чертог теней вернется”. Самосубъективация - это чрева -тость смыслами, никогда не покидающими Архетипического Чрева Смыслов, каким является Великая Пустота, Ничто. «Не может быть единого (одного) смысла. – писал М.М.Бахтин. - Поэтому не может быть ни первого, ни последнего смысла, он всегда между смыслами, звено в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно, и потому каждое отдельное звено ее снова и снова обновляется, как бы рождается заново»[98]. И все же Пустотная Мысле-Основа, или Чертог Теней экзистенциальных смыслов и есть трансцендентный центр из которого на стадии первичной самокреации Субъекта как бы изнутри вовнутрь устремляются эманационные потоки, составляющие собой внутрисубъектный метаисторический процесс, метафорически обозначаемый божественной историей. Вся мифологическая История или история Мифологии может быть обозначена эпохой нулевой истории. «Нулевой историзм» мифов объясняется прежде всего тем, что космологическое прасознание земную историю как бы растворяет в небесной метаистории, в сакральном измерении сущего. Осмысливая историю в универсалиях космогонии, человек особо не фиксировал свое внимание на событийном ряде эмпирически переживаемой жействительности. Не случайно наш первопращур чаще всего называется микрокосмом, лишь в рамках своей космической миссии он в состоянии был осмысливать свое земное бытие. Когда в самосознании человека метаистория оказывается представленной столь тотально и абсолютно, историческое сознание не может не находиться на нулевой отметке. «Космологическая сущность «нулевого историзма» мифов, - считает В.Э.Лебедев, - проявлялась также и в том, что они (мифы) соприкасались со сферой эзотерического»[99]. Первичная форма монотеизма основывалась на прямом диалоге Человека с Богом, естественно, на уровне символического бессознательного. Для символической фиксации целостности мира человеку не требовалость обилие слов, потому что единое и целостное Слово и было Богом, человек ничего не зная в деталях, как бы “знал” мироздание в целом. Не через понятия и категории, а через свою духовную встроенность в Него, он ощущал себя не частью Мира, а духовным “репрезентантом” его Целостности. Видимо в этом и состоит метаисторическая суть самосубъективации.
|
|
|
Самосубъективация тесно связана с самотрансценденцией Субъекта. Если самотрансценденция есть перманентный выход Бесконечного Субъекта за свои “пределы” в предонтологию Абсолюта - в неструктурированный Хаос в “целях” перманентного самопорождения в качестве Великой Пустоты, Ничто, то самосубъективация представляет собой “процесс” структурирования Мировой Гармонии, которая есть ни что иное как “свернутость всех свернутостей”, которой в ходе Всемирной истории предстоит стать (становление) “развернутостью всех развернутостей”. “Бесконечное единство, - учил Николай Кузанский, - есть свернутость (complicatio) всего... Способ осуществления свертывания и развертывания остается тебе совершенно непонятным, а известно только, что ты его не знаешь, хоть знаешь все-таки, что бог свертывает и развертывает все вещи, и поскольку свертывает, все они суть в нем он сам, а поскольку развертывает, он в каждой вещи есть все то, что она есть, как истина в изображении”.[100] Таким образом самосубъективация может «пониматься» в качестве внутренней перманентной инверсии Абсолюта результатом которой является полный цикл развертывания и свертывания Гармонии в беспредельных пределах Ничто, трансцендентной ситуации когда Абсолют еще не «трансформируется» в Неиное и ему как Предсущее не под-лежит Сущее, в котором содержится Иное. Можно сделать еще одно предположение: самосубъективацией в Ничто идеальная или чистая потенциальность переводится в абсолютную или чистую актуальность идеально предшествующую любым объективированным во вне формам актуализации. Как утверждает известный теолог Пауль Тиллих, «должна существовать чистая актуальность, так как движение от потенциальности к актуальности зависит от актуальности; поэтому должна существовать актуальность, предшествующая любому движению»[101].
|
|
|
Мы ранее уже высказывали интуицию о том, что Хаос одновременно есть и Пост-, и Пред-онтологией Абсолюта, которые между собой транс-трансцендентно изоморфны и переходят одна в другую в акте самоинверсии Абсолюта, когда “конец истории” и “начало истории” меняются своими “местами” в очередном круговороте Метаистории Духа, подготавливая таким образом новый Акт ее внутренней мистерии и порождения очередного экзистенциального Эона. Здесь нужны туманные поэтические образы, а не пробивающиеся к первосмыслам трансрациональные прозаизмы. Но другого выхода нет, приходится как-то фиксировать предельные интуиции, которые вряд-ли рационально придумываются автором, они сверх-авторские и если прорываются из Бессознательного, то их необходимо попытаться “передать” чисто символически, прибегая порой к грубым аналогиям хотя и самому порой не понять всего того, что пишется на пределе интеллектуальных возможностей. Восхождение к духовному истоку по силам отнюдь не философу, а мистику, т.е. не человеку переживающему абсолютное в релятивном, а человеку его экзистенциально проживающему. Первомиф - это самоинтерпретирующаяся трансрациональная метафора, интерпретировать которую с позиции изменяющегося Мира и призвана философия, так как она выступает Миро-Воззрением, а не Миро-Воспроизведением каким является мистика. На пределе философской рефлексии можно лишь предположить, что самосубъективации принадлежат внутренней стороне метаистории, стороне, обращенной во-внутрь Духа и связаны они с трансцендентным процессом свертывания онтологических свернутостей в единую пустотную “безосновную основу” - Свободу, в качестве неявного онтологического континуума, развертывание которого в иерархию универсумов и составляет содержание всемирной Истории или истории Всемира, ибо “множество есть лишь развертывание ее единства”.[102] Философия в предельной гностической ситуации стремится достичь слоя Бытия, который Ясперс называет Исток (Ursprung), однако для этого необходимо пройти через соответствующий “субъективный” внутренний акт непосредственного творческого переживания или “Истока”. Самосубъективация никакого отношения к внешнему миру не имеет, а если и имеет, то лишь в той мере в какой мир оказывается одухотворенным. «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога (1 Кор 2, 12)». Посредством самосубъективации человек осуществляет духовное подвижничество, как бы воспроизводит в своей душе то, что осуществляется в глубинах Духа и тем самым оказывается субъектом Мистерии, внешняя сторона которой выглядит как Метаистория. «Дух, - писал Н.Бердяев, - и есть реальность, раскрывающаяся в экзистенциальном субъекте и через него, реальность, идущая изнутри, а не извне, не от объективированного мира»[103].
|
|
|
Субъективация субъективного. В пределах человеческого универсума берет свое начало новый этап метаистории, и зарождается собственно история феноменального человечества. Переход от метаистории к истории Шеллинг обосновывает стремлением субъекта перестать быть трансцендентно самотождественным, «чистым субъектом» и воплотиться всей своей экзистенциальной потенциальностью в поток жизни, быть не только ментальным Ничто, но и представлять собой Нечто, способное идеировать Жизнь. «Сам по себе и до себя он, - писал Шеллинг, - был сущностью (т.е. свободой от бытия), но не как сущность, ибо ему еще предстоял тот, если можно так сказать, роковой акт привлечения самого себя. Он еще стоял у той пропасти, уйти от которой он заставить себя не может. Ведь он либо остановится (останется таким, как он есть, т.е. чистым субъектом) - тогда нет жизни и он сам есть как ничто; либо он хочет самого себя - тогда он становится другим, нетождественным самому себе... более высокое всегда необходимым образом есть одновременно постигающее и познающее более низкое, что и непосредственно очевидно. Абсолютный субъект, который есть как ничто, делает себя нечто, связанным, ограниченным, стесненным бытием. Но он есть бесконечный субъект, т.е. субъект, который никогда и ни в чем не может исчезнуть; поэтому, поскольку он есть нечто, он есть также непосредственно и выходящий за пределы самого себя, следовательно, постигающий, познающий самого себя в этом бытии нечто. Как нечто сущее, он есть реальное, как постигающий его - идеальное, следовательно, здесь и эти два понятия (реального и идеального) впервые попадают в сферу нашего рассмотрения»[104]. Бесконечный Субъект превращается в Множественного Субъекта – в некую совокупность субъектов, каждый из которых одновременно представляет собой и абсолютное Ничто и воплощенное Нечто. В качестве Нечто субъект представлен в качестве такой ментальной тотальности, чей статус оказывается на онтологический порядок ниже по сравнению с Бесконечным Субъектом, в связи с тем, что Антропный Субъект есть уже не Единый Субъект, а представляет собой антропное множенство субъективных индивидуальностей, каждая из которых в себе не содержит всей тотальности непроявленной экзистенции, а является лишь одним из модусов антропной формы существования, одной из субличностей целостного Менталитета. В.С.Соловьев считал, что абсолютное во всей вечности различается на два полюса или два центра: первый - начало безусловного единства или единичности как такой, начало свободы от всяких форм, от всякого проявления и, следовательно, от всякого бытия; второй - начало или производящая сила бытия, то есть множественности форм. С одной стороны, абсолютное выше всякого бытия, есть безусловное единое, положительное ничто; с другой стороны, оно есть непосредственная потенция бытия[105]. Однако понижение онтологического статуса здесь еще не приводит к образованию некоего объекта, объективной реальности, а связано с развертыванием целостной субъективности в ее экзистенциальную множественность, т.е в некую развернутую субъективную реальность, реальность Иерархического Субъекта.
С понижением онтологического статуса Субъекта, субъективная реальность из трансцендентной, превращается в феноменальную, существенно расширившуюся за счет межсубъектных отношений. К сожалению объектоцентристское мировоззрение, ставшее доминирующим в век научно-технической революции закрепил в сознании современного человека в качестве абсолютно положительного и конструктивного понятие «объективной реальности», при этом если порой речь и заходит о «субъективной реальности», то не иначе как в негативно-деструктивном плане, как о такой сфере сознания, в которой укоренены всевозможные иллюзии, заблуждения и проч. Более того, если «объективная реальность» предельно онтологизируется, то «субъективная реальность», в основном, психологизируется. Именно такое положение «субъективной реальности» в современной картине мира, как реальности производной, вторичной и, в основном, онтологически ущербной делает ее включение в понятийный аппарат антропологической историософии крайне затруднительной. С подобного рода трудностями сталкивались те философы, которые мир рассматривали не иначе как сквозь призму реальности человеческого существования. К таким мыслителям прежде всего необходимо отнести С.Л.Франка и Г.С.Батищева. «Бытие самого субъекта, - писал С.Л.Франк, -не «субъективно»; не принадлежа к составу объективной действительности, оно остается подлинной, в известном смысле самодовлеющей, прочно утвержденной первичной реальностью. Эта реальность гораздо более полновесна и значительна, чем объективная действительность. Ибо я могу в известностной мере «закрыть глаза» на объективную действительность, уйти, отстраниться, отрешиться от нее, потерять связь с нею; но я никак и никуда не могу уйти от реальности внутренней, от реальности моего собственного «я»; она есть и остается во мне, она есть само существо моего бытия, живая, конкретная его глубина и полнота, сущая во мне, даже когда я ее не замечаю. Именно в этом смысле и религия, и философия всех времен учат, что собственная «душа» или жизнь есть достояние более важное и нужное человеку, чем все богатства и царства мира. Ибо все внешнее и объективное существует для меня, доступно мне и имеет для меня значение лишь в его отношении к этому первичному непосредственному бытию меня самого. Не внутреннее бытие, а именно внешний мир есть если не безразличный, то все же относительно второстепенный спутник нашего подлинного бытия, раскрывающегося в описанной первичной, непосредственной реальности внутренней жизни личности. Где отсутствует всякое сознание этой интимной реальности, там мы имеем дело уже с обезличением личности, ее духовным умиранием или параличем – явлением, характерным для нашей суетной эпохи»[106]. В то же время С.Л.Франк понимает, что ему будет весьма трудно утвердиться своим мнением о первичном характере «субъективной реальности» в самосознании современного человека, изрядно подпорченного объектоцентристским мировоззрением, а потому он предлагает развести понятия субъектное и субъективное, придав первому понятию положительное аксиологическое значение, а второму – негативное. Когда какое-нибудь представление, утверждает С.Л.Франк, ошибочно принимается за знак или удостоверение явления, относящегося к внешнему объективному миру, мы называем его «субъективным» в смысле его иллюзорности. В отличие от иллюзий субъективности, утверждает он, «субъектное» бытие не менее реально, чем бытие внешнеобъективное. Уже в наше время, видимо независимо от С.Л.Франка такое искусственное разделение понятий «субъективное» и «субъектное» предпринимает Г.С.Батищев. Это довольно искусственное разделение семантических близнецов лишний раз свидетельствует, как неимоверно трудно оставаясь в рамках объектоцентризма осуществлять субъектный подход к реалиям человеческого существования. В рамках субъектоцентризма в такой методологической хирургии нет особой необходимости. Непротив возникает прямо противоположная задача, задача вписывания «объективной реальности» в субъективную Реальность или реальность Субъекта.
Когда мы анализируем онтологическую специфику человеческого универсума и сводим ее к перманентно расширяющейся субъективной реальности это совершенно не означает, что на этой метаисторической фазе совершенно отсутствует так называемая объективная Реальность или реальность Объекта, просто Объект на этой фазе еще не противостоит Субъекту в качестве его независимой от него онтологии – онтологии универсума объективаций. В родовом, человеческом универсуме субъекту противостоит не объект, а другой субъект, единый антропный статус Субъекта как бы делится пополам и человеческий универсум свою онтологическую целостность и универсальность обретает лишь тогда, когда субъекты своими индивидуальными экзистенциями вступают в отношения субъектной взаимодополнительности, в субъектно-субъектные отношения общения, в процессе которого складывается и функционирует единое антропное со -Бытие, совместное Бытие. В связи с тем что онтологическую основу человеческого универсума составляют субъектно-субъектные отношения или отношения между антропными субъектами, господствущим экзистенциальным механизмом развертывания собственно человеческих качеств и способностей оказывается уже не самосубъективация, а субъективация субъективного.
Субъективация субъективного есть метаисторический способ развертывания Бесконечного Субъекта в бесконечную множественность антропных субъективаций. Здесь каждый субъект для другого субъекта выступает как бы объектом для персонифицированной, личностной самоактуализации. Один внутренний мир по отношению к другому внутреннему миру, выступает его, объектно неопосредованным внешним миром. “С убъект есть в его чистой существенности, - писал Шеллинг, - как ничто - полное отсутствие каких бы то ни было свойств, есть до настоящего момента лишь он сам и поэтому - полная свобода от всякого бытия и по отношению ко всякому бытию. Однако он неизбежно должен привлечь к себе самого себя, ибо он лишь для того субъект, чтобы стать самому себе объектом, поскольку предполагается, что вне его нет ничего, что могло бы стать для него объектом. Но, привлекая к себе самого себя, он уже есть не как ничто, а как нечто, в этом самопривлечении он превращает себя в нечто; следовательно, в самопривлечении заключено происхождение бытия чем-то или объективного, предметного бытия вообще. Однако в качестве того, что он есть, субъект никогда не может владеть собой, ибо именно в привлечении себя он становится другим; это - основное противоречие, можно сказать, несчастье, присущее всякому бытию; субъект либо оставляет себя, тогда он есть как ничто, либо сам себя привлекает - тогда он уже другой, нетождественный самому себе - уже не стесненный бытием, как раньше, а стеснивший себя бытием; он сам воспринимает это бытие как привлеченное и тем самым случайное”.[107] Привлеченным субъектом становится та часть его Я, которая обращена к Ты как к своей внешней ментальной проекции.
Субъективация субъективного есть форма перевода антропных потенциальностей Ты в актуализированные ментальные формы Я, и, напротив, антропная потенциальность Я в состоянии актуализироваться лишь в ментальных структурах Ты. Процесс субъективации субъективного в самом широком плане есть некий бесконечный континуум взаимопереходов Я в Ты и Ты в Я, результатом которого выступает перманентно расширяющийся человеческий универсум - Мы. На континууме субъектных взаимопревращений Я-Ты происходит становление Человечества в качестве особого Феномена. Индивид, включаясь в бесконечный поток метаисторических субъективаций субъективного, достраивает себя до Человечества, выступая при этом связующим звеном между мирами ноуменальным и феноменальным. “Мы, - писал Ф.Ницше, - нечто большее, чем индивид: мы сверх того вся цепь, вместе с задачами всех этапов будущего этой цепи”.[108] В этой цепи субъективаций субъективного каждый из индивидов, оказывается уникальным Микрочеловечеством, а человечество - Макроиндивидом. Антропное Я, антропная субличность в ментальности человека сформировано огромным числом субъективаций субъективного, в конце концов обретшая свою “конечную” форму субъективности в рамках конкретной личностной определенности.
Объективация субъективного. Каждая ступень перманентного автоэманирования Первосущего - это довольно сложный синтез объективного и субъективного, где субъект постепенно понижает свой онтологический статус, а объект в той же мере его повышает. Вектор развертывания потенций Первосущего направлен не вверх, а вниз. В процессе своего нисхождения Дух воплощается во все более конечные и релятивные формы бытия, оставаясь при этом трансцендентно самотождественным. Абсолютное и субъективное все более нисходит в релятивное и объективированное, инобытийствуя в них. Объективация - это процесс воплощения субъективных свойств и способностей Человека в процессы, явления, вещи, которые составляют онтологическую основу его внешнего мира. Мир объектов в экзистенциальном плане есть процесс овнешнения, овещнения, обмирщвления Субъекта. Все это вмещается в понятие «объективация субъективного», в процессе которого внутренний мир оказывается воплощенным во внешнем мире Субъекта. В субъектоцентризме, во всех мировоззренческих схемах, в которых основанием служит Бог как Абсолютный Субъект понятие объективация является одним из ключевых. Субъект в процессе своей жизнедеятельности объективируется, то есть воплощается в определенных внешних формах бытия. Определенная часть субъективной реальности удваивает себя в объективной реальности, которая творится ею в целях обретения «онтологической тверди», отталкиваясь которой Субъект обретает способность более интенсивно восходить к своим трансцендентным Началам. Весь мир окружающий субъекта есть ни что иное как универсум его объективаций, совокупность его актуализированных потенциальностей, экстериоризированных его внутренних качеств и способностей. В объективациях в воплощенной форме присутствует та часть субъективного, которая способна экстериоризироваться не в другого субъекта, а в Вещь, не в Ты, а в Оно. «Овещнение, - считает Г.С.Батищев, - есть такой социально-исторический процесс и в то же время такое социально-историческое отношение, в сфере действия которого происходит практическое низведение всякой действительности до уровня объектно-вещного бытия»[109].
Мир как некая онтологическая целостность есть результат, итог метаисторической объективации субъективного начала. Так для А.Шопенгауэра мир есть творение волевого начала, кристаллизирующегося в различных объективациях.[110] Объективация в качестве относительно самостоятельного онтологического феномена появляется лишь тогда, когда мировоспроизводящей практикой становится деятельность, господствующая в пределах социального универсума. Происходит существенное понижение онтологического статуса субъекта, в иерархической ментальности человека появляется социальная субличность, социальное Я, в качестве нецелостного, частичного элемента социальной Тотальности или тотальности Социума, который в качестве социальной реальности и оказывается первой, вполне целостной и универсальной формой внешнего и объективного мира. На общем контуре деятельности субъекту противостоит уже не другой субъект, а объект, как некая объективация и его Я и его не-Я, т.е. Ты. Социальная Вещь или социальное Оно есть ни что иное как результат взаимной объективации взаимо- действия Я и Ты. Объект в его социальной форме представляет собой совокупность объективаций субъективностей, участвующих в едином для них всеобщем деятельностном процессе.
Объективация субъективного есть способ каким осуществляется социальное становление человека на пути его нисхождения в мир объектов. И это вполне позитивный онтологический механизм, посредством которого Миро-Здание достраивается до своего социального этажа, а человеческая ментальность в своей многоуровневой структуре обретает еще одну субличность, укореняющуюся во внешнюю социальную действительность. Впервые человек начинает воспринимать свой внешний мир как некую внесубъектную, деперсонифицированную реальность, к которой необходимо адаптироваться посредством подчинения внешним же нормам социального долженствования. Однако в связи с тем, что социальное Я иерархически подчинено антропному и трансцендентному Я, наделенному высшими, надсоциальными онтологическими статусами, то в целом во взаимоотношениях Человека и Общества, последнее все же оказывается под экзистенциальным воздействием со стороны первого. “ Ничто объективное, ставшее объектом, - писал Н.Бердяев, - не имеет внутреннего существования. Внутреннее существование имеет лишь субъект, внутреннее существование имею "я" и имеешь "ты", имеем "мы". Поскольку мы признаем реальность "мы", оно не мыслится как объект. Объективного духа не существует, существует лишь объективация духа”.[111] Не общество экзистирует как нечто внеположное субъекту, а субъект организует свою общественную жизнь таким образом, чтобы она стала некой социальной твердью, опираясь на которую иерархическому человеку можно более эффективно развертывать свои феноменальные и ноуменальные потенциальности.
Общество, в пределах его гармонии с человеком, оказывается всего лишь превращенной и объективированной формой многоуровневой экзистенции, а потому и саму объективацию субъективного можно рассматривать в качестве онтологической вложенности в субъективацию субъективного и самосубъективацию. Социальная метаисторичность есть бесконечный ряд объективаций субъективного и субъективаций объективного в результате которых социальный субъект и его овнешненный мир социальных объективаций оказываются в отношении взаимодополнительности, придающей единой Экзистенции или экзистенции Единого дополнительную онтологическую устойчивость, столь необходимую для процесса перманентного самостановления Неиного, нисходящего во все более плотные слои Сущего.
С возникновением социального универсума впервые за всю историю человечества единый мир человека раздваивается на субъективную и объективную реальность, причем механизмом такого рассечения мира и становится практика объективации субъективного. «Анализируя формы духа, - писал Э. Кассирер, - мы не можем начать с констатации догматического разграничения субъективного и объективного, но что их разграничение и определение их сферы впервые происходит лишь с помощью самих этих форм»[112]. Возникшая в процессе социализации человека объективная социальная реальность становится той самой онтологической формой, которая начинает активно противостоять не только внутреннему субъективному миру, но и всему целостному существованию Человека. Лишь будучи иерархически соподчиненной субъективной реальности объективная реальность имеет положительное онтологическое значение для целостного Мирозания. В противном случае она оказывается онтологической твердью не для Неиного, а Иного. «Не «объект» – не то, что предстоит нашей мысли, - считал С.Л.Франк, - а, напротив, сам «субъект», в его непосредственной данности самому себе, есть откровение подлинного существа реальности. Как бы много спорного, смутного и неверного ни было в систематических построениях Канта и его преемников, возникших на основе этой первичной интуиции, навсегда ценным остается общий итог того поворота сознания – говоря словами Платона, «поворота глаз души» – извне вовнутрь, в силу которого существо реальности открывается не так, как она извне предстоит в качестве «объективной действительности», а так, как она есть и обнаруживается в живых глубинах самосознания»[113]. Лишь генетическая связь «объективной действительности» с действенной действительностью Человека в состоянии конституировать ее в качестве одной из форм истинной реальности, в которой Неиное обретает свое объектное инобытие.
Объективация объективного. Объективация в чистом ее виде в многомерной человеческой экзистенции возникает тогда, когда расширяющаяся Вселенная Абсолюта втягивается в Природу как универсум объектов. Если Природа, в ее узком понимании, есть универсум естественных объектов, то Технология - это совокупность превращенных искусственных объектов. Природа - есть естественная Технология, а Технология - искусственная Природа (“вторая природа”). Природа имеет свою особую метаисторию постольку, поскольку втягивается в иерархию метаисторий посредством объективации объективного, восходящей через ряд промежуточных вложенностей (объективация субъективного, субъективация субъективного) в самосубъективацию Абсолюта.
Основу природно-технологического универсума составляют объектно-объектные отношения, в которые вступают отелесненные Субъекты или субъективированные Тела (персонифицированные объективации). Происходит еще большее понижение онтологического стуатуса Субъекта и предельное его повышение у Объекта. В ментальности иерархического человека возникает телесная (рациональная) субличность, укорененная в универсум объективаций.
В самом общем виде объективацию объективного можно определить в качестве механизма, позволяющего многомерной человеческой экзистенции наконец-то окончательно опуститься на онтологическую твердь, какой является объективная реальность (как говорится “опуститься с неба на землю”). Возникает самая низшая, обмирщвленная, овремененная и объективированная ниша многоярусного человеческого бытия экзистенциально иррелевантная телесно-рациональному Я. В “конце” метаистории несубстантивный Бесконечный Субъект обретает абсолютно субстанциальный мир, в качестве тверди, над которой возвышаются высшие этажи Миро-Здания, являющиеся покоями Духа. Как подчеркивал Г.С.Батищев, “такой онтологический Абсолютно Низкий Центр, такое подо-всем-лежащее и называется в субстанциализме Субстанцией”.[114] Отталкиваясь от онтологической тверди, Консолидированный Иерархический Субъект начинает свое возвратное восхождение по метаисторическим ступенькам к экзистенциальным истокам, в апофатические глубины Духа. Процессом, противоположным объективации, выступает творчество, дающее субъекту возможность перманентного духовного восхождения. “Творчеству, - писал Г.С.Батищев, - сродни лишь атмосфера субъектного созидательства, атмосфера нескончаемого созидательного восхождения человека ко все большему совершенству”.[115] В процессе самотрансцендирования, онтологический статус Субъекта от ступеньки к ступеньке все более повышается, и, напротив, он понижается у “внешних миров”, чем и преодолевается отчужденность «внешнего человека» от «внутреннего человека». Иерархически сопряженные между собой трансцендирование, актуализация, социализация и рационализация - есть определенные ступени негэнтропии человеческой активности. Будучи взаимообусловленными они дают человеку возможность в каждой точке метаистории проявлять свои интенции имманентным образом, то есть внутренне соответствовать перманентному процессу распаковывания Пустоты в Полноту. В то же время эти ступеньки возвращения в лоно Трансцендентного выступают ступеньками духовного творчества – единственной лестницы по которым человек в состоянии выбираться из плена отчужденных самообъективаций. « Подлинная духовность, - считал Н.Бердяев, - есть процесс, обратный отчуждению и объективации»[116]. Без перманетного возвращения в лоно Духа, считал Н.Бердяев, творчество может объективироваться, ослабевать и охлаждаться, и тогда его результаты могут представляться объективным бытием.
"Механизм мировоспроизведения", наряду с формой времени является важнейшей категориией историософии, позволяющая вскрыть таинство определенного этапа метаистории. Каждый "слой", "уровень" бытия и соответствующая ему форма человеческого Я обладают особым экзистенциальным "механизмом мировоспроизведения", рассмотренные нами выше. Если Вселенная Абсолюта расширяется по «трансцендентной норме» и Сущеее представляет собой лишь воплощенное Неиное, самосубъективация, субъективация субъективного, субъективация объективного и объективация объективного составляют собой целостную иерархическую систему механизмов мировоспроизведения.
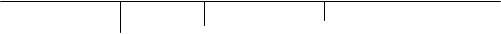 |
 2015-05-30
2015-05-30 419
419








