Глава 2.5.
Холодной ночью
мне одолжит лохмотья свои
пугало в поле...
Басе (XVII в.)
Никакой, даже самый опытный ниндзя, искушенный в тайнах гипноза и черной магии, никогда не выходил на задание без «джентльменского набора» оружия и технических средств. Ниндзя были если не изобретателями, то, по крайней мере, активными потребителями и модернизаторами всевозможных видов холодного оружия (прежде всего, уменьшенных и потайных типов), а также подрывных механизмов и военно-инженерных приспособлений.
Упражнения с оружием начинались для ниндзя, как и в самурайских семьях, с раннего детства и шли параллельно с общей физической подготовкой. К пятнадцати годам юноши и девушки должны были освоить хотя бы в общих чертах до двадцати общеупотребительных видов оружия. Два-три вида, например кинжал и серп или дубинка и нож, считались «профилирующими». Они торжественно вручались иницианту на обряде посвящения в члены рода. Здесь действовал древний закон КУМРО, согласно которому любое оружие, если виртуозно им владеть, может стать надежной защитой против вооруженного до зубов врага, в том числе, конечно, и голые руки.
Арсенал ниндзя включал три категории оружия: средства для рукопашного боя, метательные снаряды и химические вещества, включая взрывчатые смеси.
К первой категории помимо меча, копья, алебарды и шеста относилось множество малоизвестных предметов, причем выбор их всегда определялся тремя качества - легкостью, портативностью и функциональностью.
Ниндзя в отличие от самураев, как правило, пользовались одним большим мечом (ниндзя - то), который носили на перевязи за спиной. Этот меч, как и многие другие атрибуты снаряжения ниндзя, был универсальным комбинированным орудием, напоминающим хитроумный «перочинный нож». Внешне ножны и рукоятка были оформлены очень просто и выкрашены в защитный цвет. Иногда меч, лишенный гарды, маскировался под обычный посох. Ножны были значительно длиннее клинка и имели отверстие на конце, что позволяло использовать их как дыхательную трубку при необходимости скрыться под водой или кок трубку для метания маленьких отравленных стрел. Кроме того, в ножны вкладывались тайные депеши, шнурки с кодовыми узлами и прочие полезные мелочи. Прикрепив меч на ремешке из сыромятной кожи к балке или древесному суку, его можно было использовать как трапецию и как «насест» для долгой отсидки. При наличии гарды меч становился удобной ступенькой, которую потом можно было втянуть наверх за ремешок.
Излюбленным оружием ниндзя был комбинированный серп (кусаригама). К рукояти обычного серпа, представляющего в японо-китайском варианте миниатюрную косу с солидным кованым лезвием, крепилась длинная тонкая цепь с грузилом (гирькой) на конце. Различалось два варианта серпа: крестьянский — с коротким дугообразным лезвием и военный — с удлиненным мечевидным клинком. Рукоятка делалась из твердых пород древесины с металлическим кольцом для цепи. Канонизация киса-ригама-дзюцу приписывается знаменитому мастеру воинских искусств, буддийскому монаху Дзиону (XV в.). основателю школы Иссин-рю. Впоследствии хусаригама вошел в программу нескольких десятков рю и пользовался популярностью в среде самурайства.
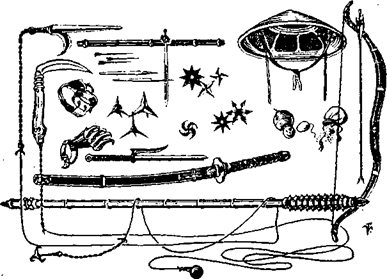
Рис. 1 Оружие ниндзя
Радиус действия цепочки с грузилом мог доходить до нескольких метров, что давало большие преимущества обладателю кусаригама. Удачно брошенной цепью можно было целиком обмотать противника, парализовав его действия, или опутать руку с мечом, предотвратив нападение. Кроме того, гирькой можно было оглушить противника или нанести ему тяжелую травму. После «заброса» цепи пускался в ход серп. Самым сложным разделом в кусаригама-дзюцу было бросание цепи — маки. Профессионализм достигался лишь после нескольких лет занятий.
Для ниндзя серп с длинной цепью играл также роль альпенштока при восхождениях, перекидного моста и подъемника.
Однако самым любопытным во всем комплексе холодного оружия был специфический инструмент ниндзя под названием кёкэцу-сёгэ. Это хитроумное приспособление выглядело как кинжал с двумя лезвиями, из которых одно было прямое и обоюдоострое, а второе — загнутое наподобие клюва. К рукояти крепилась очень длинная, тонкая и легкая веревка из конских или женских волос с петлей пли металлическим кружком на конце. Кёкэцу-сёгэ находил самое разнообразное применение в операциях ниндзя и служил важным подспорьем в тех случаях, когда крупногабаритное оружие не годилось. Его можно было использовать в качестве кинжала, причем загнутое лезвие помогало поймать меч противника в развилку и вырвать поворотом вокруг оси. Можно было использовать его и как метательный нож, и как абордажный крюк для «спешивания» всадников. При вращении на дистанции полтора-два метра кёкэцу-сёгэ успешно конкурировал с копьем и алебардой. Забросив крюк на стену, можно было легко вскарабкаться по веревке и так же легко спуститься, не нарушая тишины прыжком. Той же веревкой можно было связать, заарканить или задушить врага. При переправе через бурные горные реки и пропасти веревка крепилась к дереву, а крюк закидывался на противоположный берег. Металлическое кольцо можно было использовать либо как крепление, надетое на прочный сук, либо как средство для быстрой переправы грузов и людей путем скольжения в подвешенном состоянии.
Незаменимым спутником ниндзя был моток обычной веревки из конского волоса с небольшим грузилом на конце (мусуби-нава), предназначенный как для «опутывания» врага с расстояния, так и для затейливых ловушек.
У женщин - ниндзя, часто проникавших в свиту владетельных даймё под видом обольстительной аристократки, было свое, вполне оригинальное оружие. Их пышные прически украшались изящными заколками в виде миниатюрных стилетов длиной до 20 см — кансаси. Такой заколкой можно было в мгновение ока пронзить горло властелина, спящего на ложе любви. Заколки могли пригодиться и в качестве метательных ножей.
Шест (бо) и дубинка (дзё) в руках ниндзя творили чудеса. Любая палка, подвернувшаяся под руку, становилась смертоносным оружием. Каждая школа нин-дзюцу лелеяла свои, уникальные приемы боя. Очень популярно было также искусство фехтования дубинкой и кинжалом одновременно. С ловкостью жонглеров ниндзя орудовали и короткой палкой —тандзё (явара), иногда в парном варианте,— превосходным оружием для парирования меча и нанесения тычковых ударов по нервным центрам противника.
Ниндзя не просто использовали посох бо для самообороны, но и внесли важные усовершенствования в его немудреную конструкцию. Прежде всего, была разработана модель полого посоха с вмонтированным в него клинком или тонкой длинной цепью, утяжеленной грузилом (сино-би-дзуэ). Уменьшенная разновидность такого посоха в виде безобидной бамбуковой палочки называлась «шпионская раковина» (синоби-кай). Появилась также модель раздвижного бамбукового шеста с наконечником в виде небольшой тяпки под названием «медвежья липа» (кума-дэ). Такой шест мог служить оружием, но чаще использовался как багор — для подъема на высоту и для подтягивания предметов. С его помощью можно было также перепрыгнуть стену в четыре-пять метров высотой. Будучи раздвинутым, шест достигал именно этого уровня. Секции в раздвинутом состоянии жестко закреплялись, а в сложенном образовывали полуметровую трубку, которая легко пряталась под одеждой.
В качестве оружия часто использовалось приспособление, предназначенное для облегчения подъема на отвесные стены замков — ручные «кошки». Сюко представляли собой облегченную модель железной рыцарской перчатки с ременным креплением и пальцами в виде когтей, загнутых книзу. Иногда поперек ладони крепился дополнительный ряд шипов. Такой перчаткой можно было смело встретить удар меча и контратаковать другой рукой. Более примитивной разновидностью того же орудия были «кошачьи лапы» (нэкодэ) — «когти», надевавшиеся отдельно на пальцы.
Одним из важнейших аспектов деятельности ниндзя было поражение врага на дистанции, поэтому искусству стрельбы и метания мелких предметов уделялось большое внимание. Чаще всего лазутчики брали с собой на задание маленький, «половинный», лук (ханкю) длиной не более сорока-пятидесяти сантиметров. Соответствующей величины были и стрелы, которые часто натирались ядом. Хотя стрела летела недалеко, ее убойная сила была вполне достаточна, чтобы умертвить жертву, стреляя из окна в комнату или с крепостной стены в часового на башне.
Примерно на такое же расстояние летели отравленные иглы, выпущенные из духовой трубки наподобие индонезийского сумпитана (фукибари-дзюцу). Миниатюрную трубку с набором игл было очень удобно носить во внутреннем кармане.
Спасаясь от погони, ниндзя порой метал в преследователей, а чаще разбрасывал по дороге железные шипы (тзцубиси), аналог русского и европейского «чеснока». Раны от такого шипа были, очень болезненны и надолго выводила человека из строя.
Более эффектным наступательным и оборонительным оружием был сюрикэн — тонкая стальная пластина в виде шестерни, креста или свастики с заостренными краями. Разновидностью сюрикэна служили заточенные с двух. сторон плоские, круглые или граненые стальные стрелки. Сюрикэн обычно носили в обойме по девять штук (девять — сакральное число) в специальном кожаном футляре за пазухой. Существовали различные способы метания сюрикэна в зависимости от положения тела и расстояния до цели, но чаще всего плоские «звездочки» метали, как карты из колоды, с минимальной затратой усилий, движением кисти. Точное попадание сюрикэ-на обеспечивало летальный исход. Велико было и чисто психологическое воздействие этих зловещих металлических пластин в виде магических символов, которые вдобавок иногда свистели в полете.
Добавим, что ниндзя также искусно управлялись с обыкновенными камнями, посылая их в глаз или в висок врага.
С появлением огнестрельного оружия ниндзя стали пользоваться примитивными самодельными пистолетами, которые с расстояния пятнадцать-двадцать метров били картечью. Другой разновидностью «огнестрельного оружия» была своеобразная пищаль из дерева и папье-маше, стрелявшая тоже картечью, но рассчитанная больше на устрашение врага.
Маскируясь под странствующего монаха, крестьянина, священника или циркача, ниндзя в дневное время носили широкополую коническую шляпу из рисовой соломы (амигаса) — очень удобный головной убор, полностью прикрывавший лицо. Однако помимо камуфляжа шляпа могла служить и другой цели. Массивное дугообразное лезвие, прикрепленное изнутри «под козырьком», превращало ее в гигантский сюрикэн. Пущенная умелой рукой шляпа легко перерубала молодое деревце и отделяла голову человека от туловища, подобно гильотине.
Ниндзя, испокон веков слывшие в народе мастерами алхимии, проявляли большую изобретательность в приготовлении отравляющих веществ и взрывчатых смесей. Так, миниатюрная ручная граната (нагэ-тэппо) могла в случае необходимости задержать преследователей. Кроме того, подмешанный в порох магний давал ярчайшую вспышку. Воспользовавшись временной «слепотой» окружающих, лазутчик мгновенно «нырял» под ноги и оказывался на дереве или за ближайшим плетнем. Нагэ-гэппо были одним из самых действенных вспомогательных средств при легендарных «исчезновениях» ниндзя, вызывавших у самураев суеверный ужас.
Прототипом нагэ-тэппо был китайский пороховой метательный снаряд (тэ-пао) с оболочкой из двух сложенных вместе железных полусфер. Первые упоминания о тэ-пао восходят к XII в. При вторжении на Японские острова в конце XIII в. их уже активно использовали монголы. Скорее всего, секреты приготовления гранат и мин занесли в Японию с континента пленники двух неудачных кампаний Хубилая и буддийские пилигримы. Есть и подробные сведения о химическом составе таких гранат. Например, для получения снаряда с ядовитым дымом использовались следующие компоненты: сера, селитра, аконит, плоды кретонового дерева, белена, тунгу-товое масло, масло сяо ю, древесный уголь, черная смола, мышьяк, желтый воск, волокна бамбука и кунжута. Оболочка иногда делалась из пустого яйца или из глины. Внутрь вставлялся короткий фитиль.
В практике ниндзя широко использовались сильнодействующие порошкообразные ядохимикаты. Некоторые из них в виде рассыпающегося комка можно было бросить в глаза противнику или распылить «с духовой трубки, что вело к частичной или полной потере зрения. Другие предназначались для воздействия на дыхательные пути. С их помощью можно было усыпить врага или вызвать состояние комы. Рассыпанные по земле, эти снадобья сбивали со следа собак.
Большой урон в живой силе причиняли «противопехотные» мины — удзумэ-би. Их обычно располагали по трассе возможного отступления, тщательно прикрыв ветками или слоем земли.
В массовых операциях, где предполагалась оживленная перестрелка, ниндзя для защиты от пуль и стрел применяли небольшой, толстый, очень легкий и прочный кожаный щит (няру-каваита).
Ниндзя, отправлявшийся для сбора информации в крепость, должен был взять с собой и комплект слесарных инструментов, таких, как ломик с развилкой па одном конце, бурав, зубило, отмычки пли нож, стамеску
Для форсирования водных преград использовалось множество портативных приспособлений: складной соломенный плотик, челнок, заранее протянутая под водой веревка. Любопытное устройство представлял собой уки-гуса — складной цилиндр из промасленной бумаги на каркасе из рыбьей кости с плотно закрывающимся отверстием в одном торце. В плохую погоду, не боясь быть увиденным, ниндзя мог использовать эту странную конструкцию как плавучий фонарь, вставив предварительно внутрь свечу. Но при закрытом отверстии «фонарь» превращался в буек, на котором довольно комфортабельно располагался человек. Уки-гуса применялись также для транспортировки и хранения на воде или под водой тяжелых грузов.
Среди гениальных по своей простоте изобретении ниндзя нельзя не упомянуть «водомера» (мидзугумп) — небольшие водные лыжи-плотики, сплетенные из толстого слоя соломы или камыша. Такие лыжи позволяли не замочив ног скользить по гладкой поверхности воды, что порождало среди самураев и крестьян рассказы о сверхъестественной способности ниндзя «ходить по морю, аки по суху». Конечно, овладеть техникой мидзугумо было сложнее, чем приноровиться к доске для серфинга, но ниндзя всегда питали слабость к акробатическим трюкам. Впрочем, иногда иллюзия хождения по воде возникала за счет подводных камней и мелей, расположение которых было известно только ниндзя.
Для преодоления открытых водных пространств, особенно замковых рвов, ниндзя имел при себе дыхательную трубку (мидзудзуцу). Чтобы не привлекать внимания специальной бамбуковой палочкой, в качестве мидзудзуцу часто использовалась обыкновенная курительная трубка с длинным прямым чубуком. С помощью дыхательной трубки можно было долгое время плевать, ходить или сидеть (с грузом) под водой. Заменой трубки служили также ножны от меча или просто сорванная в воде камышинка, причем кончик ее высовывался всего на несколько миллиметров и был совершенно невидим снаружи.
Само собой разумеется, что для переноски такого количества оружия и технического инвентаря ниндзя должен был иметь хорошо смоделированную «профодежду». Костюм для ночных операций состоял из подобия рубашки, куртки с поясом, штанов типа нешироких шаровар, капюшона, ножных обмоток и мягких туфель. Куртка и штаны были сделаны из прочного полотна, надежно прострочены по швам и окрашены в черный цвет. Изнанка, также годная к употреблению, была бурого или темно-синего цвета, что делало ее невидимой ночью. И куртка и штаны изобиловали всевозможными карманами, кармашками, футлярами, петлями и крючками для оружия и инвентаря. Капюшон с башлыком служил в основном для маскировки лица, но мог быть полезен и как фильтр для воды или респиратор в дымном помещении. Туфли с раздвоенным мыском для большого пальца были подшиты парусиной, а иногда кожей или просмоленным холстом, что давало нужное сцепление при подъеме на стену. В рукава куртки порой зашивали тонкие металлические пластины для отражения ударов меча, надо лбом, под капюшоном, крепился тонкий кинжал. Всю одежду можно было скинуть в считанные секунды, чтобы ускользнуть из рук преследователей или одурачить их, сделав муляж. Подготовленный и экипированный таким образом лазутчик был готов выполнить любое, даже невыполнимое задание, а если того требовал долг чести — дорого продать свою жизнь.
Теория и методы военного шпионажа были сформулированы по меньшей мере за тысячу лет до того, как принц Сётоку Танси впервые в истории Японии воспользовался услугами профессионального разведчика - ниндзя. С той самой поры, как китайская культура в V—VI вв. проникла на Японские острова, каждый уважающий себя полководец и государственный деятель на почетном месте в личной библиотеке держал трактат великого стратега древности Сунь-цзы. Дзёнин, предводители кланов ниндзя, во всех своих операциях также руководствовались этой поучительной книгой, и в частности разделом, озаглавленным «Использование шпионов». Сунь-цзы придавал шпионам исключительное значение, считая их работу залогом победы войска в любой кампании. Мы приведем здесь с некоторыми сокращениями упомянутую главу, отражающую не только структуру и организацию шпионской сети ниндзя, но и их взаимоотношения с нанимателями — даймё.
«—...Знание положения противника можно получить только от людей.
— Поэтому пользование шпионами бывает пяти видов: бывают шпионы местные, бывают шпионы внутренние, бывают шпионы обратные, бывают шпионы смерти, бывают шпионы жизни.
— Все пять разрядов шпионов работают, и нельзя знать их путей. Это называется непостижимой тайной. Они сокровище для государя.
— Местных шпионов вербуют из местных жителей страны противника и пользуются ими (это простые информаторы, не ниндзя в собственном смысле слова.— А. Д.); внутренних шпионов вербуют из его чиновников и пользуются ими (это также осведомители, продающие сведения и не являющиеся ниндзя.—А. Д.); обратных шпионов вербуют из шпионов противника и пользуются ими. Когда я пускаю в ход что-либо обманное, я даю знать об этом своим шпионам, а они передают это противнику. Такие шпионы будут шпионами смерти. Шпионы жизни — это те, кто возвращается с донесением.
—...Тонкость! Тонкость! Нет ничего, в чем нельзя было бы пользоваться шпионами.
— Если шпионское донесение еще не послано, а об этом уже стало известно, то и сам шпион, и те, кому он сообщил, предаются смерти.
— Вообще, когда хочешь ударить на армию противника, напасть на его крепость, убить его людей, обязательно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны, воинов его стражи. Поручи своим шпионам обязательно узнать все это.
— Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой; введи его к себе и помести его у себя. Ибо ты сможешь приобрести обратного шпиона и пользоваться им...
— Всеми пятью категориями шпионов обязательно ведает сам государь...
—...Только просвещенные государи и мудрые полководцы умеют делать своими шпионами людей высокого ума и этим способом непременно совершают великие дела. Пользование шпионами — самое существенное на войне; это та опора, полагаясь на которую действует армия».
Идеи Сунь-цзы многократно комментировались и обогащались примерами из истории Китая и сопредельных государств, поэтому феодальные властители Японии и верхушка иерархии ниндзя опирались не только на лаконичные тезисы трактата, по и на пространные тома конкретных установок и рекомендаций.
Не останавливаясь подробно на стратегических аспектах использования шпионажа в междоусобных войнах, заметим лишь, что ниндзя довольно редко действовали в одиночку, на свой страх и риск. Как правило, все их акции проводились в рамках деятельности разветвленной шпионской сети,
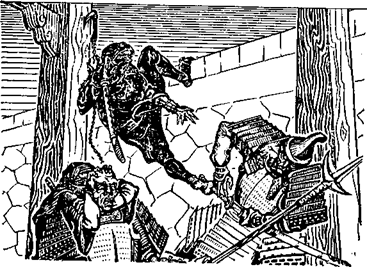
Рис. 2 Ниндзя проникают в замок
включавшей информаторов, осведомителей, резидентов, связных, диверсантов и, наконец, силы прикрытия.
С точки зрения экзотики, безусловно, наибольший интерес представляют ниндзя - диверсанты. Следуя классификации Сунь-цзы,— это «шпионы жизни». Они же иногда добровольно или вынужденно становились «шпионами смерти», жертвуя собой ради убийства особо важной персоны пли ради захвата неприступного укрепления.
Тактика ниндзя - диверсантов сводилась к отвлечению внимания врага на разных участках за счет быстрого перемещения,:к неожиданным ударам (например, снятие часового) и внесению паники в ряды противника при помощи крупных диверсий (поджог продовольственных складов, отравление крепостного колодца, убийство военачальника и г. п.).
Самым сложным в рискованных миссиях ниндзя было проникновение в замок. Для этого использовались любые средства. Можно было подкупить часового, наняться на работу, предложить свои услуги в качестве наставника воинских искусств или даже лазутчика. Можно было попытаться сыграть странствующего монаха, актера, фокусника, притвориться больным, незаметно замешаться в ряды вражеских солдат. Однако все эти уловки страдали одним недостатком: за вновь прибывшим бдительно следила вражеская контрразведка и первая же попытка пробраться к секретным документам или в княжеские покои могла стать последней. Отважные разведчики, поднаторевшие в тонкостях своего ремесла, порой прибегали к смертельно опасному, но зато беспроигрышному (в случае удачи) приему; давали себя схватить с расчетом на побег. История сохранила немало примеров таких отчаянных авантюр.
Токугавские власти приказали опытному ниндзя по имени Тонбэ выследить и убить своего собрата по ремеслу — Каэй Дзюдзо, нанявшегося в услужение к князьям-заговорщикам. Опознав в предполагаемой жертве старого друга и однокашника, Тонбэ пренебрег профессиональной честью и не стал его убивать. Посовещавшись, они разработали план, который должен был удовлетворить обе враждующие стороны. Тонбэ отвел Дзюдзо в резиденцию сегуна и доложил, что противник взят живьем. Сегун немедленно повелел казнить негодяя, но Дзюдзо испросил дозволения покончить с собой. Сегун и его свита, заинтригованные предстоящим зрелищем, удобно расположились в зале, и несчастному Дзюдзо был выдан короткий тупой нож. Поскольку ниндзя мог не соблюдать во всех тонкостях ритуал харакири, Дзюдзо не стал разоблачаться и ограничился тем, что вонзил нож в живот по самую рукоять. Одежда густо пропиталась кровью, умирающий, дернувшись несколько раз, растянулся на полу. Труп был выброшен в замковый ров, а сегун с приближенными устроил банкет по случаю благополучного завершения операции. В ту же ночь замок был подожжен с разных сторон. Коварный Дзюдзо вместо харакири вспорол брюхо задушенной крысе, предварительно заткнутой за пояс. Отсидевшись до темноты во рву, он воспользовался рассеянностью часовых, пробрался в замок, который успел изучить днем, поджег его и безнаказанно скрылся.
Конечно, подобные проделки требовали недюжинной силы, хладнокровия и ловкости. Стоило кому-либо заметить подлог — и дерзкий ниндзя был бы подвергнут изощренным пыткам, а в заключение ему отпилили бы голову тупой бамбуковой пилой.
Чаще всего проникновение в замок осуществлялось «естественным» путем, то есть в полной тайне и под покровом ночи. Ниндзя порой устраивали своего рода соревнования, штурмуя во тьме стены самых неприступных замков. Вот, например, как была захвачена твердыня даймё Сува.
Замок Сува высился на холме и был окружен глубоким рвом. Над массивными крепостными стенами господствовала одна единственная сторожевая башня, с которой открывался обзор всех укреплений и внутреннего двора.
Ночью стены освещались, и приблизиться к ним было невозможно. Тогда хитроумный ниндзя Като Тандзо из клана Кога разработал план захвата самой сторожевой башни. Ночью он с помощью «кошек» вскарабкался по отвесной стене под платформу башни, нависавшую надо рвом,— единственное место, выпадавшее из поля зрения часовых. Зацепившись одной рукой за балку, другой рукой Като вытащил бурав и просверлил в деревянном полу платформы две дырки. В них были бесшумно вставлены болты с раскрывающейся шляпкой, а к болтам прицеплены веревки. Ожидавшие внизу ассистенты по сигналу Като поднялись наверх и устроились на «качелях» прямо под ногами у часовых. Далее все было делом нескольких минут. Определив по шагам направление движения часовых, ниндзя одним махом преодолели парапет башни и беззвучно прикончили стражу. Замок был в их распоряжении. Поджоги казарм и порохового склада решили исход мероприятия.
Во всех своих действиях ниндзя должны были оставаться по возможности невидимыми и неслышимыми для противника, поэтому в нин-дзюцу были разработаны классические способы маскировки при любых обстоятельствах, так называемые Пять методов камуфляжа (го-тон-но дзюцу):
1. Использование Дерева, то есть растительности,— моку-тон,
— Маскировка в траве (куса-гакурэ). Высокая — выше человеческого роста — трава и низкорослые кустарники, которыми изобилуют равнины Японии, всегда служили идеальным прикрытием для маневров. Даже среди бела дня в такой траве можно было ходить незамеченным. Кроме того, при длительном наблюдении ниндзя мог сам «превратиться» в пышный зеленый куст или в болотную кочку, увенчанную бурым мхом.
— Маскировка по способу барсука — тануки-гакурэ. Здесь предполагалось использование деревьев в разных качествах. К примеру, можно было надежно укрыться от посторонних глаз в дупле старого дерева, незаметном снизу. Можно было просто спрятаться в раскидистой кроне или взобраться на дерево и, пока преследователи замыкают кольцо окружении, воспользоваться лианами или заранее натянутыми веревками, чтобы перебраться в безопасное место.
2. Использование Огня — ка-тон.
— Отвлекающий поджог — хи-цукэ. Это надежное средство применялось очень часто с целью нанести ущерб противнику и в то же время отвлечь его от той трассы, по которой собирался следовать ниндзя.
— Ручные гранаты или бомбы со вспышкой — хи-дама. К ним прибегали при необходимости избавиться от настигающей стражи; иногда их подбрасывали или подкладывали в костер или в жаровню. Убойная сила этих адских машин была невелика, но зато очень велик был шоковый эффект.
— Сигнальные петарды — райка-дама — обычно раскидывались вокруг лагеря или вокруг пункта диверсии и приводились в действие при помощи системы шнуров, за которые неизбежно цеплялся вражеский лазутчик или часовой.
— Ядовитые и слезоточивые газы для прикрытия — докуэн-гакурэ — давали хороший результат как при отступлении, так и при необходимости бесшумно умертвить или парализовать несколько человек в закрытом помещении.
— «Дьявольское пламя» — ониби-гакурэ — представляло собой простейший иллюзионистский трюк с выдуванием огня. Ниндзя, демонстрирующий ониби в уродливой маске черта, зачастую обращал в паническое бегство преследователей.
3. И с п о л ь з о в а н и е Земли и связанных с землей объектов (стен, камней, изваяний и т. п.) — дзи-тон.
— Маскировка по «способу тритона» — имори-гаку-рэ — заключалась в умении «прилипнуть» к стене, скале или земляной куче, полностью слившись с поверхностью.
— «Способ пугала» — какаси-гакурэ — предполагал умение имитировать в темноте или полумраке контуры привычных предметов ландшафта — огородного пугала, статуи, каменного фонаря в парке и т. п.
— По «способу перепелки» — удаура-гакурэ — следовало, сжавшись в комок, прижаться к земле, изображая кочку или камень.
4. И с п о л ь з о в а н и е Металла, то есть изделий из металла для отвлечения внимания,— кип-тон.
— Создание ложных шумов в каком-нибудь дальнем углу замка с помощью размотанной бечевы — кама-гаку-рэ ~ от слова кама — металлическая домашняя посуда. Заслышав бряцание железа, стража бросалась на звук, оставляя открытым проход во внутренние покои.
— Бросание медных монет — до-гакурэ — часто помогало избавиться от погони па людной улице. Швыряя один за другим крупные медяки, убегающий от преследователей создавал ажиотаж среди зевак и нищих, которые ловили монеты, а заодно мог подбить глаз наиболее рьяному преследователю.
5. Использование Воды — суй-тон.
Мы уже знаем, что тренированный ниндзя чувствовал себя в иной стихии, как рыба и воде. Самыми популярными способами маскировки были:
— «способ черепахи» (камэ-гакурэ), дающий возможность длительного пребывании под водой с дыхательной трубкой;
— «прикрытие из водорослей» — угикуса-гакурэ, которое позволяло, например, плыть по течению реки незамеченным.
Если лазутчика заставали врасплох и он вынужден был кинуться в воду без всякой предварительной подготовки, на помощь приходил капюшон или любой кусок материи. В него можно было набрать большой пузырь воздуха, чтобы продержаться на дне пять-семь минут, пока преследователи прочесывают окрестности.
Таким образом, «Пять методов камуфляжа» строились по принципу соотнесения с пятью стихиями: Деревом, Огнем, Землей, Металлом и Водой. Считалось, что ниндзя, в совершенстве овладевший всеми пятью методами, научившийся комбинировать их в различных ситуациях, постиг идею Бытия, выраженную во взаимосвязи и метаморфозах первоэлементов, и ему обеспечен успех в любом предприятии. Однако, как гласит японская пословица, «и обезьяна падает с дерева». Никто из лазутчиков, отправлявшихся на задание, не был застрахован от провала, ибо в лице противника они нередко встречали еще более опытного, более коварного ниндзя. Тому примером печальная история Сасукэ по прозвищу Сарутоби (Прыгучая обезьяна).
С детства Сарутоби тренировался по самой жесткой программе, особенно в области «использования растительности» (моку-тон) — взбирался на деревья с головокружительной быстротой, бегал по веткам, раскачивался и прыгал по лианам, как настоящая обезьяна. Он выучил, а возможно изобрел сам, обезьяний стиль кэмпо, чрезвычайно подвижный и мощный. Сживаясь с «образом», он подолгу жил на деревьях и питался пищей обезьян, но при этом не забывал осваивать и тайные традиции ялш-буси. В конце концов Сарутоби превратился в незаменимого лазутчика, с блеском выполнявшего самые опасные поручения. Однажды мятежный даймё, замысливший государственный переворот, послал Прыгучую обезьяну во дворец сегуна на разведку. Благополучно подслушав планы вражеских военачальников, Сарутоби приготовился ретироваться. Незамеченным он выбрался из комнаты и взобрался на стену крепости, но, прыгая вниз, угодил в медвежий капкан. Видя, что ему не освободиться, ниндзя мужественно отсек мечом себе ногу по щиколотку, перевязал рану и попытался продолжить путь, но погоня была уже близка. Тогда, слабея от потери крови, Сарутоби в последний раз выкрикнул проклятье врагам и перерезал себе горло.
Обеспокоенные отсутствием своего лучшего агента, заговорщики послали ему вслед еще одного ниндзя. Тот, проникнув в резиденцию сегуна, увидел стражу в боевой готовности, а немного спустя перед ним промелькнула во мраке одетая в черное фигура. Незнакомец подкрадывался к двум часовым на стене и вскоре заколол их кинжалом. Удовлетворенный лазутчик беспрепятственно вернулся в ставку мятежников и доложил, что Сарутоби сеет панику среди войск врага. Но в тот же час замок был окружен правительственными отрядами и взят штурмом... Хаттори Хандзо, начальник сил ниндзя в войске сегуна, сумел провести мятежников, сыграв роль погибшего Сарутоби.
Еще более поучительна история убийства могущественного даймё Уэсуги Кэнсина, оспаривавшего право на верховную власть в стране у Ода Нобунага и Такэда Спнгэна. Вся разведывательная служба Уэсуги была сосредоточена в руках Касуми Дандзё — с ним и пришлось столкнуться четырем тайным убийцам, подосланным Ода. Злоумышленникам удалось подстеречь в темном коридоре Касуми и трех его спутников, несших стражу. Укифупэ Кэмпати, мастер фукибари-дзюцу, всадил в них заряд отравленных игл из своей трубки — все четверо, были убиты наповал. С тем же оружием Укифунэ направился в спальню князя и уже поднес было трубку к губам, когда чьи-то мощные руки обхватили его и точно рассчитанным рывком свернули голову... Как выяснилось, Касуми лишь притворился убитым, сумев увернуться от смертоносных игл. Но напрасно успокоенный Кэн-син тешил себя мыслью, что отделался от злейшего врага. Напрасно предусмотрительный Касуми расставлял в темных переходах замка ловушки. В ту же ночь родственник незадачливого метателя отравленных игл, Укифу-нэ Дзиннай, который был карликом, ростом чуть более трех сяку (около одного метра), но вполне развитым физически, проник во вражескую крепость и устроился в засаде. Он в течение многих лет готовился к исполнению разного рода деликатных миссий, сидя подолгу в котле с жидкой глиной. Пробравшись в замок, Дзиннай уютно устроился в княжеской уборной (выгребной яме) с копьем и дыхательной трубкой. Когда поутру князь явился для удовлетворения естественных потребностей и присел на корточки над круглым отверстием в полу, Дзиннай, вынырнув из своего укрытия, пронзил владетельного даймё копьем до самого горла. Сбежавшаяся на шум стража никого не обнаружила, ибо Дзинпай, сделав свое дело, погрузился на дно. Спустя некоторое время, выбравшись из замка и хорошенько отмывшись, он уже описывал свои приключения довольному Ода Нобунага.
Тактика ниндзя не ограничивалась поджогами, убийствами, взрывами и отравлениями. Нередко для захвата особо важных фортификаций применялось «бактериологическое оружие» — больные бешенством или инфицированные эпидемическими бактериями животные (собаки, кошки, обезьяны и т. п.), иногда дрессированные. Такой способ диверсий назывался «шпионский манок». Некоторое представление о нем дает следующий исторический анекдот
Как-то раз Хадзика Дзюбэй, лазутчик на службе у князя Такэда Сингэна, решил избавиться от своего заклятого врага Сандайфу Момоти. Пробравшись в дом к Сан-дайфу и удостоверившись, что тот крепко спит, кровожадный Хадзика выпустил из мешка несколько десятков разъяренных голодных ласок. Но тут «проснувшийся» Сандайфу, который явно уже был оповещен о готовящемся покушении, швырнул в своего противника пригоршню крысиного помета. Ласки, бросившись на запах крыс, до смерти загрызли не в меру изобретательного убийцу.
Кроме чисто террористических акций ниндзя диверсанты использовались и в качестве военного десанта во время операций на суше и на море. При штурме крепостей, когда основная масса войск шла на приступ, перед ниндзя часто ставилась задача пробиться внутрь и открыть ворота или отвлечь на себя силы осажденных. Для этого вводились в действие различные механизмы. Например, под покровом ночи вплотную к стене замка придвигалось огромное колесо — ягора, собранное из легких деревянных жердей с небольшими дощечками в виде ступенек по периметру. Ниндзя один за другим очень быстро прыгали с верхушки вращающегося «чертова колеса» прямо на стену. Того же типа колесо, но с укрепленными кабинками, предназначалось для перманентного обстрела противника на стенах и на внутреннем дворе замка. По принципу колеса работала и катапульта — тотэки-ся. Тараном ниндзя манипулировали под прикрытием щита из воловьих шкур на прочной переносной раме. В полевых операциях ниндзя иногда «десантировались» по отлогому склону холма в самоходных телегах с деревянными кабинками — дайрин-ся. Огромные колеса сообщали тележкам устойчивость и не давали перевернуться при спуске. Из бойниц в стенках кабинок можно было вести обстрел неприятеля. Большое количество таких «бронемашин» обычно пускалось впереди пехоты с целью внести замешательство в стан врага и выбить у него из рук инициативу.
Порой десант в тылы противника выбрасывался с воздуха при помощи гигантских бумажных змеев — тако. Поскольку такие операции проходили ночью, вся конструкция получила название «ночной змеи» (яли-дако). Ниндзя, подвешенный на стропах, мог вести долговременное наблюдение за лагерем врага, обстреливать его с воздуха или забрасывать ручными гранатами, но, главное, с такого змея можно было, если повезет, высадиться прямо на крышу замка. Тот же змей, привязанный в укромном месте, служил и экстренным средством спасения. Нередко в небо запускались целые эскадрильи бумажных змеев с чучелом или с человеческой фигурой, нарисованной на днище, чтобы отвлечь внимание неприятеля от направления главного удара.
Еще более замысловатым изобретением были «люди-орлы» (хито-васи), осуществлявшие массовое вторжение на территорию врага. Из бамбука, бумаги и веревок сооружалось примитивное подобие дельтаплана с подвеской. Сам ниндзя грудью ложился на раму, вдевая руки в крепления под крыльями. Пусковое устройство представляло собой несколько бамбуковых кольев или спиленных до определенной высоты стволов, оттянутых назад при помощи каната. Стоило отпустить закрепленный конец каната,— и планер, выброшенный мощной пружиной, устремлялся с холма к неприятельским позициям. Конечно, в дневное время «люди-орлы» становились легкой добычей вражеских стражников-лучников, поэтому полеты проводились, как и в случае с бумажными змеями, под покровом тьмы.
На море действия ниндзя часто перерастали в обычное пиратство. В периоды мира, когда мятежные феодалы не нуждались в их услугах, разрозненные группы «морских» ниндзя бороздили Внутреннее море на своих маленьких, юрких ладьях, нападая на прибрежные села; грабя купеческие барки и правительственные суда. Эти морские разбойники — фуна кайнин, или фума кайнин, как их называли в честь знаменитого пирата Фума Ко-таро, были почти неуловимы. «Драконьи лодки» пиратов с герметично закрывавшейся палубой при необходимости могли погружаться под воду, приняв на борт балласт. На глубине они приводились в движение педальным устройством. Когда эти «субмарины» приближались к неприятельскому флоту, из люка в днище выбирались пловцы с длинными дыхательными трубками, задачей которых было сверлить и пропиливать дыры в кораблях противника. Через тот же люк загружался и сбрасывался при всплытии балласт. Дыхательная трубка для всего экипажа проходила через приподнятый нос лодки с головой чудовища, но и это отверстие могло закрываться — тогда экипаж довольствовался имеющимся запасом воздуха. Часто «драконьи лодки» плавали при помощи балласта, погруженные в воду, но с высоко поднятой над поверхностью головой монстра, извергавшего огонь и дым. Редкий моряк мог смотреть без содрогания на это морское чудище. Однако хитроумные ниндзя под руководством Хаттори Хандзо во имя закона нашли средство борьбы с пиратами. Построив быстроходные корабли с огромными заостренными колесами по бортам, они настигали и рассекали на части медлительные, неповоротливые «драконьи лодки», а оставшихся в живых разбойников вылавливали и казнили.
Подвиги ниндзя не случайно дали пищу для бесчисленных преданий и легенд; они воспеты также и современным японским кинематографом. Их мастерство, отточенное годами упорного труда, тренировок и жестоких сражении, вероятно, достигало фантастических высот и представлялось сверхъестественным даже видавшим виды самураям. По всей стране гремела слава Симоцугэ Кид-зару, великого прыгуна, Хатисука Тэндзо, умевшего делать подкопы со скоростью и сноровкой крота, Ямада Яэмопа, мастера молниеносных переодеваний, Садзи Горобэя, покорителя бурных стремнин.
С прекращением междоусобиц и упразднением самурайского сословия после «реставрации Мэйдзи» в 1868 г. традиции нин-дзюцу, казалось, окончательно прервались. Горные лагеря ниндзя в основном были ликвидированы еще при Токугава. Потомки отважных разведчиков и безжалостных убийц перешли в города, занялись мирными промыслами. Кое-что из арсенала ниндзя было взято на вооружение военной агентурой и сыскной полицией, кое-что перешло в область дзю-дзюцу и боевого каратэ. Уникальный же комплекс физического, психического, технического и философско-религиозного тренинга, каким являлось средневековое искусство шпионажа, возродился лишь в наши дни уже на коммерческой основе в школе Хацуми Масааки.
Тридцать четвертый патриарх школы ниндзя Тогаку-рэ, мастер высшего класса по восьми видам бу-до, Хацуми Масааки родился в 1931 г. в городке Нода префектуры Тиба. В школьные годы он активно занимался каратэ, дзю-до, боксом и другими военно-прикладными видами спорта, хотя ни в одном на том этапе не добился особо выдающихся успехов. Судьбу Хацуми решила неожиданная встреча. В 1958 г. он познакомился с Такама-цу Хисадзи, последним, тридцать третьим хранителем секретов школы Тогакурэ. Старец согласился принять способного молодого человека в ученики, и Хацуми в течение пятнадцати лет раз в неделю ездил из Токио в древний город Нара, где жил мастер. За неделю он осваивал сложную программу, заданную на дом. После кончины Такамацу, став официальным наследником традиций школы, Хацуми, следуя примеру большинства наставников кэмпо, решил рассекретить свое искусство. Он открыл платную школу ниндзя — вначале только для соотечественников, а затем и для иностранцев.
В 1982 г. с целью укрепления престижа школы Хацуми отправился в гастрольную поездку по США. Его выступления во многих городах Америки проходили триумфально и привели к немедленному «буму ниндзя» в американской массовой культуре. В Японию на обучение к Хацуми хлынул поток желающих из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, из многих стран Западной Европы. Школа Бусин-кан (букв. Дом божества войны) разрослась, у нее появились филиалы. «Мое тело разговаривает на всемирном языке»,— заявляет мастер. А тем временем начиная с 1985 г. экраны всего мира обходит голливудские боевики: «Ниндзя», «Месть ниндзя», «Явление ниндзя», «Миссия ниндзя», «Каратэ-ниндзя», «ниндзя сакура». Итак, традиция живет.
 2015-06-28
2015-06-28 462
462






