В теориях среды нет избытка, как это наблюдается при изучении личности и интеллекта. Однако имеются описания характеристик окружения, которые могут использоваться для диагностики средовых условий. Помимо этого, при анализе среды прибегают к метафоре, сравнивающей среду с тем или иным «климатом».
Крайк /1973/ написал обзорную статью по психологии окружения в Annual Review. Соответственно встал вопрос, как можно оценивать различия между средами. Крайк перечисляет пять подходов.
1. Среда может быть описана с помощью физических и
пространственных характеристик. Можно оценивать, как
и как часто используются области большого пространства
и как их особенности влияют на частоту и типы поведения.
2. Возможна оценка размещения материалов и предметов в определенных местах. Можно, например, перечислить предметы в обеденной комнате, учреждении.
3. Среду можно охарактеризовать через восприятие людьми, пребывающими в этом окружении, через восприятие свойств и особенностей этого окружения. Различные среды могут быть прошкалированы по ряду свойств. К примеру, можно использовать такие шкалы: приятная — неприятная, свободная — ограниченная, для личностного — делового общения, формальная — неформальная, спокойная — возбуждающая, требовательная — тихая, угрожающая — безопасная.
|
|
|
4. Среды могут быть охарактеризованы посредством оцени
вания разного поведения в разной обстановке. Типы и
частота проявления особенностей поведения будут разли
чаться в зависимости от окружения.
5. Среды могут быть охарактеризованы через специфику
особенностей и свойств. Эти элементы оцениваются вы
боркой испытуемых, задача которых — восприятие сре
ды.
Для психодиагностов существенное значение имеют шкалы различных особенностей, свойств, черт, описывающих среду. Определенная среда может быть охарактеризована по тем или иным аспектам, а полученный результат можно оценить по определенному критерию, как это делается в критериально-ориентированном тестировании. Кроме того, различия между средами могут быть оценены и подвергнуты корреляционному анализу по релевантному критерию.
При описании сред часто используется метафора «климат». Селз и Джеймс /1988/ используют эту метафору при описании фирм или организаций. Атмосфера организации определяется как действие физических и социальных переменных /задачи, структуры, технология, напряженность работы, особенности персонала/. «Климат» считается глобальной характеристикой, которая не изменяется длительное время /по сравнению с погодными климатическими условиями/. Климат влияет на продуктивность, сотрудничество, ощущение давления и напряжения служащими, на их отношение к обязательствам перед организацией. В рамках общей атмосферы можно различать «субклиматические» факторы. Эту метафору можно употреблять для описания специфических организаций. Авторы разработали восемь характеристик. Их можно использовать для характеристики определенных организаций и сравнения различных учреждений. Релевантными компонентами являются:
|
|
|
• цели организации: как они заданы /принуждение, свобода принятия/, предполагаемая инициатива в достижении целей организации; шанс добиться успеха в их осуществлении, ценности и цели в ее организации и вне ее; степень профессионализма по сравнению с другими; упор на рост, или на поддержку, или на стабильность;
• система ценностей организации: социальные, этические, политические и экономические ценности организаций отличаются;
• персонал организации: что характеризует служащих, какие качества здесь требуются; каков образовательный, жизненный, познавательный уровень у служащих, каковы установки, статус персонала;
• размеры и структура организации, органы управления /иерархические или нет/, степень автономности;
• технология организации: сложность аппаратуры, качество обслуживания, необходимость знаний, потребность в творческом и теоретическом развитии;
• физическое окружение организации: есть ли постоянное место или с клиентами и аппаратурой приходится работать вне организации; безопасность, близость с другими служащими;
• социокультурный климат организации: принятые между персоналом этические нормы; распределение общественного статуса, формы коммуникации, обычаи и традиции;
• длительность существования организации: сколько времени она существует в такой форме, насколько подвержена изменениям, насколько выполняются принимаемые решения.
Метафора может быть плодотворной. Перечисление составлено по надежным шкалам, которые оценивают эти характеристики и которые могут быть использованы в диагностике.
Моос/1986, 1987/ использовал метафору «климата» для разработки шкал изучения социальной атмосферы таких различных институтов, как семья, школа, университетский городок, военные казармы, тюрьма, больница. Сотрудникам этих учреждений задавалось около ста вопросов относительно разных сторон деятельности этих учреждений. Теоретический и эмпирический анализ вопросов, связанных с различиями социального окружения, дал от семи до десяти параметров. Теоретический анализ некоторых социальных сред выявил три основных параметра:
1. Взаимосвязь /сплоченность, выразительность, конфликтность, обязательства и поддержка со стороны руководства/.
2. Рост по службе /независимость, ориентация на достижения, интеллектуально-культурный климат, автономность, ориентация на решение задачи/.
3. Устойчивость системы /ее изменчивость/: степень организации, контроль, ясность структуры, система обновления, порядок, хаос.
В США разрабатывается много опросников для различных социальных институтов и учреждений. В других странах тоже заинтересованы в методиках для оценивания работы организаций, институтов и маленьких групп, например, семьи.
ТРИНАДЦАТЬ ИТОГОВЫХ ТЕЗИСОВ
1. Представителей теорий личности можно упрекнуть в фундаментальной ошибке, связанной с атрибуцией. Однако остается неясным, будут ли личностные теории лучше, если эту ошибку не допускать.
2. Критика личностных теорий и диагностики личности с позиций здравого смысла справедлива лишь в той мере, в какой они не служат выражением «Gesundes Volksemfinden»*.
3. Статус личностных прилагательных как параметров личности можно выразить посредством трех гипотез: они являются отражением реальных характеристик личности; имплицитных теорий, точнее, стереотипов восприятия; семантического феномена. Каждая гипотеза имеет некоторое эмпирическое обоснование. Обсуждение должно продолжаться, даже если нет ответа и окончательного решения.
|
|
|
4. «Большая пятерка» — не лишенная глубокого смысла система параметров личности — кластеров прилагательных, которые люди применяют по отношению к себе и к другим. Они играют центральную роль в плодотворной дискуссии об отношениях представлений, основанных на обыденном сознании, и теоретических конструктов психологии личности.
5. Идея Терстоуна о «простой структуре» весьма привлекательна при изучении интеллекта и личности, но в то же
* «Gesundes Volksemfinden» (нем.) — здоровое народное чувство (прим. перев.).
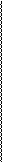 время несколько грубовата. Круговое вращение комбинации факторов дает более тонкий вариант эмпирического
время несколько грубовата. Круговое вращение комбинации факторов дает более тонкий вариант эмпирического
обоснования.
6. Интерпретация профилей личностных черт, использующая различия между чертами и паттерны черт, не достоверна без новых эмпирических исследований.
7. Психоаналитические понятия Ид, Это, невроза и защитных механизмов поддаются диагностике в соответствии с правилами построения тестов.
8. Проективные методики, оставаясь спорными, будут использоваться и в будущем. Некоторых из них ждет судьба идеографических методов, но в гораздо меньшей степени.
9. Вклад теории черт в проблему оценивания личностных характеристик нельзя недооценивать, даже если ее серьезно и справедливо критикуют.
10. Совсем не просто поколебать мнение о том, что суж
дение «среднестатистического» человека или суждение вы
борки людей (т.е. суждения, прошедшие
психометрическую процедуру обработки), относительно
основных параметров и структуры личности берут верх над
теоретическими представлениями о личности. Было бы хо
рошо, если бы были изучены и самые слабые ответы из всего
массива ответов. Это возможно, потому что теория изменя
ется и ее обновление будет зависеть от последующих отве
тов всех нас, т.е. от следующего народного опроса.
|
|
|
11. Количество теоретических и эмпирических исследо
ваний средовых условий не соответствует большим ожида
ниям в отношении возможностей влиять на поведение,
познание или чувства людей путем изменения их среды
/непосредственное воздействие, обучающие развивающие
программы/.
12. Дискуссия о взаимосвязях личности и ситуации стара
и в каком-то смысле наивна.
13. Модель пяти факторов — так называемая «Большая
пятерка» — большое достижение, как бы ни относились к
нему Кеттел, Айзенк и Блок.
Глава 6
Проблема оценки психического развития
Содержание психодиагностики в первую очередь и главным образом связано с измерением индивидуальных различий между людьми в ситуациях определения их максимальных и типичных возможностей. В учебниках по психодиагностике обычно нет разделов, посвященных оценке (измерению) процессов развития. Иногда обсуждается вопрос о психодиагностике и развитии. Например, Уолш и Бетц (1990) посвятили этому вопросу отдельную главу. Они дали изложение теорий Эриксона и Левингер, уделив особое внимание стадиям личностного развития на протяжении всей жизни человека. В этой главе мы делаем следующий шаг — обращаемся к анализу проблем оценки (измерения) развития. Измерение развития иногда считается невозможным, поскольку обычно процедуры измерения применяются по отношению к более или менее стабильно существующим межиндивидуальным различиям, тогда как развитие — это изменение, в данном случае изменение поведения, познавательной деятельности или эмоций.
Обратимся к проблеме предмета изучения психологии развития. Теория и методы изменения индивидуальных различий создавались относительно независимо от экспериментальной психологии. В экспериментальной психологии индивидуальным различиям отводится скромное место: в основном они обсуждаются лишь как источник различных «погрешностей или ошибок» в измерении. Наряду с корреляционной (основанной на методе наблюдения) и экспериментальной областями психологии, которые Кронбах назвал «двумя составляющими научной психологии» (см. 1957,1975), психологию развития также можно признать независимой — «третьей» по счету — составляющей научной психологии. Психология развития имеет свои, иные, чем у первых двух дисциплин, основания и исторические корни. Экспериментальная психология, так же как исследования корреляционного типа, была тесно связана с есте-
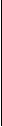 ственнонаучными дисциплинами и, особенно, с физиологией XIX века. В то же время на психологию развития большое влияние оказали работы, посвященные анализу исторических процессов и эволюции общества, и в гораздо меньшей степени, вопреки распространенному мнению,— эволюционное учение Дарвина. Для мышления историков XIX столетия была характерна вера в научный и социальный прогресс. Например, Огюст Конт полагал, что наука рассеет многовековую темноту и мрак заблуждений. Он описал стадии интеллектуальной эволюции человечества (равно как и отдельного индивида). Мысль, что эволюция общества совершается согласно некоему замыслу, ведущему к достижению совершенства, по-видимому, обладает для человеческого ума особой привлекательностью. Что же касается учения Дарвина о биологической эволюции, то в нем не предполагается наличия какого-либо плана или замысла. В основе эволюционного процесса лежит действие случайных факторов. Даже если ход эволюции производит впечатление закономерно происходящего процесса, он, тем не менее, является следствием «изменчивости» и «избирательного выживания». Некоторые из представителей биологического вида оказываются лучше приспособленными для выживания и воспроизводства в определенных условиях, чем другие.
ственнонаучными дисциплинами и, особенно, с физиологией XIX века. В то же время на психологию развития большое влияние оказали работы, посвященные анализу исторических процессов и эволюции общества, и в гораздо меньшей степени, вопреки распространенному мнению,— эволюционное учение Дарвина. Для мышления историков XIX столетия была характерна вера в научный и социальный прогресс. Например, Огюст Конт полагал, что наука рассеет многовековую темноту и мрак заблуждений. Он описал стадии интеллектуальной эволюции человечества (равно как и отдельного индивида). Мысль, что эволюция общества совершается согласно некоему замыслу, ведущему к достижению совершенства, по-видимому, обладает для человеческого ума особой привлекательностью. Что же касается учения Дарвина о биологической эволюции, то в нем не предполагается наличия какого-либо плана или замысла. В основе эволюционного процесса лежит действие случайных факторов. Даже если ход эволюции производит впечатление закономерно происходящего процесса, он, тем не менее, является следствием «изменчивости» и «избирательного выживания». Некоторые из представителей биологического вида оказываются лучше приспособленными для выживания и воспроизводства в определенных условиях, чем другие.
Но первые работы в области психологии развития были вдохновлены вовсе не механизмами «слепой» эволюции из учения Дарвина. Они были связаны с идеями додарвинов-ского периода — с представлениями об историческом прогрессе и социальной эволюции. В одной из работ Ричардса (Richards, 1987, 1992) даже доказывается, что самого Дарвина по складу его мышления необходимо отнести к представителям эпохи додарвиновского периода, поскольку он разделял веру в развитие как прогресс, направленный к некоей цели, а не считал его слепым и случайным процессом. Сказанное не значит, однако, что Дарвин не оказал никакого влияния на психологию развития. Так, например, его тщательные наблюдения за представителями различных биологических видов дали толчок для написания первых работ в области психологии развития, которые, как известно, были описанием наблюдений за развитием детей.
Идея развития как формы прогресса не исчезла. Совсем недавно Таппан (Таррап, 1992) писал, что трудно избавиться от впечатления, что развитие направлено в сторону чего-то лучшего, более совершенного. Даже Эйнштейн крайне неохотно признавал роль чистой случайности, о чем свидетельствует его знаменитое высказывание: «Господь Бог не играет в кости».
Можно с уверенностью утверждать, что психология развития имеет иные идейные источники и корни, чем экспериментальная психология или область корреляционных исследований. На ее формирование повлияли учения об эволюции общества и человеческой истории конца XIX века, практический интерес к развитию детей и философские работы, посвященные основам человеческого познания. В результате на таком основании появилась весьма разнородная по внутреннему содержанию дисциплина. В ее рамках изучаются рост и развитие детей, эпистемологические проблемы развития познания (Пиаже), описываются и объясняются изменения в поведении человека на протяжении всех периодов его жизни, а кроме того, на эту дисциплину смотрят в надежде установить причины нарушений психического развития у детей и найти способы их лечения.
Как самостоятельная научная дисциплина психология развития должна предложить теоретические концепции, гипотезы и методы, пригодные для исследования, описания и объяснения поведения, которое претерпевает изменения на протяжении всей жизни человека. Первоначально метод психологии развития сводился к наблюдению и фиксации «всех» форм поведения ребенка или ребенка «в целом», как это можно хорошо видеть на примере первых дневников, описывающих развитие детей. Позднее психология развития стала рассматриваться как часть психологии в целом. Ее отличие от других отраслей психологии заключалось только в том, что те же эксперименты и корреляционные исследования, которые проводились на взрослых, были перенесены на детей. А крометого, в ней всегда присутствовал интерес к вопросам педагогики и обучения. Труды Пиаже занимают здесь несколько особое место. В течение долгого времени исследования Пиаже были мало известны в странах Европы и в США. Можно сказать, что работы Пиаже стали популярными только после опубликования посвя-
8 Я. тер Лаак
| 8* |
щенной им знаменитой монографии Флейвелла (1963) и, следовательно, после того, как они стали известны в США. Так или иначе, но утвердившийся взгляд на психологию развития как на часть экспериментальной и корреляционной психологии фактически предопределил направление ее исследований. По этому поводу в своем обзоре из ежегодника «Annual Review» Мастере (1981) заметил, что психологию развития невозможно отделить от других психологических дисциплин. Простое добавление в ее названии слова «развитие» не устраняет искусственного характера попытки придать ей самостоятельный статус.
Представители психологии развития не могут не возражать против такой точки зрения. Помимо особой истории возникновения, психология развития отличается также тем, что имеет особый предмет изучения. Конечно, речь идет не о каком-либо особом «материальном» объекте, а об особом аспекте исследований. Данная дисциплина не сводится к строго определенным сторонам поведения. Дело также не в какой-либо особой популяции, например детях, как это показывают исследования, охватывающие все периоды человеческой жизни (life-span psychology) (Baltes, Reese, Lipsitt, 1980). Предметом психологии развития является ход процесса развития. Это предполагает особый способ выявления и описания происходящих на протяжении человеческой жизни изменений в поведении, познавательной деятельности, эмоциональной сфере, личности и т.д. Часто обсуждается вопрос о том, какого рода изменения можно отнести к категории развития. Определенного решения этого вопроса нет, а оперировать каким-либо предварительным решением, на наш взгляд, нет необходимости и даже было бы вредно.
Для прояснения значения понятия развития Ван Геерт (1995) предложил исследовать семантику этого и близких понятий. Он провел сравнительный анализ понятий развития и обучения (учения — learning) и в результате своего «кабинетного» анализа пришел к следующим выводам. Во-первых, под обучением (учением) обычно понимается некоторое «психологическое приобретение» человека, т.е. в этом термине присутствует оттенок некоторого «продвижения». Развитие же, напротив, скорее указывает на процесс трансформации, преобразования.
Во-вторых, обучение подразумевает активность того, кто учится, т.е. в определенном смысле учащийся сам осуществляет свое учение. Что же касается понятия развития, то оно, напротив, скорее указывает на то, где оно совершается: чаще всего подразумевается, что «внутри» человека.
В-третьих, как для учения, так и для развития необходима соответствующая мотивация. При этом учение в большей степени связано с внешними источниками, тогда как развитие заставляет думать, что в нем присутствуют внутренние движущие силы. И обучение, и развитие нуждаются в поддержке, подкреплении и опыте. Другими словами, без контакта со средой нет ни обучения, ни развития.
Автор утверждает, что такой признак, как наличие постепенного или резкого по характеру изменения, не является адекватным основанием для разграничения процессов развития и обучения. В этом он отходит от классического взгляда на познавательное развитие (Flavell, Miller, Miller, 1993, p.333). Флейвелл и его соавторы именно резкий характер изменения рассматривают в качестве показателя процесса развития. При этом для разграничения развития и обучения не важно, предполагается ли наличие некоей «конечной точки» («цели», «предназначения» более высокого уровня) или нет. В рамках такого определения, по Ван Геерту, логистические (т.е. основанные на формальных системах) модели роста можно применить и к понятию развития, и к понятию обучения.
В излагаемой работе Ван Геерта присутствует взгляд на психологию развития, как на такую дисциплину, которая не может претендовать на изучение какой-либо особой области человеческого поведения или познания. Однако попытки такого рода предпринимались, и их было так много, что перечислить полностью невозможно. Уолш и Бетц (1990, р. 382) пришли к следующим выводам: «Можно полагать, что человеческое развитрте — это такой процесс, который включает в себя изменения в области физических и умственных способностей, изменения когнитивной структуры и поведения, социальных ролей, взаимоотношений и изменения еще множества других сторон. Практически любое человеческое свойство или качество, претерпевающее изменения с течением времени и по мере приобретения опыта, можно считать аспектом человеческого развития.
Изменения, отражающие процесс развития человека, происходят на протяжении всей человеческой жизни и, по-видимому, зависят от физического созревания и средовых влияний, или взаимодействия человека со средой. Мы думаем, что процесс человеческого развития, т.е. изменения в когнитивной структуре, физических способностях, личности и поведении необходимо включить в сферу измеряемых величин. Симптомы задержки, ускорения или осложнения хода развития имеют весьма серьезные последствия для психической жизни индивида, также как для его благополучия».
В этой главе мы охарактеризуем психологию развития с точки зрения ее предмета. Таким предметом является изменение, которое в рамках теории получает ту или иную интерпретацию. Измерение развития — это не что иное, как измерение (оценка) изменения. Но здесь необходимы теоретические уточнения. Теоретические концепции, затрагивающие понятия развития и изменения, имеются в избытке. Подобный избыток не очень радует, но так или иначе теоретические основы все равно совершенно необходимы для более или менее точного определения и описания типа и характера изменений. Четко сформулированные гипотезы открывают возможность для проверки положений теории развития.
О трех уровнях анализа.
Как мы писали в главе 1, в психодиагностике существует три разных уровня анализа. Первый уровень — житейские представления непрофессионалов, они исследованы достаточно подробно. Особенно тщательно изучены представления, характерные для учителей и родителей, поскольку они непосредственно заинтересованы в успешном развитии детей. Исследовалось также, каким образом на поведение учителей и родителей влияет их понимание процесса психического развития (Miller, 1989). Помимо уровня обыденных представлений о развитии, существует и второй уровень — уровень понятий и таксономических теорий. Существует множество теорий развития в детском возрасте и за его пределами. В этих теориях фигурируют такие важнейшие понятия, как понятия стадии, механизмов смены стадий развития (transition mechanisms) и последователь-
ности изменений. В отношении отдельных феноменов из области психологии развития реализован также третий уровень анализа, т.е. математическое моделирование этих феноменов развития. Моделирование затрагивает главным образом процессы когнитивного развития и переход с одной стадии развития на следующую.
О четырех компонентах.
В главе 1 мы показали, что психодиагностику можно представить в виде системы из четырех основных составляющих (компонентов). Первая составляющая — это классические и современные теории тестирования. В отношениях между классической теорией тестов и психологией развития, по-видимому, имеется зона напряженности. Это связано с тем, что одна из предпосылок, лежащих в основе классической теории тестов, касается стабильности характеристик поведения и познавательной сферы, т.е. предполагается их неизменность во времени (аргументы в пользу такой точки зрения даны в работе Уиттмана,1988). Современная теория тестов допускает возможность изменения характеристик и позволяет моделировать такое изменение. Если ответ в задании обусловливается определенным свойством (измеряемым параметром) человека и определенным параметром задания, то тогда возможно шкалирование изменений по данным параметрам.
Вторая составляющая — это теории развития. Как уже говорилось, существует большое число различных теорий развития. В основном они относятся к двум парадигмам — так называемой «органической» и «механической» (механистической), что объясняется, с одной стороны, тем, что в XIX веке психология развития ориентировалась на идеи социальной эволюции, а с другой стороны — связями с экспериментальной психологией и исследованиями корреляционного типа. На основе органической и механической парадигм строятся разные теории и методы исследования (Reese, Overton, 1970). В других областях психологии (в экспериментальной или общей психологии, в клинической или социальной) расхождение между теориями и методами разного типа выражено не столь ярко, как в психологии развития.
Третья составляющая включает тесты и процедуры измерения основных конструктов. Для маленьких детей раз-
работаны так называемые «тесты развития». Однако в основе их нет никакой теории развития. Имеются также отдельные инструменты, созданные с учетом процесса развития.
Последняя составляющая — это сам диагностический процесс. Для конкретного диагностического процесса небезразлично, как понимается развитие. В задачи диагностики входит формулирование гипотез (верных или иллюзорных) относительно изменений и развития поведения, с которым связаны трудности клиента. В этой составляющей диагностического процесса, однако, центральным моментом является соединение разнородной информации. Таким образом, эта составляющая затрагивает преимущественно вопросы формы, а не содержания. Определение прогноза — главная задача практической диагностики. Решение этой задачи на основе существующих моделей носит весьма ограниченный характер, поскольку в психодиагностике преобладают модели линейного прогнозирования (хорошо известные модели линейной регрессии). Вследствие этого теории развития довольно редко используются для составления прогноза. Кроме того, имеется практический опыт, основанный на «теориях», описывающих особенности хода развития в условиях нарушений и разного рода трудностей в поведении.
6.1. Область житейских представлений о развитии
Психология развития — не единственная отрасль науки, чья задача состоит в объяснении и тщательном описании процесса развития. Самые разные науки — история, биология, астрономия, химия и многие другие — содержат модели, описывающие процессы изменения и развития. Весьма вероятно, что представители психологии развития могли бы многое почерпнуть из этих наук относительно возможностей описани$[ развития и его механизмов. Можно лишь сожалеть о том, что дискуссии между представителями названных дисциплин бывают крайне редко.
Существует несколько способов анализа житейских представлений о развитии. Ван Геерт (1987) провел, если можно так выразиться, «кабинетный» анализ этимологии
слова «de-velop» (в значении «un-fold» — развиваться, развертываться). В качестве метафоры он воспользовался процессом свертывания (развертывания) листа бумаги. При свертывании лист принимает определенное число конфигураций (треугольник, квадрат и т.д.), причем последовательность этих конфигураций не может быть произвольной, она зависит от того как свернут лист. В результате такого складывания можно получить разные конфигурации, причем конечное состояние листа нельзя предвидеть с самого начала. Эпистемологический анализ такого рода может помочь лучше понять специфику процесса развития. Кроме того, не только житейский, но и научный язык можно проанализировать с точки зрения семантической близости или, напротив, различия употребляемых слов и выражений, например, таких слов, как эволюция, изменение, приобретение, обучение и развертывание.
Другой путь анализа житейских представлений о развитии связан с попытками выяснить, что люди обычно понимают под развитием. Мы приведем примеры такого рода исследований.
О метафорах, применяемых к процессу развития.
Прекрасной иллюстрацией обыденных представлений о развитии являются метафоры. Развитие нередко сравнивают с рекой, в которой «все течет, все изменяется» и ничто не остается постоянным. В то же время развитие можно сравнить с цветением растения или с прилетом и отлетом перелетных птиц. Можно также найти сравнения и в сфере, созданной человеком. В пьесах и других литературных произведениях мы сталкиваемся с «развитием событий», например в русле трагедии, комедии, сатиры или в жанре романа. Помимо этих классических жанров, принадлежащих «большой литературе», существуют и детективы, и сказки. Несмотря на то, что приведенные метафоры могут показаться весьма наивными, не так давно они приобрели определенную весомость в описательных моделях (моделях повествования — narrative models), предназначенных для описания и объяснения сферы человеческих представлений и характеристик самих людей. Третья возможность — сравнение развития со спортом и азартными играми, например, гонками.
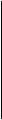 Для сравнения самого хода процесса развития мы располагаем меньшим числом метафор. Как протекает процесс развития? Идет ли он постепенно? Можно ли утверждать, что развитию свойственны резкие скачки? Предсказуем ли ход развития или нет? Возможно ли изменение, если направление развития уже выбрано? Существуют ли критические периоды? (см. Ross, 1989; Cruts, 1991;" Peck, 1995).
Для сравнения самого хода процесса развития мы располагаем меньшим числом метафор. Как протекает процесс развития? Идет ли он постепенно? Можно ли утверждать, что развитию свойственны резкие скачки? Предсказуем ли ход развития или нет? Возможно ли изменение, если направление развития уже выбрано? Существуют ли критические периоды? (см. Ross, 1989; Cruts, 1991;" Peck, 1995).
Исследование житейских представлений о развитии.
Проведено немало работ, посвященных эмпирическому анализу обыденных представлений о развитии. Исследователи составили таблицы возрастного «расписания» нормального хода развития. В одной из работ оценка развития познавательных способностей, даваемая матерями, регулярно сопоставлялась с объективными результатами, получаемыми при тестировании. Оказалось, что матери, как правило, переоценивали уровень развития своих детей (Miller, 1988).
Можно также идти и таким путем: предложить участникам исследования высказать свое мнение о том, какие стадии в развитии ребенка они могут выделить и сколько таких стадий имеет место вообще; в каких областях поведения прослеживаются признаки этих стадий; какие изменения при этом имеют место. Например, Крате (1992) задавал эти вопросы двум матерям. Одна из них с легкостью выделила восемь стадий, другая — даже пятнадцать. В качестве таких стадий фигурировали, например, период младенчества, второй год жизни ребенка, когда он учится ходить, годы дошкольного и начального школьного обучения, период полового созревания, юность, годы молодости, взрослость, старость и даже «жизнь после смерти». Кроме того, в общем репертуаре поведения они выделили в качестве основных такие области, как развитие телесных реакций, эмоции, социальную сферу, духовную жизнь и юмор. Участницы эксперимента попытались также охарактеризовать происходящие изменения. Обе они думали, что период пубертата является стадией наиболее революционных изменений. Это исследование показывает, что в сфере обыденного сознания находят свое отражение как стадии психического развития в онтогенезе, так и отдельные их характеристики, в том числе последовательность их изменения в ходе человеческой жизни.
О сферах и областях развития.
Участники исследований, которые будут затронуты в данном параграфе, находят совсем не трудным выделить основные стороны или области развития. Но для представителей психологии развития эта задача нелегкая. Вулвилл (Wohlwill,1973) настоятельно призывает к эмпирическому разделению факторов, действующих в процессе развития совместно. В исследованиях интеллекта нет определенного мнения относительно числа и видов факторов интеллекта. То же самое можно сказать и относительно многих теорий развития личности. Вполне возможно, что успех пятифак-торной модели объясняется тем, что эти пять факторов были приняты в качестве временного, или рабочего, варианта решения.
Подобно тому, как в области исследования интеллекта имеются существенно разные подходы (позиция Спирмена, утверждавшего, что существует один фактор общего интеллекта — g, и противоположная ей позиция Терстоуна, предполагавшего наличие нескольких различных факторов, или первичных умственных способностей), в психологии развития обсуждается проблема общего (единого) или частного (парциального) хода развития в онтогенезе. Пиаже можно рассматривать как представителя такой позиции, согласно которой развитие — это процесс развития одной структуры, имеющей весьма общий характер. Между тем в последнее время появилось немало исследователей, утверждающих, что развитие в каждой области происходит специфически. К примеру, Уеллман и Джелман (1992) считают сегодня широко признанным, что в разных областях развитие протекает согласно своим специфическим закономерностям.
Сфера поведения понимается порой очень по-разному. Так, Фодор (1973) определил ее как область модулярных способностей, подобных специфически человеческой способности к усвоению языка. Иная точка зрения присутствует в исследованиях, посвященных анализу процессов переработки информации, в частности, при разграничении визуальных и вербальных процессов. Имеются также попытки выделения различных областей развития на основе существующих в обыденном сознании разграничений между явлениями социального или натурального ряда. Уеллман
и Джелман (1992) ссылаются в качестве примера на житейское различение биологических, натуральных и психологических явлений. Так, если брошенный камень летит сквозь воздух, то даже очень маленький ребенок попытается объяснить это явление с позиций механики. Но если тот же ребенок увидит быстро бегущего человека, то он попытается найти «психологическое» объяснение такого поведения. Может быть, человек испугался собаки или он просто любит бегать? Но в случае объяснения роста растения ребенок не станет прибегать ни к механическим, ни к психологическим причинам. Что же касается отвлеченных сфер, то даже взрослому, не говоря о ребенке, требуются значительное время и усилия, чтобы понять таинственный смысл таких фраз, как, например: «Для розы не стоит вопрос "зачем", она цветет, потому что цветет».
Об умственном эксперименте,
В исследованиях личности масса усилий направлена на определение некоего «общего радикала» прилагательных, используемых для передачи личностных характеристик. Это направление известно как исследования на основе пя-тифакторной модели, или модели «Большой пятерки»(см. главу 5). Считается, что эти пять параметров дают достаточно полную картину тех прилагательных, с помощью которых человек описывает себя и других. Это направление исследований, основанных на методе факторного анализа (иногда его называют психометрическим подходом, см., например, работу Хофсти), вероятно, может быть применено и к анализу развития (mutatis mutandis*). В репрезентативной выборке можно получить совокупность представлений относительно стадий развития, его основных параметров (или областей, сфер) и видов изменений. С помощью усложненной методики профильного анализа для этого необходимо выделить «большие» стадии, «большие» параметры (области, сферы) и «большие» изменения (сопровождающие процесс развития). В этой связи было бы интересно обсудить, может ли полученная таким образом новая трехчленная структура — стадии х сферы х изменения — конкурировать с тем избытком теорий развития, ко-
Mutatis mutandis (лат.) — с соответствующими изменениями (прим. пе-рев.).
торый имеется на сегодняшний день. Можно ли считать эту структуру действительно новой теорией или же порождение теорий остается сферой ограниченного числа экспертов — специалистов в психологии развития?
Житейские представления о психологии развития и
социальный конструктивизм.
Представители социального конструктивизма рассматривают «ребенка» как исторический и культурный феномен. Сегодня на ребенка больше не смотрят (в духе Пиаже) как на юного героя, который с помощью своих собственных структур совершает ассимиляцию и аккомодацию окружающего его непослушного и упрямого мира. Развитие скорее рассматривается как интервенция культуры, как процесс социальной конструкции. Так, Герден, Глогер-Типпельт и Берковиц (1990) исследовали, как представляют себе развитие женщины из Америки и Германии. Оказалось, что участницы эксперимента опирались либо на механическую, либо на органическую «теорию» развития. Причем первая теория не предполагала разделения меняющегося поведения на стадии, поскольку в соответствии с механической теорией особенности поведения, способностей и черты личности зависят от тренировки, обучения, а не от времени, возраста и уровня развития. Органическая «теория», напротив, связана с систематическим «упорядочиванием» личностных особенностей и способностей во времени. В ней также признается прогрессивный характер развития, связанный с переходом на более высокие стадии и уровни (стр.112).
Участниц исследования спрашивали, что они думают о развитии 27 личностных характеристик. Эти 27 характеристик были разбиты на три кластера: наклонности или тенденции в эмоциональной сфере (чувствует боль, привязанность, страх, грусть); тенденции в социальной сфере (хочет помочь, ощущает гордость, испытывает сочув-ствие, стремится быть понятым другими) и когнитивные (рефлексивные) тенденции (мыслит логически, предварительно планирует, способен к абстрактному мышлению). Участницы исследования из обеих стран считали, что в период между 0 и 50 месяцами развитие имеет закономерный характер. Например, в течение первого месяца жизни
ребенок приобретает опыт, связанный с ощущением боли. Сочувствие и гордость ребенок начинает испытывать примерно на втором году жизни, а планировать свое поведение он начинает в возрасте около трех лет. Сходство мнений, высказанных женщинами из разных стран, основывалось, конечно, не на результатах объективного оценивания поведенческих характеристик детей. Такой основой послужила общность культур и ожиданий. Однако имелись и некоторые различия. Американские женщины считали, что у мальчиков вышеназванные тенденции в социальной и в познавательной сферах проявляются несколько раньше, чем у девочек. Участницы опроса из Германии придерживались противоположного мнения (стр.117).
Они также усматривали некоторую связь между тем, чему ребенок обучался, и последовательностью его развития. На первом году жизни «обучение» было направлено на эмоции ребенка (успокоение, проявления любви и заботы); как они полагали, в конце второго года основной акцент перемещался на сферу социального взаимодействия (игры, в том числе совместные, высказывание похвалы, но также и запретов и требований); затем в центр внимания попадала познавательная сфера (объяснение причин и обстоятельств, решение проблемных ситуаций, стимуляция воображения детей). В соответствии со своей социо-конструктивистской точкой зрения, авторы поспешили сообщить, что в среднем возраст начала той или иной из вышеупомянутых форм обучающего воздействия на ребенка предшествовал возрасту реального появления соответствующих видов поведения ребенка. В теории социального конструктивизма предпочтение отдается идеям «самоосуществления» (стр. 120). Среди матерей преобладали взгляды в духе органической парадигмы. По всей вероятности, этот результат отчасти является следствием того, как ставились вопросы. Весьма вероятно также, что матери руководствуются в своем обращении с детьми взглядами в духе механистической парадигмы или бихевиораль-ной концепции, например, когда прививают определенные привычки и навыки.
В работе Росса (Ross, 1989) исследовалась сфера так называемых «неформальных» или неявно подразумеваемых представлений людей о стабильности или изменении форм
поведения на протяжении жизни. Его интересовало, какого рода изменения предполагают люди. Для этого 100 студентам было предложено показать с помощью диаграмм, как на протяжении жизни менялось (если менялось) поведение самих участников опроса, их «лучшего друга», а также некоего «среднестатистического студента». Автор исследования отобрал 83 характеристики или качества, личностных черты (способности к творчеству, музыкальный талант, наличие устойчивых представлений или отношений [отношение к группам социальных меньшинств, религиозность, отношение к добрачным половым связям и т.д. ]). Студенты должны были отразить в диаграмме возрастной диапазон от 5 до 85 лет. Среди полученных диаграмм автор выделил 9 основных вариантов ответа. В 74% случаев диаграммы содержали один из следующих вариантов:
1. Стабильное течение жизни: возраст 5 лет и 85 лет связывает прямая линия (21,9%).
2. «Криволинейное» течение U-образного вида (13,6%).
3. Вариант, обратный U-образной кривой (20,6%).
4. Быстрые изменения в течение первых лет, за которыми наступает стабильное состояние (18,1%).
В представлениях студентов присутствовала некоторая доля согласия. Так, они примерно одинаково представляли себе характер изменений, происходящих в течение жизни. Автор не ограничился голословным упоминанием этого момента и попытался показать, как такого рода представления влияют на поведение, в частности, на то, как запоминаются и хранятся в памяти человека события его прошлого. Например, те, кто убежден, что определенная характеристика стабильна и практически не меняется на протяжении жизни, обычно игнорируют фактические изменения, имеющие место в реальности. С другой стороны, у тех, кто склонен признавать наличие значительных изменений в поведении, в познавательной или эмоциональной сфере, имеется тенденция переоценивать степень различий между соответствующими сторонами поведения в настоящее время и в прошлом. Таким образом, некоторые внутренне подразумеваемые представления о характере изменений и развитии в течение жизни оказывают влияние по крайней мере на отдельные особенности памяти.
Индивидуальные различия во взглядах студентов на возможность изменения особенностей поведения, познавательной сферы, эмоций и чувств на протяжении жизни стали предметом исследования в работе Пека (Peck, 1995). Оказалось, что применительно к разным сферам возможность изменений признавалась в разной степени. На взгляды студентов влияло то, какие изменения воспринимались человеком как реально возможные. Сфера ценностей и целевых установок рассматривалась как достаточно изменчивая (как же тогда обстоит дело с тем расхожим мнением, что цели и ценности выполняют роль устойчивых «маяков» на пути в будущее?). Относительно неизменными на протяжении жизни представлялись студентам личностные черты, мотивы и эмоции.
В суждениях, высказанных студентами относительно возможности изменений в течение жизни, обнаружились определенные различия. Исходя из этого, Пек счел оправданным разделить их на две группы. В одну группу вошли те, кто предполагает наличие изменений, а в другую — те, кто считает, что преобладает стабильность. Представители первой группы считают, что изменения происходят в результате собственных, личных усилий, тогда как представителям второй группы больше свойственно думать, что изменения вызывают внешние причины. Предложенный студентам этих двух групп опросник выявил существенные различия в их ориентации на внешний или внутренний контроль и в степени подверженности «логике желания».
Подведем некоторые итоги. Как показано в данном разделе, применительно к понятию развития предложено немало различных метафор. Развитие как теоретическая категория может быть проанализировано с точки зрения его семантики. Реализация идеи семантического анализа несколько продвигает нас, например, в попытке разграничить характерные свойства развития и обучения, с одной стороны, и найти черты их сходства, с другой. Кроме того, существуют различные представления относительно развития и изменений, связанных с развитием человека на протяжении его жизни. Пока эти представления еще недостаточно эмпирически исследованы и структурированы. Между пя-тифакторной моделью в области исследований личностных черт с ее так называемой «большой пятеркой факторов» и
«большими стадиями», областями и паттернами (последовательностью процессов) развития можно провести аналогию. Сторонники социального конструктивизма считают, что особенности представлений о развитии в онтогенезе оказывают влияние на характер общения и взаимодействия с детьми, а также, например, на отдельные стороны памяти человека.
6.2. О связи психодиагностики с теориями развития
Существует множество теорий развития. Часть из них ограничивается детским возрастом, другая часть охватывает всю жизнь человека (см. Sugerman, 1986). Здесь мы имеем такую же ситуацию, как в области теоретического осмысления природы человека или личностных различий. Во-первых, мы хотели бы подчеркнуть то важное обстоятельство, что теории развития заимствуют свои представления о механизмах изменений (происходящих в процессе развития) из того, что известно о развитии организма, а также из законов созданной человечеством культуры. Во-вторых, мы анализируем некоторые центральные понятия из области теорий развития и ставим вопрос, могут ли они найти свое применение в области психодиагностики. В— третьих, обсуждаются некоторые методические инструменты оценки «развития» и, наконец, мы приводим два примера математического моделирования феноменов, принадлежащих области развития.
6.2.1. Теории развития: между индивидом и средой, между механизмами естественными и искусственными
И в психологии развития, и в области психологии личности ставится один сходный вопрос. В психологии личности периодически возникают споры относительно устойчивости или изменчивости поведения индивидов в различных ситуациях (см., например, Pervin, 1976). Если бы поведение людей можно было достаточно надежно предсказывать, опираясь только на то, какое положение они занимают на шкалах личностных черт, то тогда теории, описывающие личностные черты, были бы практически неуязвимы для критики. Однако Мишель (Mischel, 1968) ука-
зал на одно слабое место теории личностных черт. Между проявлениями личностных черт в разных ситуациях были найдены лишь весьма низкие корреляции, и фактор ситуационной изменчивости оказывал сильное влияние на проявление личностных черт. Аналогичным образом для психологии развития было бы весьма заманчиво, чтобы для описания и объяснения процесса развития были открыты некие универсальные структуры или инвариантные номо-логические принципы. Такого рода объяснение могло бы принять, например, следующий вид. Имеется некая форма поведения В, объяснение которой состоит в том, что она зависит от предшествующего ему события Е и детерминируется законом, утверждающим что за событиями типа Е всегда следуют формы поведения В. Такое рассуждение ведет к длинным объяснительным цепочкам каузально-генетического типа (Brandstadter, 1990).
Обращение к течению жизни у разных людей, к тому, как они описывают свои жизненные судьбы, лишь усиливает ту точку зрения, согласно которой поиск универсальных принципов — занятие бесплодное. И дело здесь не только в относительной случайности, так сказать, «прихотливости» житейских представлений. Система, которую представляет такого рода объяснительная цепочка, должна быть системой замкнутого типа. Однако человек рассматривается как система открытого типа. Поведение человека зависит не только от того, каким оно было в предшествующие моменты времени, но оно также весьма чувствительно к информации и побуждениям, исходящим из внешних по отношению к индивиду источников. Биография любого человека может поразить своей прихотливостью, многосторонностью, изменчивостью.
Первый вариант решения этой сложной проблемы, где закономерной связи противопоставляется простое совпадение, искали на пути расширения сферы каузального анализа за счет введения понятия замкнутой системы. Такое решение весьма зримо представлено в высказываниях следующего рода: «На сегодняшний день мы можем объяснить Х% вариаций (значительную их часть), но в будущем мы в конечном счете сможем объяснить все 100 % (в результате устранения ошибок измерения). Если бы у нас было больше
знаний в области биологии, неврологии, физиологии и генетики, то тогда осуществление идеи 100-процентного объяснения вариаций оказалось бы в нашей власти». Необходимо признать, что приращение собственно психологического знания нередко мало что добавляет в объяснение большей части наблюдаемых расхождений. Хотя, конечно, не все представители психологии развития согласны с таким утверждением. Например, Риис (1993), размышляя о будущем психологии развития, открыто высказал точку зрения, согласно которой попытки объяснить развитие биологическими и нейрофизиологическими причинами окажутся бесплодными. В 1959 — 1990 годах в этой области ожидался мощный прорыв, но он не состоялся. Риис высказывает уверенность в том, что психология развития должна гораздо более детально вникнуть в сферу сложнейшего переплетения социальных и культурных влияний на разные виды поведения на протяжении всей жизни человека.
Второе решение связано с поиском подсистем — относительно замкнутых или принимаемых в качестве таковых. Их можно исследовать в специально «очищенных» лабораторных условиях. На время проведения лабораторного эксперимента влияние внешних условий может быть на время вынесено за скобки. Что же касается исторических и социо-экономических факторов, то они выпадают из рассмотрения. Первый вариант решения нацелен на широту охвата, а второй — на точность и глубину. В обоих вариантах решения преобладает подход с позиций причинно-следственной детерминации.
В психологии развития ведется поиск структурных и инвариантных принципов, лежащих в основе объясняемых типов поведения. В этом русле исследований среда, как источник межиндивидуальных различий, не принимается во внимание. Хорошим примером здесь может служить поиск когнитивных структур в исследованиях Ж.Пиаже. Но, с другой стороны, развитие представляет собой одновременно и «личный»продукт, и результат влияний культуры. Феномены развития управляются не только нейрофизиологическими, или биологическими, законами, они также подчиняются и законам, созданным человечест-
вом (см., например, Tommasello, Kruger, Ratner,1993). Как считают Хейманс и Бругман (1992), развитие осуществляется «в форме связи (биологического) индивида и социокультурного окружения». Как научная дисциплина психология развития располагается между науками о природе и предметах искусственного происхождения точно так же, как психология личности «лежит» между индивидом и средой (Brandstadter, 1990). Оба источника, однако, задают структуру, мысль же о том, что среда только вносит непредсказуемость и возможность случайных совпадений, здесь отвергается. В научном плане и с эвристической точки зрения такая мысль контрпродуктивна. Развитие рассматривается как процесс, в значительной своей части связанный со случайными совпадениями. Эта позиция допускает существование некоторых законов развития, но далеко не универсальных. Такие законы формулируются применительно к соответствующим обстоятельствам. Примером может служить следующее утверждение: «С возрастом функции памяти ослабевают, но нет никакой причины для того, чтобы априорно считать этот процесс универсальным и неизменным. Процессу ослабления памяти можно противодействовать как с помощью определенных влияний на организм (например, через лекарственные препараты), так и на самого индивида (например, через тренировку)». Именно такая точка зрения проводится в данной книге. Доведенный до своего логического предела социальный, культурный и исторический контекстуализм становится контрпродуктивным, впрочем, точно так же, как и узкий биолого-неврологический детерминизм.
В классических теориях развития, названных Вулвил-лом (1973) «теориями строгого типа», основное значение придается процессу образования определенных структур. Этот процесс носит закономерный характер и совершается под влиянием как внутренних движущих сил, так и их взаимодействия с социо-культурным окружением. Примерами служат теория когнитивного развития, созданная Пиаже, и теория социо-морального развития, разработанная Колбергом. Вслед за теорией Фрейда появилось несколько теорий развития «нестрогого типа». Стадии, описанные Эриксоном, не столь «герметичны, непроницаемы», как
стадии в классических теориях развития, и они также связаны с биологическими и социальными процессами развития. Стадии развития по Эриксону и основные вехи развития Эго по Левингер дают нам примеры теорий «нестрого типа». Последние же отчасти включают в себя представления о социо-культурной среде.
Помимо теорий развития строгого и нестрогого типа, имеется теория, в которой центральное значение придается социо-культурной среде (Л.С.Выготский). Психодиагностическое приложение данной теории пока не разработано. Под влиянием теории Выготского возникли так называемые «тесты обучаемости». Одна из методик в «тестах на обучаемость» направлена на оценку того, как какой-либо конкретный элемент социо-культурного окружения (например, взрослый, который идет на шаг впереди ребенка) влияет на результаты в тестах интеллекта (см. Hamers, Sijtsma, Ruijssenaars,1992).
Подведем некоторые итоги. Как показано в этом разделе, имеется множество различных теорий развития. Их можно разделить на три группы: строгие теории, нестрогие и со-цио-культурные. Поскольку развитие совершается как процесс связи биологического организма с окружающей его средой, теории развития должны признать, что развитием управляют законы как природного, так и «искусственного» происхождения. Каждый из них делает свой вклад в развитие, причем в ходе развития они взаимодействуют. В следующем разделе книги мы проанализируем следствия, вытекающие для диагностики определенных сторон развития из приведенной выше позиции. Анализ затрагивает некоторые конструкты из теорий развития строгого и нестрогого типа и одну скромную попытку диагностического плана, опирающуюся на теорию социо-культурного развития.
6.2.2. Оценка развития в теориях строгого типа: стадиальный и структурный аспекты В теориях строгого типа, например в теориях Пиаже или Колберга, выделяются инвариантные стадии. Это значит, что ребенок не может вернуться на более раннюю стадию, и каждая последующая стадия отличается большей степенью общности и большей устойчивостью к разного рода
вмешательствам со стороны среды, чем предшествующая. Во-первых, с позиции диагностики важно, чтобы были разработаны методы, средства и критерии для оценки того, находится ли индивид на определенной стадии развития или нет. Во-вторых, необходимы процедуры, позволяющие зафиксировать (измерить) процесс перехода с одной стадии развития на следующую. Наконец, для диагноста желательно наличие теста, пригодного для проверки предполагаемой последовательности стадий развития (Boom, 1992). Далеко не на все из этих вполне законных вопросов имеются сегодня ответы. Психологические конструкты строгих теорий развития трудны для диагностики. Чтобы определить, на какой стадии находится развивающийся ребенок (или взрослый), диагносту требуются стандартизованные тесты, способы оценивания ответов и соответствующие критерии. Все это сегодня имеется далеко не в полной мере.
Понятие стадии развития и ее определение.
Понятие онтогенетической стадии развития подразумевает, что разрозненные формы поведения каким-то образом объединяются. Найти фактическое подтверждение этой идее нелегко. В этой ситуации психологу-исследователю потребовались бы высокие корреляции между формами поведениями, относящимися к одной и той же стадии. Таких корреляций практически никогда не находят. Даже Пиаже признал, что имеет место феномен «горизонтального дека-ляжа». Те формы поведения, которые мы находим на определенной стадии, возникают не одновременно. Такого рода данные свидетельствуют не в пользу понятия стадий, поскольку последнее предполагает наличие общей структуры, лежащей в основании внешне весьма различных форм (когнитивного) поведения. Это старая проблема — проблема общего и частного в развитии. На каком основании можно утверждать, что события, разделенные во времени и пространстве, имеют, тем не менее, общую сущность?
Как утверждается в большинстве работ, Пиаже предлагает структурное решение этой проблемы. Структуралисты убеждены, что в основе феноменологического разнообразия когнитивных форм поведения лежит единая структура или один и тот же тип организации. Эта структура самодоста-
t
точна, а образующие эту структуру элементы и отношения понятны сами по себе. Структуралистская позиция такого рода нередко считается неплодотворной для описания и объяснения поведения, поскольку структура применима только к элементам, находящимся внутри системы. Этот тип моделей обнаруживает своего рода «сопротивление» попыткам «стыковки» их с действительным, эмпирическим миром. Более того, структуралистское представление страдает ограниченностью, делая структурный подход неисторичным и чуждым динамике.
Все эти рассуждения, однако, не относятся к теории Пиаже. Он придерживался позиции динамического структурализма, поскольку в его концепции структуры могут изменяться, развиваться (Piaget, 1979). Один из наиболее известных примеров структур, способных к изменению с помощью трансформационных правил, дает нам теория синтаксиса, созданная Хомским (1979). Простое утвердительное предложение может быть трансформировано в форму отрицательного или вопросительного предложения. Пиаже, кроме того, высказывал свое несогласие с представителями строгого структурализма относительно характера необходимого эмпирического подтверждения существования структур. Так, например, он заимствовал понятие структур из логики и искал признаки функционирования такого рода структур у детей. В качестве диагностической процедуры он использовал «клинический метод». В этом сказалось влияние на него фрейдистской диагностики и психиатрии. Этот метод стал предметом критики за недостаточную объективность в способе оценки результатов и возможность внушения нужного ответа испытуемому.
Помимо структурного подхода и варианта решения Пиаже, имеются также и другие пути объяснения внутреннего единства различных форм поведения. Так, эмпирическая психология отдает предпочтение эмпирико-каузальному варианту решения. Примером тому может служить упомянутое выше требование наличия высоких корреляций. В соответствии с этим подходом формы поведения могут быть признаны тождественными в том случае, если их порождает общий фактор. Классическое понятие «фактора» в методе факторного анализа обозначает именно такой общий фак-
тор. Это эмпирический способ и, как было неоднократно показано, этот способ не ведет к успеху, по крайней мере в случае стадий Пиаже и Колберга. К этому необходимо добавить, что сам Пиаже от такого метода отказался. Он отвергал корреляционный метод и метод факторного анализа' и, кстати, по этой причине отказался участвовать в переводе шкалы Бине-Симона для использования в Швейцарии. Он сомневался в том, что можно понять, как функционирует интеллект, опираясь на оценку ответов детей в тесте как правильных или неправильных.
В психологии встречается и третий вариант решения. Он также предполагает, что в основе наблюдаемого многообразия лежит ограниченное число общих форм. За внешним многообразием нужно видеть наличие компактного «ядра». Такая точка зрения развивается в русле герменевтического подхода (т.е. в связи с разработкой способов толкования многозначных содержаний). С ним связана твердая убежденность в том, что несмотря на то, что, рассказывая о себе, люди выражают себя очень по-разному, все виды их переживаний в конечном счете базируются на ограниченном числе оснований. Конечно, попытка реализовать герменевтический подход ставит проблему нахождения, определения этого ограниченного числа оснований и установления соответствующих критериев. Колби и Колберг (1987), действуя в духе герменевтического подхода, попытались сформулировать критерии для оценки того, на какой стадии морального развития находится субъект. Ими создана исключительно тщательно разработанная и детальная система, которая может служить прекрасным примером герменевтического подхода. Пиаже, по-видимому, не был сторонником такого подхода. Его больше привлекала строгость и ясность логических моделей, поскольку, с его точки зрения, начало всякого познания лежит в биологии, а его вершиной является логика.
Итак, перед нами три попытки решения проблемы, три пути создания единства многообразного, а следовательно, три способа отнесения разных форм поведения к одной стадии. Что получает эмпирическая психология развития в результате этих решений?
С позиций строгого структурализма стадии трактуются как определенные структуры, т.е. как ряд элементов, свя-
занных между собой определенными отношениями и в то же время редко имеющих отношение к внешним эмпирическим явлениям. На этом основывается хорошо известный тезис о том, что если реальность не соответствует структурам, то тем хуже для реальности — виновата она, а не структуры. Другими словами, эмпирическое исследование не является необходимым. Эти логические и математические структуры лишены конкретного содержания и для них предпочтительнее оставаться незаполненными, так сказать реализовывать их эмпирически необязательно. Такой структурализм должен предложить психологии свои модели. А затем психологи, ведущие эмпирические исследования, проверят эти модели с помощью фактических данных о поведении.
Эмпирико-каузальный вариант решения предполагает в качестве предварительной предпосылки наличие некоего общего фактора, причины или условия различных форм поведения. В соответствии с данным подходом, эмпирические исследования редко дают свидетельства в пользу наличия стадий. В этом подходе стадии не относят к числу причинных факторов, а плодотворность понятия стадий считают нулевой (Brainerd,1978).
Герменевтический подход не относится к числу общепризнанных и широко применяемых: отчасти по причине субъективности выделяемых в нем единиц, а возможно, и по причине времени, затрачиваемого на предварительную тренировку экспертов, задача которых состоит в установлении тождественных элементов смысловой стороны различных форм поведения.
Психолог-эмпирик, который обычно пользуется понятием стадий как диагностическим инструментом, будет склонен принять эмпирико-каузальный подход, однако, эта концепция мало что может предложить.
Таким образом, существующие научные подходы к понятию стадий, по-видимому, не помогают диагностам вычленить средства и методические процедуры, которые бы позволяли определить, на какой стадии развития находится данный индивид. Из такого положения дел, однако, не следует, что практический психолог не пользуется понятием стадий. С целью определения того, находится ли ребенок на дооперациональной стадии развития или на стадии конк-
ретных операций, было проведено множество исследований аналитического и эмпирического типа. При этом использовались разнообразные задачи на сохранение и критерии этого понятия, например, наличие правильного ответа, правильное объяснение и сопротивление ребенка контраргументам. Как и следовало ожидать, ведется множество дискуссий и споров относительно наиболее адекватных критериев, а также корректной и полной операционализации понятия сохранения. В связи с тем, что аргументы в пользу какой-либо определенной операционализации теорией жестко не заданы, необходимо установить критерии по соглашению. Та же проблема имеет место и в системе, разработанной Колби и Колбергом (1987). Эти примеры показывают, что даже сам способ определения стадии, на которой находится индивид, отчасти связан с некоторыми соглашениями и общим признанием тех или иных аргументов.
Стабильность стадий и процесс их смены: теоретический и диагностический аспекты. В теориях стадиального развития предполагается процесс перехода с одной стадии на другую, следующую. Естественно, что при этом предполагается, что в течение некоторого времени субъект пребывает на той или иной стадии, иначе было бы вообще бессмысленно говорить о существовании стадий. От чего же зависит стабильность стадии? Как и предшествующая проблема, она затрагивает очень старый вопрос. Это вопрос об устойчивом и переменном, о стабильном и меняющемся в развитии. Например, Гераклит говорил: все течет, все изменяется, а Парменид, напротив, задолго до Шекспира полагал, что существует только два состояния — бытие или небытие, а между этими двумя состояниями нет никакого промежуточного движения.
Анализируя проблему стабильного и меняющегося, в качестве первого решения можно было бы предположить, что стабильность ск
 2015-07-14
2015-07-14 577
577








