Ощущение внутреннего «нелада», смутная тоска о лучшей доли России постоянно толкали государственную власть, охваченную «демоном» державное™ и порывом политической воли, к реформаторству, замешанному на насилии и утопии. Реформаторский «безудерж», отсутствие чувства меры и формы преобразований губили самые разумные начинания. Опыт реформ в России и других странах свидетельствует о том, что для успешного их проведения требуется соблюдение по крайней мере двух условий.
Во-первых, реформы должны соответствовать социокультурному пространству, в котором они осуществляются, т. е. быть санкционированы ментальностыо различных социальных групп и культурными архетипами индивидов.
| С>7 |
Раздел 1. Введение в изучение истории
 Если инновации не воспринимаются как необходимое и конструктивное, не вызывают положительных эмоций, а, напротив, провоцируют массовое дискомфортное состояние, то это может вызвать всплеск социальной агрессивности у определенной части населения, стремление возвратиться к привычному порядку вещей или, наоборот, все «разрушить до основания, а затем...».
Если инновации не воспринимаются как необходимое и конструктивное, не вызывают положительных эмоций, а, напротив, провоцируют массовое дискомфортное состояние, то это может вызвать всплеск социальной агрессивности у определенной части населения, стремление возвратиться к привычному порядку вещей или, наоборот, все «разрушить до основания, а затем...».
|
|
|
Во-вторых, реформы могут успешно проводиться государственной властью, которая в состоянии согласовать ценностные ориентации различных групп населения по поводу целей и средств преобразований и не допустить перерастания социокультурных противоречий раскола в необратимый процесс социально-политической дезорганизации. Эти два условия проведения реформ тесно связаны между собой, поскольку речь идет прежде всего о ценностном обосновании социальных инноваций и реформаторской деятельности самой государственной власти.
А. В. Лубскип
1.9. Возможен ли «глобальный синтез» формационного и цивнлизационного подходов в изучении истории?
 Проблема синтеза формационного и цившшзационно-го подходов стала одним из краеугольных камней современных дискуссий. Современные противники марксизма переключилась на цивилизациопную методологию, заявляя о ее полной несовместимости с формационной. Так, отечественные историки Ю. Яковец, И. Ионов, Л. Семеннико-ва прямо или косвенно настаивают на отказе от категории формации. Отрицая марксизм и принимая понятие цивилизации, они в остальном достаточно сильно расходятся. ЦишшизащгонноЙ методологии не существует как целостности — она плюралистична и чрезвычайно размыта, в этом и ее привлекательность, и слабость по сравнению с монистической марксистской системой представлений об обще-
Проблема синтеза формационного и цившшзационно-го подходов стала одним из краеугольных камней современных дискуссий. Современные противники марксизма переключилась на цивилизациопную методологию, заявляя о ее полной несовместимости с формационной. Так, отечественные историки Ю. Яковец, И. Ионов, Л. Семеннико-ва прямо или косвенно настаивают на отказе от категории формации. Отрицая марксизм и принимая понятие цивилизации, они в остальном достаточно сильно расходятся. ЦишшизащгонноЙ методологии не существует как целостности — она плюралистична и чрезвычайно размыта, в этом и ее привлекательность, и слабость по сравнению с монистической марксистской системой представлений об обще-
История России >< вопросах и ответах
Раздел 1. Введение в изучение истории


 стве Отталкиваясь от чеканных марксовых формул, ряд индных историков социалистической ориентации пропагандируют формационную методологию, как включающую в себя и, соответственно, подчиняющую себе цнвшшзаци- онные и иные подходы. Но, как известно, односторонность не ведет к истине.
стве Отталкиваясь от чеканных марксовых формул, ряд индных историков социалистической ориентации пропагандируют формационную методологию, как включающую в себя и, соответственно, подчиняющую себе цнвшшзаци- онные и иные подходы. Но, как известно, односторонность не ведет к истине.
|
|
|
Достоинство цившшзационного подхода — это изучение в единстве материальной и духовной культуры каждого общества. С такой точки зрения любая общность, несмотря на какие-то изменения, сохранит определенное цивщш- зационное ядро, заключающее в себе преемственность и ке-прерывиость развития данной общности, пока она существует. Цивилизационный подход отвергает возможность поиска формулы прогресса, подчеркивая самоценность и самодостаточность каждой цивилизации, однако он плохо объясняет причины гибели тех или иных цивилизаций, скачкообразных переходов в развитии даже внутри данных обществ. Формационный подход предлагает способ познания механизма сменяемости этапов в жизни человеческого общества в форме борьбы классов, революций и других социальных конфликтов, вызванных противоречием между производительными силами и производственными отношениями, он признает закономерность и неизбежность смены одних формаций другими. Сторонники цивилизационного подхода соглашаются с существованием ряда этапов-формаций — рабовладельческого, феодального и капиталистического, дискуссия идет в основном о правомерности выделения коммунистической формации
Другим принципиальным различием является отношение к роли личности в истории. Для формационного подхода характерна модель сведения индивидуального к социальному и исследование общественных структур в их субординации в системе общества. Циаилизапионный подход ориентируется на исследование человека и мира человека. Если марксизм при изучении становления капитализма акцентирует внимание на роли собственности, мануфактуры, разделения труда, то «цивилизионщики» рассматривают возрождение идей античного антропологизма и цикличности просвещения, гуманизма, гражданского общества.
В то же время недопустимо считать, что марксизм вообще отрицает антропологическую парадигму. Марксизм сформулировал представления о том, что в цивилизацион-
ном плане развитие формаций можно представить как смену трех ступеней развития: личная зависимость, характерная для античности и феодализма; личная независимость, основанная на вещной зависимости, проявляющаяся при капитализме, и наконец, универсальное развитие человека как свободной индивидуальности при коммунизме. Это соотносится с выводом Маркса о переходе из царства необходимости в царство свободы, завершающем предысторию человечества как глобальной цивилизации.
Для теоретиков марксизма является несомненным, что противоречие между формационным и цивилизационным подходами отражает не что иное как диалектику революционного и эволюционного развития. Действительно, циви-лизационный подход рассматривает общество в статике, а формационный — в динамике. Маркс в своей работе «Критика политической экономии» писал, что *в общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный способы производства можно обозначить как прогрессизные эпохи экономической общественной формации». И хотя рабство было не везде, а капитализм сильно видоизменился, можно сказать, что основная идея Маркса о прогрессивной смене эпох по восходящей линии остается непоколебимой. Маркс не втискивал развитие человечества в пятичленную схему, ибо то или иное общество может миновать какую-то формацию, как, например, рабство или азиатский способ производства. Локальные цивилизации в своем развитии полностью вписываются в глобальную концепцию формационного развития, занимая на формационных «ступенях» определенные фиксированные места.
|
|
|
Например в истории России известны факты особого пути исторического развития, отличающиеся от классического западноевропейского опыта. На Руси не было рабства или развитых рабовладельческих порядков, хотя холопство реально существовало. Это объяснялось тесной, связью с великим южным феодальным соседом — Византией, принятием христианства, соответствующего более прогрессивному укладу и, наконец, особенностями географо-природ-ного фактора.
Возникновение государства в Киевской Руси связано не с обострением классовых отношений или необходимостью ведения общих хозяйственных дел, а в первую очередь с борьбой против внешнего врага — кочевых орд степняков.
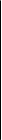 Переход к феодальным отношениям характеризовался длительным сохранением крестьянской общины, которая сформировала особый социально-экономический уклад, имевший колоссальный цивилизационный потенциал.
Переход к феодальным отношениям характеризовался длительным сохранением крестьянской общины, которая сформировала особый социально-экономический уклад, имевший колоссальный цивилизационный потенциал.
В дальнейшем этот коллективистский уклад стал основой для формирования устоев российской цивилизации, органично тормозившей капиталистическое развитие. Маркс писал народникам, что Россия может миновать классические пути развития капитализма английского типа и поэтому общинную собственность на землю не следует превращать в частную собственность.
Стойкость общинных коллективистских архетипов обусловила уникальные пути развития российской цивилизации в XX в., в том числе период функционирования кратковременной советской коммунистической субцивкли-зации. Об особом предназначении России писали Н. Бердяев, П. Сорокин, А. Тойнби. Если человечество ждет перспектива становления всемирной цивилизации как ассоциированного коллективного сообщества, то исторический опыт России-СССР окажет бесценную услугу. В Любом случае цивилизационный подход позволяет по-новому взглянуть на недавнее советское прошлое России. Нет Сомнения в том, что по своему развитию, характеру общественных отношений, культурному архетипу советское об-Щество представляло собой особый тип если не цивилизации, то кратковременной субцивилизации, достигшей своего пика развития в 1980-е «застойные» годы,
|
|
|
Цивилизационный подход не является панацеей в исследовании истории. Отдельные историки считают, что, анализируя цивилизации в статике, он может в известной мере имплицировать застой общества, его неспособность избавиться от устаревших форм общественного бытия. Для ци-вилизационного подхода характерны категории «жизнеустройство», «образ жизни», «менталитет», которые позволяют выявить отличия обществ друг от друга, охарактеризовать среду обитания, познать особую историю саморазвития локального общества вне глобальной истории человечества, его перспектив.
Поскольку все названные процессы реально сосуществуют в истории, то и подходы, их изучающие, взаимно дополняют друг друга. В каждом обществе существуют формаци-онные и цивилизационные компоненты, которые
Раздел 1. Введение в изучение истории
 нуждаются в специальном изучении, односторонняя абсолютизация любого подхода, следовательно, не может раскрывать многообразного спектра общественных отношений, в последнем случае историческая действительность сводится либо к классовым, либо к тотально-цивилизаци-онным- схемам. Классик цивилизационного подхода А. Тойнби прямо писал, что в западной исторической науке наблюдается односторонняя тенденция «рассматривать историю всех обществ и всех эпох под углом зрения демократии и индустриализма, подобный подход в познании истории представляется нам ложным, причем касается это не только исследователей других эпох и циеилизаций3 но и истории нашего общества на ранних этапах, когда современные западные версии индивидуализма и демократии еще не были выработаны». Представляется, что мысль Тойнби можно отнести к любому модному методологичес-кому принципу, под который те или иные историки подгоняют факты, имея заранее сформулированные концепции. Тойнби насчитывал более двадцати цивилизаций и обращал внимание, что новых локальных цивилизаций ждать не приходится, поскольку этот период всемирной истории пройден. Следовательно, цивилизационный подход на современном этапе может быть использован в основном для изучения прошлого, без особых претензий прогностического плана. Цивилизационный подход не хуже и не лучше формациопного, так же как всякая цивилизация является формой исторического развития.
нуждаются в специальном изучении, односторонняя абсолютизация любого подхода, следовательно, не может раскрывать многообразного спектра общественных отношений, в последнем случае историческая действительность сводится либо к классовым, либо к тотально-цивилизаци-онным- схемам. Классик цивилизационного подхода А. Тойнби прямо писал, что в западной исторической науке наблюдается односторонняя тенденция «рассматривать историю всех обществ и всех эпох под углом зрения демократии и индустриализма, подобный подход в познании истории представляется нам ложным, причем касается это не только исследователей других эпох и циеилизаций3 но и истории нашего общества на ранних этапах, когда современные западные версии индивидуализма и демократии еще не были выработаны». Представляется, что мысль Тойнби можно отнести к любому модному методологичес-кому принципу, под который те или иные историки подгоняют факты, имея заранее сформулированные концепции. Тойнби насчитывал более двадцати цивилизаций и обращал внимание, что новых локальных цивилизаций ждать не приходится, поскольку этот период всемирной истории пройден. Следовательно, цивилизационный подход на современном этапе может быть использован в основном для изучения прошлого, без особых претензий прогностического плана. Цивилизационный подход не хуже и не лучше формациопного, так же как всякая цивилизация является формой исторического развития.
Каждый исследователь вправе применять любой метод для изучения истории, но он должен отдать себе отчет в его относительности и не претендовать на очередную абсолютную истину. Можно критиковать марксизм или его советский догматизированный вариант, но при этом важно помнить, что он до начала постиндустриального этапа развития человечества в основном адекватно оценивал исторический процесс. «Закату Европы» Шпенглера советский формационный подход противопоставил революционно-оптимистическую перспективу построения нового общества социальной справедливости и воспитания нового человека. Западная цивилизация соотнесла себя с советской субцивилизацией и скорректировала принципы социальных взаимоотношений. СССР в эпоху научно-технического прогресса должен был соответственно скорректировать свое
развитие с учетом опыта Запада, однако советские марксисты этого не смогли ни понять, ни сделать. Страна раззиза-лась по меркам индустриальной эпохи и это завело ее в исторический тупик. Перестройка закончилась в конце 90-х гг. настоящей управленческой катастрофой, распадом властных структур союзного государства, начался разрыв с целым историческим этапом развития общества — советской эпохой. Возникла возможность соединения недостатков государственного капитализма с «пороками социализма*. Но этот негативный синтез объективно не может стать выбором российской цивилизации. Возможна и необходима иная альтернатива глобального синтеза, совмещения рациональных элементов трех идеологий: социалистической, национально-патриотической и либерально-демократической. Эти идеи господствуют в обществе и за ними идут значительные массы людей. Только синтез этих ориентации в ■ одну национальную российскую идею может предотвратить традиционные для России глобальные социальные конфликты и войны. Разумеется, какая-то концепция должна лечь в основу, а другие дополнить ее, но сделать это возможно на основе общенациональной дискуссии всех творческих сил, без разделения на партии и движения. Эта идея не может быть чисто социально-классовой, ибо это спровоцирует новую гражданскую воЙ1гу. Она не может ни в коем случае отрицать революционную историю и выбрасывать из нее каких-либо неугодных властям деятелей. Такая идея не может быть чисто русской — ибо Россия представляет собой колоссальный суперэтнос с сотнями различных народов. Но, будучи национальной и надсоциальной, она обязательно должна быть патриотической — нести в себе русскую основу и идеалы интернационализма (при безусловном учете духовных и культурных традиций других народов), вознаграждения по труду и социальной справедливости, традиционного коллективизма и реализации прав личности, особой роли государства и местного соборного самоуправления, а также учет православной духовности России. Все это конкретизирует в российских условиях классические требования свободы и демократии, гражданского общества и правового государства.
На современном этапе настойчиво внедряется в массовое сознание идея вхождения России в мировую цивилизацию. Во-первых, российская локальная цивилизация все-
| (1:1 |
Раздел 1. Введение в изучение истории
 I да была составной частью мировой, во-вторых, говорить об общемировой цивилизации пока рано, хотя имеются признаки формирования ее в отдаленном будущем. Настоящий период, по авторитетному мнению С. Хатингтона, определяется борьбой-сосуществованием нескольких крупных ци-вилизационных блоков, основанных на культурно-религиозных мировоззренческих ценностях, к ним, несомненно, относятся западная цивилизация, российская евразийская самобытная цивилизация, исламский мир, еосточный мир и др. Соперничество и противостояние этих цивилизаций будет определять лицо человечества в ближайший период.
I да была составной частью мировой, во-вторых, говорить об общемировой цивилизации пока рано, хотя имеются признаки формирования ее в отдаленном будущем. Настоящий период, по авторитетному мнению С. Хатингтона, определяется борьбой-сосуществованием нескольких крупных ци-вилизационных блоков, основанных на культурно-религиозных мировоззренческих ценностях, к ним, несомненно, относятся западная цивилизация, российская евразийская самобытная цивилизация, исламский мир, еосточный мир и др. Соперничество и противостояние этих цивилизаций будет определять лицо человечества в ближайший период.
С. А. Кислицын
1.10. Что такое историческое сознание?
 В современной отечественной литературе под историческим сознанием довольно часто подразумевают «свод накопленных наукой знаний и стихийно возникающих представлений, всевозможных символов, обычаев и других явлений духовной сферы, в которых общество воспроизводит, осознает, т. е. запоминает свое прошлое». При таком подходе историческое сознание, во-первых, отождествляется с исторической памятью. Во-вторых, историческое сознание рассматривается только как надындивидуальная реальность, т. е. в данном определении элиминирован личностный аспект. Историческая память, отражая прошлое, является составной частью исторического сознания, в котором представления об обществе интегрируются в единстве его прошлого, настоящего И будущего. Историческое сознание наряду с культурными архетипами является «связующей* времен и поколений. Историческое сознание может быть как массовым (групповым), так и индивидуальным. Массовое историческое сознание представляет собой способ рационального воспроизведения и оценивания социумом движения общества во времени. Индивидуальное историческое сознание является результатом, с одной стороны, приобщения к знанию о прошлом, а с другой, — осмысления прошлого и генерации чувства сопричастности с
В современной отечественной литературе под историческим сознанием довольно часто подразумевают «свод накопленных наукой знаний и стихийно возникающих представлений, всевозможных символов, обычаев и других явлений духовной сферы, в которых общество воспроизводит, осознает, т. е. запоминает свое прошлое». При таком подходе историческое сознание, во-первых, отождествляется с исторической памятью. Во-вторых, историческое сознание рассматривается только как надындивидуальная реальность, т. е. в данном определении элиминирован личностный аспект. Историческая память, отражая прошлое, является составной частью исторического сознания, в котором представления об обществе интегрируются в единстве его прошлого, настоящего И будущего. Историческое сознание наряду с культурными архетипами является «связующей* времен и поколений. Историческое сознание может быть как массовым (групповым), так и индивидуальным. Массовое историческое сознание представляет собой способ рационального воспроизведения и оценивания социумом движения общества во времени. Индивидуальное историческое сознание является результатом, с одной стороны, приобщения к знанию о прошлом, а с другой, — осмысления прошлого и генерации чувства сопричастности с
ним- Поэтому индивидуальное историческое сознание выступает также формой осмысленно-преображенного прошлого как «сознание» и «событие».
Поскольку историческое сознание — это осмысление, то можно выделить два его вида: целерациональное и ценностно-рациональное. В первом виде сознания доминирует ориентация на конкретный исторический результат, на осмысление хода исторических событий, их причин и следствий. Целерациональное историческое сознание не только всегда конкретно, оно и теоретично. Ценностно-рацио-нальное сознание, наоборот, ориентируется не на конкретный результат, а прямо на стоящую за ним ценность. Такое сознание в большей степени эгачно, чем теоретично. В нем доминируют не вопросы — почему, с какой целью, а — каков смысл, кто виноват. Поскольку групповые цели на уровне личности выступают как ценностно-рациональные, то для ценностно-рационального индивидуального исторического сознания характерна значительная степень конформизма по отношению к массовому историческому сознанию. Поэтому ценностно-рациональное сознание в значительной степени подвержено воздействию извне, оно более податливо для трансформации и манипуляции. Человек с таким сознанием способен легко менять свои взгляды в пользу других, не испытывая при этом особых неудобств и сомнений.
Если исходить из способа осмысления и особенностей фиксации представлений о движении общества во времени, то историческое сознание может принимать форму мифа, хроники или науки. Отличительной чертой мифического сознания выступает синкретизм исторических представлений. В них мышление сливается с эффективностью. В мифическом сознании одновременно присутствуют два пласта исторического времени — сакральное и текущее. В сакральном времени происходят события, предполагающие «знание-веру». В таком знании, например, часто присутствует «легенда о золотом веке» (в прошлом или будущем) как идеале человеческого существования. Исторический миф — это эмоционально окрашенное представление об исторической действительности, вымышленный образ, замещающий в сознании эту действительность. Исторические мифы создаются коллективным воображением или навязываются массовому историческому сознанию извне, форми-
Раздел 1. Введение в изучение истории
 руя при этом определенное историческое мироощущение, социально конформное в данных условиях и призванное формировать желаемые образцы социального поведения. Входя в структуру культурных архетипов, мифы активизируют историческое сознание в периоды разочарований и краха иллюзий, алармизма и фрустрации. Современная публицистика дает немало примеров активизации мифологизированного сознания: разочаровавшись в советской истории, ищут нравственное утешение и вдохновение в историческом прошлом России.
руя при этом определенное историческое мироощущение, социально конформное в данных условиях и призванное формировать желаемые образцы социального поведения. Входя в структуру культурных архетипов, мифы активизируют историческое сознание в периоды разочарований и краха иллюзий, алармизма и фрустрации. Современная публицистика дает немало примеров активизации мифологизированного сознания: разочаровавшись в советской истории, ищут нравственное утешение и вдохновение в историческом прошлом России.
В отличие от мифического хронистическое сознание в значительной мере ориентировано на фиксацию реальных событий прошлого. Однако в таком сознании отсутствует представление о причинно-следственных связях в истории. Эти связи в хронистическом сознании замещаются изложением исторических событий в хронологической последовательности, скрепленной провиденциалистскими идеями и моральными сентенциями. Отсюда истолкование истории сквозь призму божественного Провидения, дихотомию добра и зла, Бога и дьявола, добродетелей и пороков, замыслов и происков. Как и мифическое, хронистическое сознание формирует, подобно мифическому, историческую реальность, соответствующую идеалу своего времени. Прошлое изображалось не таким, каким оно было, а таким, каким оно должно было бы быть.
Развитие потребности общества в самосознании, в глубоком понимании логики исторического процесса привело к становлению истории как науки о прошлом, что оказало огромное влияние на усиление рефлексивного начала в историческом сознании. Оно обращается прежде всего к реальным фактам истории, «земным» корням тех ила иных событий и процессов, стремясь осмыслить причингю-след-ственные связи и выяснить сущность исторических явлений. Достижением научного сознания стал историзм, требующий рассматривать исторические явления в развитии, в связях с другими историческими событиями, с учетом конкретных условий определенного этапа общественного развития. Научное историческое сознание имеет специализированный характер, его источником и носителем является научный этнос. Поэтому в массовом историческом сознании его научная компонента причудливо переплетается с художественным вымыслом и историческими мифами.
3. Эак 430
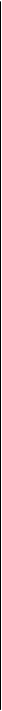 Кроме того, если научное сознание ориентировано на поиск истины, то массовое сознание занято прежде всего поиском исторической «правды» как результата эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Кроме того, если научное сознание ориентировано на поиск истины, то массовое сознание занято прежде всего поиском исторической «правды» как результата эмоционально-ценностного отношения к действительности.
В историческом сознании, присущем той или иной социокультурной среде, можно выявить также доминантные и временные его формы. Так, например, к доминантным формам можно отнести монументальное или антикварное, этатистское или либеральное, имперское или провинциальное историческое сознание. К временным формам — критическое или апологетическое, толерантное или ригорист-ское. Различные социальные группы в обществе обладают капиталом разного рода, в том числе и символическим, т. е. располагают возможностями по внедрению и культивированию устойчивых принципов восприятия исторической реальности, конформных их собственным структурам, трансформируя внутренний мир людей, в том числе и их историческое сознание. При этом изменяются, как правило, не доминантные, а временные его формы, способные к осуществлению полной инверсии: стать, например, из апологетического критическим, а затем в модифицированном виде — вновь апологетическим. Трансформация исторического сознания происходит обычно в условиях кризиса общественной системы, при смене политических режимов, при резком изменении курса общественного разоития, когда в ситуации «переоценки социально значимых цеп-костей» начинается «переписывание истории»-
В, В. Гаташов, А, В. Лубский
| 1.11. |
Какую роль играет историческое сознание в жизни народа?
Массовое историческое сознание является структурой нормативно-ценностного пространства, задающего определенный способ существования общества, индивидуальное историческое сознание — составляющей духовной интенции жизнедеятельности человека. Историческое сознание, определяя пространственно-временную ориентацию общества, содействует его самопознанию. Общество в целом заинтересовано в формировании непротиворечивого взгля-
Раздел 1. Введение в изучение истории
 да "на свое прошлое и связь его с настоящим и будущим. Целостное историческое сознание выступает в качестве одного из факторов социальной стабильности, выполняя функцию интеграции, консолидации различных поколений, социальных групп и индивидов на основе осознания общности своей исторической судьбы. Эта функция исторического сознания предопределяет его связь с господствующей в данном обществе идеологией. Нормативное историческое знание, отражающее «общепринятую», или официальную, точку зрения на прошлое, санкционируется, как правило, государственной пропагандой и выступает поэтому составной частью господствующей в данном обществе идеологии. В сфере нормативного исторического знания формируются представления об оптимальных, с точки зрения господствующей идеологии, формах разрешения социальных противоречий, нормах поведения. Каждая эпоха стремится найти в прошлом своих героев, чьи деяния соответствуют ее духу и ценностям. Например, героизированное историческое сознание советской эпохи освящало революцию как высшую форму исторического прогресса, рассматривало «насилие как повивальную бабку истории». Историческими героями эпохи социализма стали великие бунтари и пламенные революционеры, В настоящее время в историческом сознании все более актуализируется интерес к созидающим деяниям прошлого, к людям, чья дея- тедьность была направлена на укрепление государства Российского и была пронизана пафосом созидания, а не разрушения.
да "на свое прошлое и связь его с настоящим и будущим. Целостное историческое сознание выступает в качестве одного из факторов социальной стабильности, выполняя функцию интеграции, консолидации различных поколений, социальных групп и индивидов на основе осознания общности своей исторической судьбы. Эта функция исторического сознания предопределяет его связь с господствующей в данном обществе идеологией. Нормативное историческое знание, отражающее «общепринятую», или официальную, точку зрения на прошлое, санкционируется, как правило, государственной пропагандой и выступает поэтому составной частью господствующей в данном обществе идеологии. В сфере нормативного исторического знания формируются представления об оптимальных, с точки зрения господствующей идеологии, формах разрешения социальных противоречий, нормах поведения. Каждая эпоха стремится найти в прошлом своих героев, чьи деяния соответствуют ее духу и ценностям. Например, героизированное историческое сознание советской эпохи освящало революцию как высшую форму исторического прогресса, рассматривало «насилие как повивальную бабку истории». Историческими героями эпохи социализма стали великие бунтари и пламенные революционеры, В настоящее время в историческом сознании все более актуализируется интерес к созидающим деяниям прошлого, к людям, чья дея- тедьность была направлена на укрепление государства Российского и была пронизана пафосом созидания, а не разрушения.
Роль исторического сознания как одного из регулятивов социального поведения особенно возрастает в переломные моменты общественного развития. Оказавшиеся в кризисной ситуации люди обращаются к своему прошлому, стремясь постичь смысл происходящих событий. Сложившиеся формы исторического сознания испытывают в такие эпохи мощное давление ЮБне, поскольку идеологи инноваций усматривают в сложившихся представлениях о прошлом, его связи с настоящим духовную основу консерватизма, препятствующего преобразованиям. Кризис официальной идеологии и связанной с ней системы нормативного исторического знания сопровождается мучительной ломкой исторического сознания, попадающего в ситуацию когнитивного раскола. Сторонники преобразований стремятся 3-
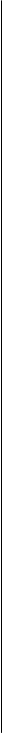 |
разрушить сложившиеся стереотипы массового исторического сознания, консерваторы — сосредоточить свои усилия на защите сложившихся взглядов. 8 такие времена массовое историческое сознание не утруждает себя поиском истины. В нем доминируют страсти и аффекты, ригоризм и популизм. Ситуация раскола типична как для массового, так и для элитарного исторического сознания в России. Так, в середине XIX в., когда в самосознании российского общества пробудился огромный интерес к прошлому, возникла ситуация раскола, отразившаяся в духовном противоборстве западников и славянофилов. Первые, в стремлении осмыслить логику исторического процесса в России, обращались к опыту Европы. Обнаруженные несоответствия между исторической эволюцией России и европейских стран рождали негативное отношение к отечественной истории. Это нашло крайнее выражение в пессимистическом суждении П. Я. Чаадаева: «Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет». Славянофилы, в отличие от западников, высоко ценили своеобразие российской истории, самобытность исторического пути России. Другая ситуация раскола возникла после революции 1917 г. Идеология большевиков формировала негативное отношение к дореволюционным историческим эпохам, разрывала или упрощала связь между прошлым и настоящим. Абсолютизация классового подхода привела к забвению той части прошлого, которая не вписывалась в марксистские догмы или считалась исторически несущественной. Так возникла проблема «белых пятен» в истории нашего Отечества, породившая недоверие массового исторического сознания к официальной истории, ее выводам. Сложные, противоречивые процессы характеризуют развитие исторического сознания в наше время: научно взвешенные подходы соседствуют с историческим дилетантизмом, эмоциональной экспрессивностью и нигилизмом. В расколотом историческом сознании угадываются контуры «расколотого» общества в России. В таких условиях особая рель отводится исторической науке, которая должна преодолеть раскол массового исторического сознания, все более усиливающуюся мифологизированность его характера.
В, В. Гаташов
| СЭ |
Раздел 1. Введение в изучение'истории
 1.12. Каковы особенности
1.12. Каковы особенности
исторической науки как формы исторического сознания?
 Историческая наука представляет собой специфический вид рациональной человеческой деятельности, направленной на получение принципиально нового исторического знания.
Историческая наука представляет собой специфический вид рациональной человеческой деятельности, направленной на получение принципиально нового исторического знания.
Для всякого научного исследования характерным является аксиоматизм, т. е. наличие в познавательной деятельности определенного круга утверждений, истинность которых не подлежит доказательству, и служащих для проверки высказываний, выводимых из этих аксиом, или обобщения опытных данных.
Вместе с тем в процессе исследования историк вынужден постоянно рефлексировать (размышлять) по поводу собственных познавательных действий, выбирая те или иные методологические основания для получения нужного результата.
Исторически сложилось три модели исторической науки: классическая, неклассическая и постнеклассическая, в основе которых лежат разные представления о том, что изучается, как изучается и какова роль познающего субъекта в историческом исследовании.
 2013-12-28
2013-12-28 694
694








