Конституция РФ как конституция побежденного государства
Багдасарян В. Э.
Сравнительный
конституционный анализ.
Конституция РФ как конституция
побежденного государства
Автор Вардан Эрнестович Багдасарян — д.и.н., проф., зам. главы Центра научной политической мысли и идеологии.
Доклад на научно-экспертной сессии «Либеральная конституция России 1993 года: проблема смены», прошедшей 6 декабря 2013 года.
КОНСТИТУЦИЯ И ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Вынесенное в заглавие утверждение «Конституция РФ — конституция побежденного государства» может показаться публицистичным. В действительности – это вывод, сделанный по результатам широкого исследовательского проекта. В ходе него проводился анализ содержания Конституции России в сопоставление с мировым конституционным опытом. Использовались тексты почти всех, за исключением, главным образом, ряда малых островных государств, конституций стран мира.
Генезис системы, как известно, определяет в значительной мере ее содержание. Соответственно, и содержание Конституции России было определено условиями ее принятия. Существует три основные модели генезиса конституций: а) национально-освободительная революция; б) социальная трансформация и в) поражение в войне.
Российская конституция 1993 года явилась финальным аккордом, подводившим итог проигранной СССР «холодной войны». (Рис. 1).
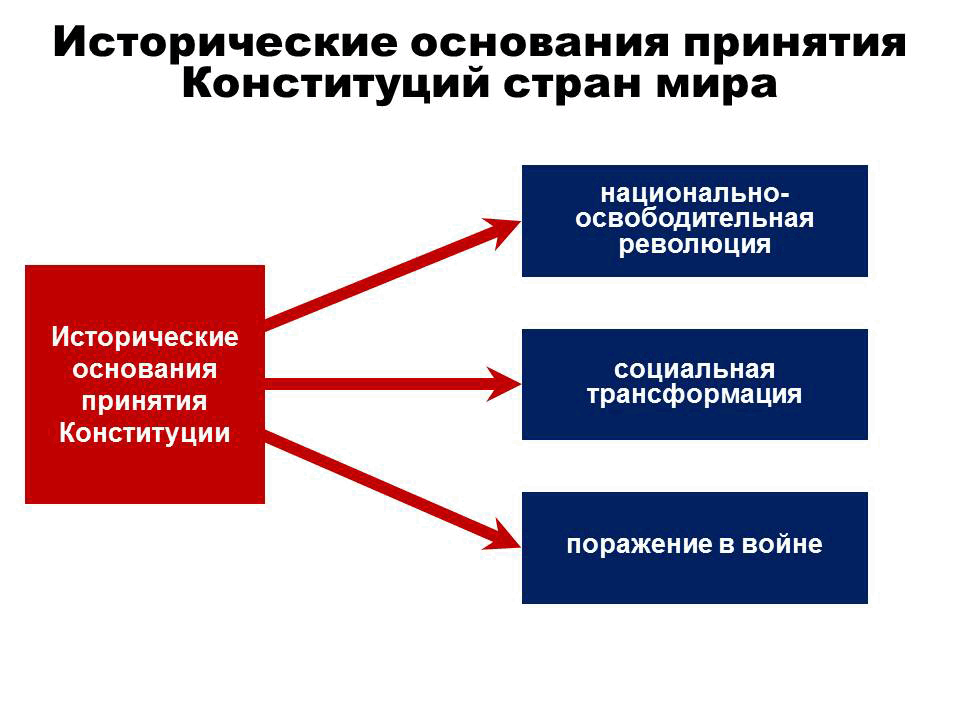
Рис. 1. Исторические основания принятия Конституций стран мира
Классическая развертка государственной политики — ценности – цели – средства – результат. Однако на установление ценностей на уровне государства в РФ установлено табу. Государственная идеология, как аккумулятор высших ценностей государства, запрещена статьей 13 Конституции РФ. Но если нет ценностей, не может быть и целей, а если нет целей, не может быть результата.
В тех случаях, когда государство не заявляет собственных ценностей,может происходить латентное ценностное замещение. Берутся ценности внешнего политического актора. Ценности и цели появляются, но они оказываются не субъектны по отношению к собственному государственному управлению. Посредством такого замещения государство десуверенизируется. В Конституции РФ апелляция к ценностям внешнего политического актора обнаруживается через обращение к инкорпорированной в систему национального законодательства категории «общепризнанные принципы и нормы международного права» (преамбула, статья 15, статья 17, статья 55, статья 63, статья 69). Выдвижение собственного идеологического проекта государства запрещено, при одновременной легитимизации принципов внешнего, позиционируемого как общемирового, проектирования. (Рис. 2).

Рис. 2. Конституция и внешнее идеологическое проектирование
КОНСТИТУЦИЯ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Насколько общепризнанны «общепризнанные принципы и нормы международного права»? Большинство конституций стран мира апелляций к общепризнанным принципам не содержит. Такие апелляции, за незначительным исключением, присутствуют в конституциях постсоциалистических государств. (Рис. 3). При этом контекст использования соответствующих положений и их смысловое содержание имеет принципиальное отличие от российского случая.
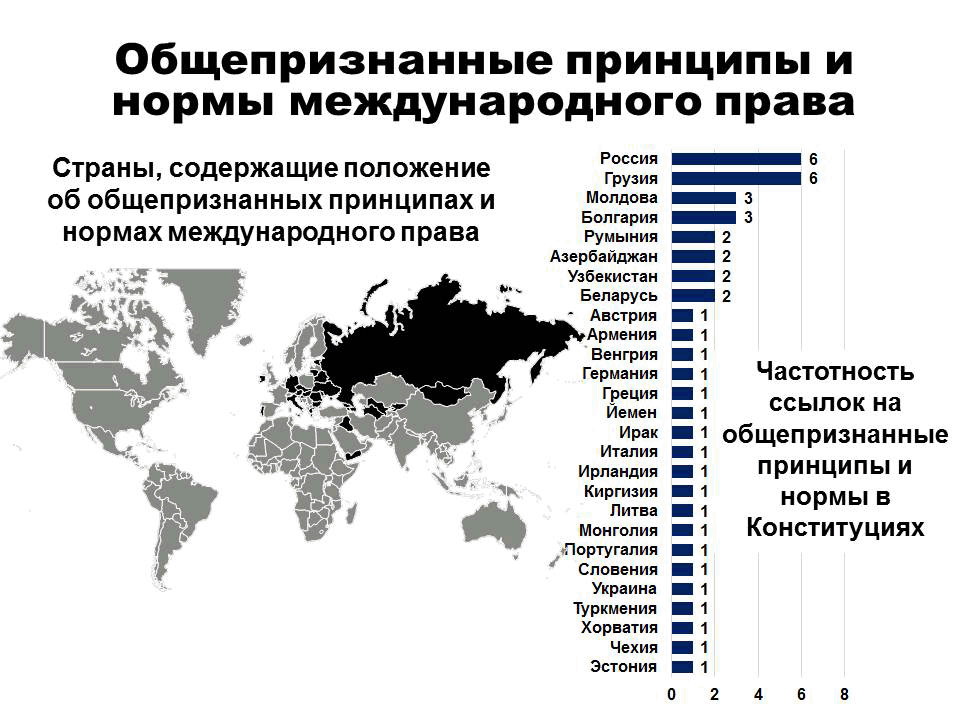
Рис. 3. Общепризнанные принципы и нормы международного права
Российская Конституция апеллирует к общепризнанным нормам и правам шесть раз. Это больше, чем в любой другой конституции стран мира (за исключением Грузии). В подавляющем большинстве случаев положение об общепризнанных принципах и нормах международного права относится к сфере внешней политики государств. Подразумевается нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела друг друга.
Российская Конституция не просто говорит о существовании «общепризнанных» принципов и норм, но, в отличие от других конституций стран мира, инкорпорирует их в собственную законодательную систему и относит к внутренней политике.
В таких формулировках, как в России, положение об общепризнанных нормах и принципах представлено только в Конституции Австрии и Основном Законе Германии. Соответствующие положения появились в конституционном праве этих государств после поражения в Первой мировой войне и были воспроизведены после очередного поражения уже после завершения Второй мировой войны. Они представляли собой исторически фиксацию ограниченности суверенитета потерпевших поражение государств. Заимствование этих прецедентных положения для Конституции РФ прямо указывает, что и законодательство России производно от факта поражения. (Рис. 4).

Рис. 4. Историко-правовые корни российской Конституции
Статья 2 Конституции РФ легитимизируют категории высших государственных ценностей. Указывая, что высшая ценность российского государства существует, она тем самым признает и наличие государственной идеологии.
В качестве высшей ценности Конституция РФ определяет «человека, его права и свободы». В этом определении не находится места ни для существования самой России, ни для суверенности российского государства, семьи, национальных исторических традиций. По логике принятого определения жертвенность защитников Отечества недопустима, поскольку приоритет отдается ни Отечеству, а человеку, с его правом и свободами. Идеологии, как известно, различаются именно по приоритетности тех или иных ценностей. Идеология, заявляющая высшей ценностью права и свободы человека — это идеология либерализма.
Именно так определяется либерализм в большинстве учебников и справочных изданий. Статья 2 Конституции РФ, таким образом, устанавливает либеральную государственную идеологию в России. Возникает коллизия между статьей 13, запрещающей государственную идеологию, и статьей 2, её утверждающей.
Запрет на государственную идеологию при утверждении де-факто идеологии либерализма означает неревизионируемость либерального выбора. Этот выбор заявляется ни в качестве определенной идеологии, а как данность. По сути, запрет на государственную идеологию в России означает запрет на пересмотр идеологии либерализма. Либерализм же предстает как следование «общепризнанным принципам и нормам», т.е. как само собой разумеющееся для всего человечества. Конституция устанавливает, по сути, модель внешнего управления. Надстоящим над всей пирамидой ценностного целеполагания российского государства положением являются «общепризнанные принципы и нормы международного права». От них в качестве высшей ценности проецируется ценность «прав и свобод человека». И для предотвращения возможных попыток ревизии внешнего идеологического проекта устанавливается запрет на выдвижение собственной идентичной идеологии. (Рис. 5).

Рис. 5. Система внешнего управления в Конституции РФ
Обратимся теперь к мировому конституционному опыту. При введении запрета на государственную идеологию в Конституции РФ положение представлялось так, будто бы Россия переходит на тип жизнеустройства, характерного для «цивилизованных», «правовых» государств мира. Однако анализ конституционных текстов показывает, что эта апелляция основывалась на ложной информации. Непосредственный запрет на государственную идеологию существует только в конституциях России, Болгарии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. В конституциях Украины и Беларуси запрещается установление какой-либо идеологии в качестве обязательной. В отличие от российской конституции здесь речь идет не о недопустимости ценностно-целевого выбора для государства, а о недопустимости ограничения гражданских свобод — другая постановка проблемы. Формулировка «государство на демократических ценностях и не может быть связано ни исключительной идеологией, ни вероисповеданием» государственная идеология запрещается, по сути, в Чехии. Аналогичным образом этот запрет формулируется в Конституции Словакии. Но и в данном случае он менее императивно выражен, нежели в конституции России. Апелляция к демократическим ценностям в чешской конституции указывает на то, что ни одна группа не может обладать исключительным правом навязывать народу свою идеологию, но вовсе но вовсе ни запрет ценностного выбора на основе общенародного консенсуса. В любом случае запрет на государственную идеологию ограничивается кластером посткоммунистических государств. Принятие этого запрета в качестве следствия соответствующего идеологического поражения очевидно. В некоторых конституциях устанавливаются ограничители для идеологии. В конституциях Португалии и Экваториальной Гвинеи этот запрет относится к сферам образования и культуры. В подавляющем большинстве конституций запрета на государственную идеологию нет.
 2020-05-13
2020-05-13 349
349







