получил роман «Тадеуш из Варшавы» (1803 г.) Джейн Портер (1776-1850) о жизни Костюшко. Той же романтической тяге к национальному колориту следовали художники и скульпторы. Многими гранями сиял беспримерный талант главного романтика Франции Виктора Гюго (1802-1885).
Музыканты, обращаясь к национальным фольклорным мелодиям и ритмам, создавали своеобразные и проработанные национальные стили, которым предстояло в будущем стать особыми приметами многочисленных национальных школ. От изысканных мазурок и полонезов Шопена и «Венгерских рапсодий» Листа начинается череда великолепных достижений чехов Бедриха Сметаны (1824-1884), Антонина Дворжака (1841-1904) и Леоша Яначека (1854-1928); норвежца Эдварда Грига (1843-1907), финна Яна Сибелиуса (1865- 1957) и датчанина Карла Нильсена (1865— 1931); испанцев Исаака Альбениса (1860-1909), Энрике Гранадоса (1867-1916) и Мануэля де Фальи (1876-1946); венгров Белы Бартока (1881-1945) и Золтана Кодаи (1882-1967); англичан Эдварда Элгара (1857-1934), Фредерика Делиуса (1862-1934) и Ралфа Воанил-Вильямса (1872-1958); знаменитой русской «Могучей кучки»: Цезаря Кюи (1835-1916), Милия Балакирева (1836-1910), Александра Бородина (1833-1887), Николая Римского-Корсакова (1844-1909) и Модеста Мусоргского (1839-1881
). Все эти национальные школы расширили социальную почву музыки как искусства. Более того, те народы, которые не могли обратиться ко всей Европе из-за языковых барьеров, обрели свой голос в концертных залах.
Примечательно, что абстрактная природа музыки пробуждала самую разную реакцию на одни и те же созвучия. Такой композитор, как Шопен, привлекал не только тех слушателей, которые разделяли его политические взгляды, но и тех, кто был к ним совершенно безразличен. Не было никакого противоречия между национальным и универсальным аспектами его гения. Изумительная двойственность настроя горько-сладких польских мелодий сплеталась у него то с растущим протестом, то с томной грустью. Одним ка-
залось, что он положил на ноты польскую историю; у других он пробуждал острые чувства исключительно личного, интимного свойства. Как сказал Роберт Шуман о, может быть, самом знаменитом произведении Шопена «Революционном этюде», он. 10 N° 12, он рассказывает о «ружьях, спрятанных в цветах».
В мире оперы национальные мифы, соединяясь с грандиозной музыкой, породили музыкаль-
ные драмы невиданной силы. Публика буквально не могла пошевелиться, слушая
«Бориса Годунова» Мусоргского или «Кольцо Нибелунгов» Вагнера, и ей были уже безразличны исторические ошибки и СМЫСЛ. Национальные оперы оказались тем поприщем, где волшебство музыки было тем пронзительнее, чем невероятнее было либретто. [НИБЕЛУНГИ] [ОПЕРА] [СУСАНИН] [ТРИСТАН]
Несомненно, что рост национализма был тесно связан с модернизацией европейского общества. И некоторые историки марксистского толка заходят так далеко, что считают эту зависимость полной. «Главная черта современной нации и всего, что с ней связано, — пишет один из них, — это модернизированность»35. В этом утверждении неверна его чрезмерность, крайность. Политическое притеснение совершенно так же порождало национализм, как и социально-экономическая модернизация, и нам известны примеры, когда национальные движения развивались задолго до модернизации. Чего нельзя отнять у модернизации, так это изменения природы национализма — исключительного, дотоле неизвестного расширения его социальной базы. «Перерождение, трансформация национализма» в начале периода модернизации после 1870 г. — вот реальность, которую нельзя отрицать.
Национализм составляет также важное отличие цивилизации от культуры. Цивилизация
—
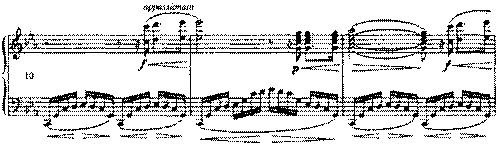
DYNAMO
это сумма всех идей и традиций, которые были унаследованы от древнего мира и христианства; цивилизация наложилась на национальные культуры народов Европы извне, составляя в то же время их общее наследие. Культура 36, напротив, выросла из повседневной жизни людей. Она образовалась из всего, что было особенного у определенной нации: родного языка, фольклора, религиозных особенностей, своеобразных обычаев. И если раньше цивилизация превозносилась, а культура презиралась, то теперь национализм произвел обратное действие. Теперь превозносились национальные культуры, и принижалась общая цивилизация. Утратила свое значение образованная, многоязыкая, космополитичная элита Европы; окрепли полуобразованные национальные народные массы, считавшие себя только французами, немцами, англичанами или русскими.
Теоретизирование по поводу национализма со временем не ослабевало. И среди идей, которые были в ходу в конце XX в., надо рассмотреть как упомянутую уже социологическую связь «национализма» с «модернизацией», так и психологическое понятие «нации» как воображаемого сообщества, к которому лишенный корней или недавно получивший образование индивидуум себя сознательно относит, а также понятие
«придуманной традиции» — механизм, которым пользовались складывающиеся нации для создания собственной мифологии. Интересно, что все эти очень современные идеи можно обнаружить в работах малоизвестного польского социалиста и социолога Казимежа Келлес- Крауза (1872-1905)37.
Националистические страсти неотвратимо порождали конфликты. Почти повсюду в Европе имелись этнические меньшинства, чей народный, популярный национализм неизбежно приходил в столкновение с государственным национализмом власти. В Великобритании было три потенциальных сепаратистских движения; в Российской империи
— семьдесят. Даже в Германской империи, которая этнически была замечательно гомогенной, проявились давние конфликты в бывших польских провинциях, на датской границе в Шлезвиг-Гольштейне и в Эльзас-Лотарингии. [ЭЛЬЗАС] [ШЛЕЗВИГ] Немалые конфликты возникали также между лидерами национальных движений и лидерами социалистов или либералов, которые или отверга-
ли национализм как таковой, или возражали против приоритета национальных целей.
В этом отношении хорошим примером может быть Россия, где создание империи династией Романовых пришло в противоречие не только с интересами нерусских народов, но и с народным национализмом самих русских. На исторической территории старого Московского государства «империи» было нелегко уживаться с «нацией». Имперские
институты, создававшиеся на основе двора, дворянства и бюрократии, были чем-то вроде иностранных оккупантов среди преимущественно крестьянского общества и имели с ним мало общего. Промедление с освобождением крестьян только откладывало освобождение этой крестьянской нации, жизнь которой была организована вокруг крестьянских общин и Русской православной церкви. Решающее значение имел провал попытки в начале XIX в. ввести в употребление Библию на народном языке, которая могла бы стать краеугольным камнем в строительстве здания современной национальной культуры38.
С течением времени национализм часто принимал все более воинственные формы. Национальные движения, которые поначалу были частью либеральной борьбы с реакционными династическими режимами, переживали разочарование, когда их цели оказывались нереализованными. Вот почему в последней четверти XIX в. «старый освободительный и объединяющий национализм» часто уступал место крайним формам
«абсолютного национализма». Начинались разговоры об изгнании меньшинств, о мнимом
«предательстве» тех, кто не отвечал догматическим определениям самих националистов. (Именно в этом отрицательном смысле термин национализм начинает употребляться в 1890-е гг.) Германия теперь должна быть только для немцев, Румыния — для румын, а Руритания39— для руританцев.
Возможно, именно в империалистической Германии особенно привились понятия Blut und Boden то есть "кровь и почва"'. Но своих самых пылких адвокатов «интегральный национализм» нашел во Франции, в писаниях Мориса Барреса (1862— 1923) и Шарля Морраса (1868-1952), ставших в 1899 г. соучредителями движения «Аксьон франсез». Они выступали за Францию только для французов, причем для лояльных, коренных фран-
 2015-03-20
2015-03-20 390
390








