(Пятигороск, shiryaevat@list.ru)
МОДЕЛЬ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ МЕТАФОРЫ В ДИСКУРСЕ
Рост теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания. Естественно, что экспансия метафоры в разные виды дискурса не прошла незамеченной. В последнее время в метафоре стали видеть “ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа” [Арутюнова, 1990:6]. Распространение метафоры в многочисленных жанрах художественной, повседневной и научной речи заставляет обращать внимание на утилитарные преимущества, которые дает метафора. Хофман, автор ряда исследований о метафорических выражениях, говорил: “Метафора может быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы не встретилась, всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка” [Hoffman, 1985: 327].
Мы попытаемся предложить такое описание метафоры, встречающейся в различных видах дискурса, которое бы объясняло, каким образом можно понять соположение референтов, нормально никак не связанных. Мы считаем, что решить данную задачу можно только при том условии, если метафора будет изучена с точки зрения комплексного подхода с учетом той социальной ситуации, которая свойственна тому дискурсу, в котором метафора функционирует. Описание процесса познания, включающего взаимодействие между индивидом и его окружением, позволяет предложить такую модель понимания метафоры, которая объясняет буквальный способ выражения, допускает личное творчество, признает, что значение метафор существенно зависит от контекста и показывает, что в основе семантического процесса лежит когнитивный процесс.
Для понимания значения метафоры, функционирующей в дискурсе, мы предлагаем следующий алгоритм:
Значение метафоры нами будет пониматься по следующему алгоритму. Первый шаг – выявляется достаточный контекст, позволяющий определить предметно-референционную область сообщения. Адекватная теория метафоры включает в себя не только семантическую, синтаксическую и когнитивную теории, объясняющие, каким образом необычное сочетание слов приводит к созданию новых понятий, но и контекстуальные теории относительно внешнего мира, содержащие сведения о словесных ассоциациях, а также о взаимодействии между людьми и их окружением, создающим знание. «Когнитивный процесс, который приводит к созданию метафоры, включен в более широкий процесс познания, имеющий отношение к индивиду в контексте эволюционного процесса, речь идет об эволюции как мозга, дающего аппаратное обеспечение для познания, так и культуры, предоставляющей контекст, в котором через взаимодействие с лингвистическим окружением возникают метафоры» [Маккормак, 1990: 361]. М.Блэк неоднократно подчеркивал, что «семантика метафоры сильно зависит от контекста и ситуации речи. Лишь войдя в сеть логических импликаций и целый текст, вписавшись в изображаемую ситуацию, согласовавшись с ее связями и зависимостями, метафора, уточняет свой смысл, теряет неопределенность и может быть понятна, так как метафора, взятая сама по себе, есть лишь неопределенность в выборе одного из значений» [Блэк, 1990: 134].
Второй шаг алгоритма – э то переосмысление понятий, руководствуясь знанием мира и его связями. Само переосмысление состоит из двух больших блоков – метафорической референции и пресуппозиции. Референция является базовым этапом в процессе переосмысления, т.к. без указания на знакомый и понятный объект из окружающего мира не возможна знаковая функция. Этот поиск знакомого в значении есть денотация. Но денотат в представлении любого адресата связан с какими-то ассоциациями из личного опыта или исторической памяти. Эти ассоциации и знания, сопутствующие денотату, упакованы во фреймы.
Конечно же не все сведения об обозначаемом укладываются в эту схему. Часто необходимо еще и «предварительное» знание, которое не описывается в дескрипции, но которое пресуппонирует ей. «Пресуппозиция относится к знаниям о мире, не вошедшим в фокус типового образа» [Филлмор, 1983: 134]. Но этот тип информации является необходимым для включения в тот или иной фрейм. Поэтому он тоже вводится как знание субъекта, фокусирующее типовой образ.
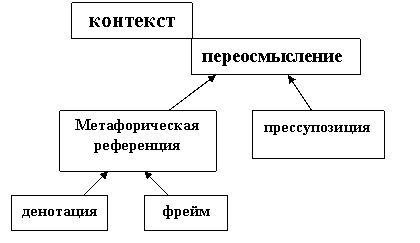
Пользуясь предложенным алгоритмом, проанализируем следующий пример:
If even British Telecom is now struggling, what does that mean for other establishment players. (Economist 4-10.04. 1998)
Во-первых, читателю, чтобы понять, что он имеет дело с метафорой, необходимо вычленить метафорический контекст, на фоне которого происходит процесс метафоризации. В данном случае достаточно словосочетаний, чтобы понять, что в предложении две метафорические структуры: British Telecom is struggling; establishment players. Выделяя микроконтекст, адресат обратит внимание, что в первом и во втором случаях метафоризация основана на соотношениях, выходящих за рамки одной категории, т.е. компания – неодушевленное понятие; бороться – действие, которое свойственно одушевленным понятиям; establishment – конкретное, неодушевленное понятие, player – одушевленное понятие.
Следующий шаг – переосмысление, которое происходит в несколько этапов. Во-первых,переосмысливая понятие, адресат обратится к прямому значению понятий: struggle – violently try to get free; fight against; и player – a person who takes part in a sport or game. Во-вторых, каждое из значений вызывает определенные ассоциации, связанные с данным понятием. Вычлененное и категоризованное тем или иным способом, характерным для данного языка, буквальное значение понятия «struggle», «player» из окружающего мира включается в концепт, соотносясь со знаниями о нем. Знания входят в виде фреймов в данный концепт. Адресат может не иметь собственного опыта, связанного с тем или иным понятием, но он читал или слышал о нем, следовательно, его социальная историческая память включает ассоциации всех понятий. Так, например, одно и то же, казалось бы, слово «struggle» включается во фреймы «Военные события» (такие, как акциональные фреймы «struggle with enemy», «to win the struggle», «to lose the struggle», т.п.). 'Типовой образ может включаться в различные фреймы, и это обеспечено знанием о том, что «struggle» выступает как «Военные действия» или же играет роль терма в акциональных фреймах. Из этого следует, что «включение типового образа в концептуальные структуры приводит к выводному знанию о свойствах референта, рассматриваемого в той или иной структуре знания о нем» [Банин, 1995: 132]. Следовательно, процедуры соотнесения типового образа с тем или иным знанием о его свойствах или диспозициях — это процедуры референции. Понятия «struggle» и «player» имеют некоторую исторически-сложившуюся эмоциональную окраску, которая пресуппонирует семантическому значению.
Таким образом, метафора есть результат когнитивного процесса, который сопоставляет два или более референта, обычно не связанных, что ведет к семантической концептуальной аномалии, результатом которой обычно является определенное эмоциональное воздействие.
Литература
Арутюнова, Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5 - 33
Банин, В.А. Субстантивная метафора в процессе коммуникации (на материале английского языка): диссерт. - М.: 1995. - 274 с.
Блэк, М. Метафора //Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 120 - 143.
Маккормак, Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - 338 3- 374.
Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. - М.:, 1983.
Hoffman, Е. Forms of Talk. - Oxford, 1985. - 397 p.
 2015-05-05
2015-05-05 556
556








