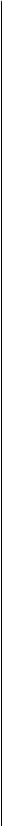 Лит.: Проблема причинности в совр. физике, М., i960, гл. 1, § 9; К р е б ер Г., Категория У. и соотношение ее с категорией причины, «ФН» (НДВШ), 1961, М 3; Б у н г е М., Причинность, пер. с англ., М., 1962, § 2,6.
Лит.: Проблема причинности в совр. физике, М., i960, гл. 1, § 9; К р е б ер Г., Категория У. и соотношение ее с категорией причины, «ФН» (НДВШ), 1961, М 3; Б у н г е М., Причинность, пер. с англ., М., 1962, § 2,6.
Е. Никитин. Москва.
УСЛОВНОЕ СУЖДЕНИЕ, гипотетическое суждение,— сложное (составное) суждение, полуденное посредством связи к.-л. двух исходных суждений одним из грамматич. союзов «если..., то...», «когда..., тогда...» и т. п. или заменяющих их слов (выражений): «... влечет...», «из... следует...» и т. п. Подробнее см. Импликация, Каузальная импликация, Консеквент и антецедент.
УСЛОВНО-КАТЕГОРЙЧЕСКИИ СИЛЛОГИЗМ — силлогизм, одна из посылок к-рого является условным высказыванием (условным суждением), т. е. имеет форму импликации, а другая — категорич. высказыванием (см. Категорическое суждение).
УСЛОВНОСТЬ в искусстве — реализация в художеств, творчестве способности знаковых систем выражать одно и то же содержание разными структурными средствами. Говорить об У. в произв. иск-ва следует лишь постольку, поскольку вообще можно говорить о семантике употребляемых в них знаковых систем (см. Семиотика). Там же, где речь может идти преим. о синтактике (напр., абстрактная живопись), более уместен термин «формализация». Принятая в произв. иск-ва система отображения, характеризующаяся семантикой, обладает известной произвольностью по отношению к отображаемому объекту, что и позволяет говорить о ее У. Она с неизбежностью накладывает ограничения на передаваемое содержание, к-рые не воспринимаются человеком, для к-рого предназначено произв., а принимаются им как нечто данное и приобретают видимость «естественных», безусловных норм. Так, мы не замечаем У. границ художеств, пространства (рампа в театре, рамка картины), У. привычных форм той или иной перспективной системы в живописи. Точно так же нам не кажутся «странными» запрещения актеру в ряде случаев видеть и слышать происходящее на сцене (ср. реплики «в сторону»), различие реального и сценич. времени, передача синхронного действия, происходящего в разных местах, как хронологич. последовательности сцен, глав или кадров. Кит. зритель не замечает «странности» включения каллиграфич. текста (надписи, печати) в живописный, а первобытный художник, нанося рисунок на рисунок, видел только верхний слой изображения. В японском кукольном театре актер, управляющий куклами, доступен взору зрителя, но не воспринимается последним, поскольку выводится им за пределы художеств, пространства. Между тем любая подобная У. будет «странной» для аудитории, находящейся вне данной системы (не знающей или не принимающей ее). Так, кит. зрителю 17 в. европейский полутеневой портрет представлялся странным сочетанием размытых красок; ребенок часто не может понять, почему прямоугольная комната в системе линейной перспективы изображается на одном конце узкой, а на другом — широкой. Наряду с приведенными примерами невведенности в систему как результата незнания ее можно отметить и случаи принципиального неприятия той или иной системы изображения, также связанные с подчеркиванием У. (как «неправильности», «неправдоподобности» и т. д.).
Нормативная эстетика разных эпох исходила из представления о нек-рой единственно возможной норме «правильного» иск-ва, субъективно ощущаемой как норма здравого смысла. Классицизм видел ее заложенной в разуме, Просвещение 18 в.— в природе человека. «Правильное» с этой т. зр. не может иметь специфики: по Канту, красота «...не может содержать в себе ничего специфически характерного; ведь иначе она не была бы идеей нормы...» (Соч., т. 5,
М., 1966, с. 239). Как специфическое, т. е. условное воспринимается только иск-во чуждой этнической или культурной сферы, структурные принципы к-рого расходятся с общепринятой в данном коллективе нормой, или изображение «ненормальной» действительности (сатира, гротеск —■ ср. Гегель о сатире, Соч., т. 13, М., 1940, с. 82—86). При этом У. чуждого иск-ва заставляет воспринимать его как зашифрованный текст, осмысляемый посредством «перевода» его на привычную систему.
Т. о., существ, стороной понимания иск-ва является владение мерой его У. Нарушения в этой сфере приводят к эффекту непонимания, двоякого по своим возможностям: условное воспринимается как безусловное (произв. иск-ва отождествляется с жизнью) или же, напротив, безусловное (внутри данной системы) воспринимается как условное (произв. иск-ва кажется или намеренно изображается «странным» до нелепости). Примерами первого типа невладения мерой У. могут считаться все попытки зрителя «войти» в текст произведения, насильственно изменив его. Таков, напр., известный эпизод «покушения» на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (вероятно, субъективно идентичный акту цареубийства); ср. эпизод убийства портрета в «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда, а также хорошо знакомые этнографам случаи использования изображения для наведения «порчи» (отсюда — соответствующие табу); так же может быть интерпретирован и историч. анекдот о покушении зрителей в Новом Орлеане на жизнь актера, игравшего роль Отелло. Примеры, связанные с неприятием тех или иных систем как условных, также многочисленны. Ср. высказывания М. Е. Салтыкова-Щедрина о поэзии, критику Л. Толстым Шекспира и театра вообще, иронич. отношение шестидесятников к балету, критику теоретиками Возрождения способов моделирования пространства в ср.-век. живописи и др.
Сама антитеза «естественность — У.» возникает в эпоху культурных кризисов, резких сдвигов, когда на систему смотрят извне — глазами др. системы. Отсюда культурно-типологич. обусловленность периодически возникающего стремления обратиться к ненормализованному (и «странному» с т. зр. привычных норм У.) иск-ву (напр., детскому, архаическому, экзотическому), к-рое воспринимается как «естественное», а привычные системы коммуникативных связей предстают как «ненормальные», «неестественные». Ср. борьбу «низкого» (народного) и «высокого» (ученого) иск-ва в эпоху Ренессанса, споры о «цивилизации» и «природе» в 18 в., обращение к фольклору в 19 в., роль прозаизмов в поэзии Пушкина и Некрасова, различные типы примитива в иск-ве 20 в. и т. д. При этом «странное», или чужое, иск-во, играя революционизирующую роль в становлении новой художеств, нормы, с т. зр. канонической может восприниматься либо как более примитивное, либо как усложненное. Очень часто в функции этого рода средств выступает расширение культурного ареала: напр., втягивание европ. иск-ва в культурный мир Азии или азиатской культуры в мир европ. цивилизации. Наряду с пространств, вторжениями культуры может осуществляться и однонаправленное временное вторжение культур прошедших эпох, равно как и разного типа «смешанные» вторжения. Важный случай — вторжение нар. иск-ва в эстетику «культурного» верха.
В отличие от нехудожественных коммуникативных систем, где структура языка строго задана и информативным является лишь сообщение, но не язык, художеств, системы могут включать в себя информацию и о самом языке. Роль сигналов о том, что сообщение передается на особом языке, играют при этом
 2015-05-06
2015-05-06 273
273







