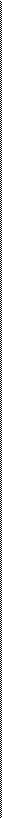 можностей. Детерминацию обществ.-историч. действительности Ф. рассматривает как подчинение человека власти внешней, трансцендентной ему силы. Эта сила может выступать как сверхъестеств. и божеств, воля (теологич. Ф. п провиденциализм), как изначальный социальный порядок, представляющийся сводом раз и навсегда данных канонов бытия, как неотвратимое «естественное» устройство мира с безраздельным господством природной необходимости и т. д. Крайний Ф. отрицает случайность вообще, умеренный Ф. допускает ее как форму опосредствования фатума. Ф. можно рассматривать как рационализацию древней мифология, концепции судьбы: в Ф. на место фатума слепого и непроницаемого ставится фатум, поддающийся распознанию,— миропорядок, в к-ром человек получает возможность стать созпат. и преуспевающим его проводником.
можностей. Детерминацию обществ.-историч. действительности Ф. рассматривает как подчинение человека власти внешней, трансцендентной ему силы. Эта сила может выступать как сверхъестеств. и божеств, воля (теологич. Ф. п провиденциализм), как изначальный социальный порядок, представляющийся сводом раз и навсегда данных канонов бытия, как неотвратимое «естественное» устройство мира с безраздельным господством природной необходимости и т. д. Крайний Ф. отрицает случайность вообще, умеренный Ф. допускает ее как форму опосредствования фатума. Ф. можно рассматривать как рационализацию древней мифология, концепции судьбы: в Ф. на место фатума слепого и непроницаемого ставится фатум, поддающийся распознанию,— миропорядок, в к-ром человек получает возможность стать созпат. и преуспевающим его проводником.
Классич. форма Ф. в античности — стоицизм, особенно римский. Стоич. Ф. резюмировал положение индивида перед лицом всеподавляющего могущества социальных сил (империй, войн и т. п.): «Болящего судьба ведет, а неволящего влачит» (Сенека. Письмо к Луцилию). Христ. идеология в рамках общей фатальности (см. Предопределение) вводит свободу воли индивида. Католицизм осуждает крайний Ф. как ересь. Вообще в смягченных вариантах Ф. считается обязательным проявление фатума, или провидения (см. Провиденциализм), или законов истории через посредство деятельности людей: фатум нуждается в них как исполнителях (напр., у Вико). Лейбниц, проводя умеренный Ф. и критикуя Ф. крайний, отводил свободе сферу единичных вещей, тогда как закономерности относил к «предустановленной гармонии». Фихте возвел деятельность в принцип, однако эта деятельность оказалась иадиндивидуальным началом, господствующим над историей реальных людей: это предполагает «...понятие наперед определенного... мировой план,...из которого можно было бы полностью вывести главные эпохи человеческой земной жизни...» («Осн. черты совр. эпохи», СПБ, 1906, с. 5). Шеллинг, при всем своем стремлении изобразить историю как «сценическое действие» и предоставить индивидам свободное «соавторство» в нем, истолковал роли людей как охватываемые изначальным единством и всецело производные от него, так что «...сама история... являет вековечную тождественность и вековечную основу гармонии...» («Система трансцендентального идеализма», Л., 1936, с. 356). Гегель вернулся к Ф., когда утвердил господство отчужденных абстрактных форм: «деспотизм всеобщего над особенным», «хитрость разума» в истории. В противоположность идеалистич. и теологич. Ф., к-рый ставит над миром сверхъестеств. силу — «божественную волю», «мировой разум», метафизически-материалистич. Ф. (Гоббс и др.) возводит в абсолют естеств. силы (Субстанцию, Среду): «...вещь делает..., она делает так, как определено природой, и иначе не может» (С п и-ноза Б., Избр. произв., т. 2, М., 1957, с. 203). Ф. здесь есть прямое следствие тезиса: человек — «часть» природы (см. там же, с. 204; возражения Канта см.: Соч., т. 4, ч. 1, М., 1965, с. 188, 217, 431). Отсюда выводилось требование: «...покоримся природе...» (Гольбах П., Избр. произв., т. 1, М., 1963, с. 262). Др. вариант материалистпч. Ф. — это мета-физич. истолкование истории с т. зр. «теорий среды», в т. ч. экономический материализм.
Марксизм, критикуя как волюнтаризм, так п Ф. во всех его вариантах, видит социальную природу и корни Ф. в неразвитости обществ, человека и его творч. сил. Затерянность в системе классовых отношений, под гнетом иерархии отчужд. функций, манипулирование человеком и диктат антагонистич. гос-ва, господство к-рого «...заменило собой средневековое сверхъес-
тественное небо с его святыми», «...этот мертвящий кошмар» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 17, с. 544, см. также с. 339, 598) воспитывают пассивно-комформистское, фаталистич. сознание. Человек кажется обреченным быть рабом порядка вещей, прикованным к своему месту в системе разделения обществ, труда, к-рое «наподобие рока» существует «...вне индивидов, независимо от них» (Архив Маркса и Энгельса, т. 4, 1935, с. 91). Апологетпч. и охранит, идеология классово-антагонистпч. общества заинтересована в закреплении фаталистич. представлений, парализующих способность к историч. творчеству, внушающих настроение смиренной покорности «фатуму» и обыват. безразличия. Вместе с тем к Ф. прибегает также и авантюристич. субъективизм, пытающийся выдать свой произвол за предопределенный к единственно правильный образ действий и суждений. Марксизм отвергает Ф. с позиций диалектики объективного и субъективного, исследуя законы обществ, развития как имманентные деятельности людей. Если объективист толкует о «непреодолимых исторических тенденциях», превращая всякое объяснение в оправдание, марксизм, напротив, показывает, кто (какой класс и т. п.) ответственен за якобы само собой происходящее (см. В. И. Ленин, Соч., т. 1, с. 380, а также с. 400 и т. 1&, с. 302). В историч. драме нет кем-то или чем-то предначертанного «сценария» с гарантированным финалом, она вершится самими людьми-авторами в созидании и борьбе. Идейная борьба против Ф.-составная часть революционно-гуманистич. борьбы за «истинное царство свободы», коммунизм.
Лит. см. при ст. Судьба, Детерминизм, Исторический aiame-риалигм, Необходимость, Свобода, Свобода воли.
Г. Батищев. Москва.
ФАТУМ (лат. fatum — прорицание, рок, судьба) — см. Судьба.
ФАЦЗЯ («з а к о н н и к и», л е г и с т ы) — др.-кит. школа политич. мысли, возникшая в сер. 4 в. до и. э. Осн. ее принципы сформулированы в трактате «Книга правителя области Шан» («Шан-цзюнь шу»), составленном в 3 в. до н. э. последователями и единомышленниками политич. деятеля Шан Яна (4 в. до н. э.). Второе классич. произв. Ф.— трактат «Хань Фэй-цзы» (3 в. до и. э.). Сам термин «Ф.» принадлежит историку Сыма Таню (2 в. до н. э.).
Появление школы Ф. связано с образованием на территории Китая вместо множества мелких городов-гос-в больших царств, перед правящими слоями к-рых стояла задача создания четко работающего и дисциплинированного гос. аппарата, готового выполнить любой приказ деспота. Раннеконфуцианской концепции политич. действия, исходящей из того, что моделью гос-ва служит семья и правитель должен выполнять по отношению к своим подданным роль заботливого отца, в «Шан-цзюнь шу» противопоставлен идущий от Мо-цзы взгляд, сравнивающий правителя с мастером, измеряющим и обрабатывающим свой материал. Развив этот ход мысли, леигсты отбросили понятие воли неба, а понятие блага народа, к к-рому, по Мо-цзы, следл^ет стремиться, заменили благом гос-ва, т. е. благом государя, воля к-рого — закон для страны. Закон (фа) школы Ф., означающий способ управления и не имеющий отношения к законности или правовому строю, был завершением этого выставленного Мо-цзы принципа, согласно к-рому средствами политич. действия должны быть награды и наказания; именно закон, не имеющий никакого отношения к нравств. нормам, ясный, точный и не подлежащий обсуждению, должен определять, какие поступки подлежат награде, какие — наказанию. При этом «рукоятки управления» (как были окрещены в теории Ф. награды и наказания) признавались неравноценными, и осн. роль отводилась карат, мерам.
304 ФАШИЗМ
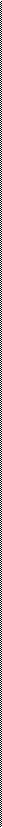 Новая модель политич. действия, служившая исходной позицией для школы Ф., приводила к переоценке всех этико-полптич. представлений. Отвергая принцип гуманности (жэнъ), выдвинутый Конфуцием, легнсты утверждали, что, поскольку народ состоит пз расчетливых себялюбцев, правитель должен не заботиться о нем, а использовать его для своих целей. В этом направлении ими была разработана стройная программа политпч. мероприятий. Так как легче использовать слабый народ, чем сильный, в «Шан-цзюнь шу» провозглашается принцип ослабления народа путем его экспроприации и доведения т. о. до полной зависимости от милостей правителя. Поскольку мощь гос-ва зависит от его боевой подготовки и производительности с. х-ва, только война и земледелие объявляются достойными занятиями, остальные же признаются ненужными н даже вредными. Особенно опасным, подрывным делом считается изучение древ-лей истории и культуры, ибо оно, во-первых, отвлекает от войны и земледелия, во-вторых, неизбежно приводит к оценке политич. мероприятий пр-ва в свете опыта прошлого. Радикальному устранению такой возможности должна была служить политика оболванивания народа (юйминь), бывшая одним из краеугольных камней легистской программы.
Новая модель политич. действия, служившая исходной позицией для школы Ф., приводила к переоценке всех этико-полптич. представлений. Отвергая принцип гуманности (жэнъ), выдвинутый Конфуцием, легнсты утверждали, что, поскольку народ состоит пз расчетливых себялюбцев, правитель должен не заботиться о нем, а использовать его для своих целей. В этом направлении ими была разработана стройная программа политпч. мероприятий. Так как легче использовать слабый народ, чем сильный, в «Шан-цзюнь шу» провозглашается принцип ослабления народа путем его экспроприации и доведения т. о. до полной зависимости от милостей правителя. Поскольку мощь гос-ва зависит от его боевой подготовки и производительности с. х-ва, только война и земледелие объявляются достойными занятиями, остальные же признаются ненужными н даже вредными. Особенно опасным, подрывным делом считается изучение древ-лей истории и культуры, ибо оно, во-первых, отвлекает от войны и земледелия, во-вторых, неизбежно приводит к оценке политич. мероприятий пр-ва в свете опыта прошлого. Радикальному устранению такой возможности должна была служить политика оболванивания народа (юйминь), бывшая одним из краеугольных камней легистской программы.
Последовательное осуществление теоретических положений школы Ф., вылившееся вскоре после объединения Китая (в конце 3 в. до и. э.) в зверскую расправу с конфуцианцами и в попытку путем сожжения книг уничтожить всю гуманитарную культуру, столь основательно скомпрометировало Ф., что впоследствии никто не решался уже открыто провозгласить себя сторонником этой школы. Тем не менее легистское направление фактически продолжало существовать внутри конфуцианства после того, как в конце 2 в. до н. э. конфуцианство стало гос. идеологией. Постен, вытеснение раннеконфущганскпх гума-нистич. устремлений проповедью верноподданпч. преданности императору означало торжество теории Ф. внутри бюрократич. ортодоксии.
Лит.: Ян Ю н - г о, История др.-кит. идеологии, пер. с кит., М., 1957, с. 400—19; Фань Вэнь-лань, Др. история Китая, пер. с кит., М., 1958, с. 266—70; Рубин В. А., Два истока кит. политич. мысли, «Вопр. истории», 1967, N° 3; Книга правителя области Шан (Шан-цзюнь шу), пер. с кит., вступ. ст. и комментарий Л. С. Переломова, М., 1968; X о у Вай-лу [и др.], Чжунго сысян тунши (История кит. идеологий), т. 1, Пекин, 1957, с. 589—634.
В. Рубин. Москва.
ФАШИЗМ (итал. fascismo, от fascio — пучок, связка, объединение) — одна из форм реакц. антидемо-кратич. бурж. движений и режимов, характерных для эпохи общего кризиса капитализма. Ф. у власти — «...это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала» (Программа КПСС, 1961, с. 53). Особенностью Ф., по сравнению с режимами воен. диктатуры, личной власти, бонапартизма и др., является осуществление насилия над массами через всеобъемлющую гос.-политич. машину, включающую систему массовых орг-ций и разветвленный аппарат идеологпч. воздействия, дополняемых системой массового террора. Ф. широко использует псевдореволюционные и псевдосоциалистические лозунги и формы организации масс для маскировки тотального насилия.
Появление Ф. на политич. арене — результат кризиса социально-экономич., политич. и культурного развития бурж. общества, страха правящей буржуазии перед натиском революц. социализма. Ф. «...усиливает свою активность в момент обострения кризиса империализма, когда возрастает стремление реакции применять методы грубого подавления демократических и революционных сил» (Междунар. Совещание коммунистич. и рабочих партий. Док-ты и мат-лы,
1969, с. 322). Неравномерность темпов и форм развития этого кризиса, упадок или неразвитость демократически-парламентских форм политич. жизни, противоречия между степенью идеологич. организованности и уровнем культуры масс, «новейшие» средства мобилизации старых массовых предрассудков — характерные элементы почвы, на к-рой растет Ф. Не случайно Ф. утвердился в условиях наибольшей остроты указанных противоречий, благоприятных для вовлечения сравнительно широких слоев гл. обр. мелкобурж. населения в политпч. акции в качестве «толпы».
При всем известном истории или возможном многообразии фашистских движений (отличающихся друг от друга различными вариантами сочетания военной и парт, диктатуры, террористич. и идеологич. принуждения, национализма и этатизма и т. д.) общим условием их формирования является кризис демократич. форм бурж. гос-ва при отсутствии пли же недостаточности иных эффективных форм регулирования социальных отношений. Свойственная всей эпохе монопо-листпч. капитализма, отмечавшаяся Лениным тенденция к ликвидации или выхолащиванию демократии составляет необходимое условие, при к-ром развивается и идет к власти Ф., к-рый «...начинает с оголтелого антикоммунизма, чтобы, изолировав и разгромив партии рабочего класса, раздробить силы пролетариата и бить их по частям, а затем покончить со всеми другими демократическими партиями и организациями, сделать народ слепым орудием политики капиталистических монополий» (Программа КПСС, 1961, с. 53). Формы Ф. зависят от целого ряда специфических для каждой страны обстоятельств: обострения классовых конфликтов при неспособности бурж. гос-ва воздействовать на них, кризиса бурж. парламентского строя в условиях раскола или деполитиза-ции рабочего класса, значимости нацяоналистич. и реваншистских факторов в идеологич. атмосфере подготовки мировой войны. В Зап. Европе (Германия, Италия) фашистские движения возникали как форма реакции на угрозу социалистич. революции; в Лат. Америке неоднократно складывались близкие к Ф. политич. режимы; в нек-рых странах Азии и Африки возникают известные условия для паразитирования антидемократических, в т. ч. и фашистских, форм на нац. движениях и лозунгах.
Неверно, однако, было бы видеть в Ф. неизбежную стадию социально-политич. развития совр. капитализма. Его господство оказалось возможным лишь в нек-рых странах и в определ. период, хотя присущие Ф. методы массового политич. и идеологич. насилия получили широкое распространение. Установление Ф. свидетельствует как о слабостях рабочего и демократич. движения, так и о неспособности господств, класса — буржуазии — удерживать свою власть демократич. парламентскими методами.
Фашистские режимы соединяют политич. насилие над массами с чрезвычайно интенсивным идеологическим принуждением.
Используя и подогревая исторически сложившиеся предрассудки масс, Ф. навязывает массовому сознанию свои идеологпч. стереотипы (расизм, шовинизм, милитаризм, культ силы и т. д.), стремится заново создать или возродить активную систему идейного и ритуального принуждения. Ф. нарочито отказывается от претензий на «научность» своей идейной опоры, резко разграничивая (не только в пропаганде, но и на практике) систему «полезных» (для гос-ва, нации) знаний и убеждений от «разлагающего объективизма» науч. мышления, пригодного лишь для служебных целей. «Мировоззрение не имеет ничего общего со знанием,— утверждал Геббельс.— Чем больше обо всем знаний, тем — как это часто бывает — меньше решимость выступить в пользу определенного мировоззрения.
ФАШИЗМ
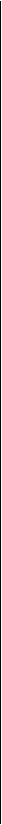 ТИировоззрение — это специфический взгляд на мир, предпосылкой его является подход к событиям под ■одним и тем же углом зрения». По такому же образцу строились рассуждения идеологов итал. фашизма Дж. Джентиле или А. Рокко о вреде «интеллектуализма» для Ф., к-рый опирается на «действие и чувство»; аналогичными суждениями обосновывал свое недоверие к «интеллигентам и интеллигентности» и Гитлер {«человек может умирать лишь за ту идею, которой он не понимает» — цит. по кн.: A d о гп о Т. [а. о.], The autoritarian personality, N. Y., 1950, p. 733). Один из стандартных тезисов фашистских теоретиков состоял в том, что Ф. «не нуждается в доказательствах», поскольку он подтверждается лишь собств. практикой и тем противостоит либеральным или социа-листич. учениям, ищущим своего обоснования в тео-ретич. подходах к обществу.
ТИировоззрение — это специфический взгляд на мир, предпосылкой его является подход к событиям под ■одним и тем же углом зрения». По такому же образцу строились рассуждения идеологов итал. фашизма Дж. Джентиле или А. Рокко о вреде «интеллектуализма» для Ф., к-рый опирается на «действие и чувство»; аналогичными суждениями обосновывал свое недоверие к «интеллигентам и интеллигентности» и Гитлер {«человек может умирать лишь за ту идею, которой он не понимает» — цит. по кн.: A d о гп о Т. [а. о.], The autoritarian personality, N. Y., 1950, p. 733). Один из стандартных тезисов фашистских теоретиков состоял в том, что Ф. «не нуждается в доказательствах», поскольку он подтверждается лишь собств. практикой и тем противостоит либеральным или социа-листич. учениям, ищущим своего обоснования в тео-ретич. подходах к обществу.
Претендуя на «историч.» обоснование своих взглядов, идеологи Ф. ссылались на теорию сильной власти Макиавелли, концепцию общества-гос-ва Гоббса, сакрализацию гос. идеи у Гегеля; для идеологов нем. Ф. наиболее характерны ссылки на органицизм в социологии 19 в., рассматривавший нацию и гос-во как «биологич. организм» (см. Органическая школа в социологии), философию человека у Ницше, псевдоисторизм Г. Трейчке, «социализм» Шпенглера и т. д. На деле из теоретич. наследия Ф. отобрал лишь то, что оказалось пригодным для воздействия на массовое сознание в соответств. условиях; реакц. системы прошлого он взял лишь в их «практически-массовом» значении. Так, аристократич. миф Ницше о «белокурой бестии», «сверхчеловеке», направленный против «толпы», превратился в идеологии Ф. в оправдание тотального подчинения личности «массе», а на деле — фашистской партнйно-гос. машине. Ф. и его идеология — типичный продукт империализма 20 в. Он нуждался прежде всего в идеологии «стадного» типа и конструктировал ее из подручного исторпч. материала. Составными частями идеологии Ф. являются доктрины тоталитарного гос-ва и агрессивного этноцентризма. Ее важным звеном обычно выступает квази-религ. политич. культ.
Тоталитарное го с-в о изображается в фашистской идеологии высшей и универсальной формой обществ, жизни. Подчиняя себе пли включая в себя все прочие формы социальной организации, фашистское гос-во отождествляет себя с «обществом», •«народом», «нацией»; социальные институты, группы, личности имеют право существовать лишь как органы и элементы этого универсального целого. «Для фашизма общество—цель, индивиды —средство, и вся жизнь состоит в использовании индивидов для социальных целей»,— утверждал Рокко («Communism, fascism and democracy», ed. by Cohen, N. Y., 1963, p. 343). По словам Муссолини, «для фашиста все в государстве и ничто человеческое и духовное не имеет ценности вне государства. В этом смысле Ф. тоталитарен, и фашистское государство, синтезируя и объединяя все ценности, интерпретирует их, развивает и придает силы всей жизни народа» (там же, р. 361). Лидеры нем. Ф., ориентировавшиеся на захват территорий чужих гос-в, усиленно подчеркивали «приоритет» нации или народа («фольк») по отношению к гос-ву. «Нация есть первое ж последнее, которому подчинено все остальное» (Rosenberg А., там же, р. 398). На деле от имени «нации» и «народа» выступал фашистский режим, для к-рого ссылки на «мистич.» характер нац. единства служили оправданием тотальной гос. системы, где высшим источником власти выступал вождь, якобы воплощавший волю и дух народа. В строжайше централизованной гос. машине Ф., в к-рой каждый орган отвечал лишь перед вышестоящим, отсутствовало традиционное для бурж. общества разделение властей,
а законодательство и исполнение «законов», судебный и внесудебный террор, административное и идейное принуждение сосредоточивались в одних руках. Доктрина тоталитарного гос-ва исключала автономность к.-л. сфер или ценностей обществ, жизни — религии, морали, нск-ва, семьи и т. д.; все подлежало гос. контролю и регулированию. В этой доктрине не было места для личности вне гос. организации; человек существует лишь как «гос. человек», как принадлежность наличной, т. е. фашистской, социальной машины. Выношенные — и опошленные — бурж. развитием идеи неотъемлемых прав личности, свободы и борьбы мнений и т. д. Ф. отверг с порога. «В государстве не существует больше свободного состояния мыслей,— заявлял Геббельс.— Просто имеются Мысли правильные, мысли неправильные н мысли, подлежащие искоренению...» (Poljakov L., Wulf J., Das Dritte Reich und seine Denker, В., 1959, S. 15).
Волна агрессивного шовинизма, возведенного Ф. в ранг гос. политики и захлестнувшая сравнительно широкие слои населения,— одно из наиболее важных и трудно объяснимых явлений идеологич. климата Ф. В фашистской идеологии ущербные моменты нац. самосознания — этнич. ограниченность, предубеждения, т. н. комплекс неполноценности и т. д.— превращаются в активные факторы массовой пропаганды и политики. «Фашизм — это... неосознанное пробуждение нашего глубокого расового инстинкта»,— утверждал А. Рокко (см. Cohen, указ. работа, р. 335). Соцпально-психологич. структуры, связанные с низшими уровнями обществ, сознания, сформировавшиеся в условиях этнич. разобщенности, Ф. выводит на поверхность идеологии, оформляет при помощи расистских и «органических» теорий. Лозунг нации («народа — нации», тотально организованного политически) выполнял по меньшей мере три функции: 1) обосновывал «классовый мир» и интеграцию общества, противостоящего «зримому врагу», 2) обеспечивал психологич. самоутверждение того среднего слоя, к-рый Ф. превратил в главную массовую опору режима, 3) оправдывал попытку порабощения, а в определ. случаях и поголовного истребления др. народов. В этой политике нашли свое логич. завершение установки Ф., по к-рым «польза» гос-ва или достойного управлять народа («арийцев») является единств. источником моральной оценки и правопорядка. Свобода и существование отд. личностей, этнич. групп, других гос-в не представляют ценности и рассматриваются лишь под углом зрения их «пользы» для этого гос-ва и его идеологии. Эти установки объясняли, в частности, обыденную для нацизма практику скрупулезного холодного расчета эффективности уничтожения людей; расходы на патроны и печи аккуратно сопоставлялись с доходами от труда обреченных, реализации ценных вещей, золы и т. д.
Чудовищные преступления Ф. против человечества — развязывание мировой войны, истребление целых народов, невероятно расчетливая жестокость в отношении пленных и мирного населения и т. д.— осуществлялись при массовом соучастии в этих рационально-планируемых злодеяниях.
Милитаризация всех обществ., в т. ч. идеология., отношений— характерная черта фашистского режима. Ф. рождается в обстановке напряженности, нуждается в ней и создает эту обстановку, поскольку она содействует поддержанию казарменной дисциплины п военно-командных методов управления, оправдывает тотальную мобилизацию, требует отказа от классовых и индивидуальных интересов, самоотречения во имя фикции нац. интеграции. Установка на постоянную «борьбу», притом борьбу со «зримым», т. е. очевидным для обывателя, даже персонифицированным внутренним и внешним врагом (инородная
ФАШИЗМ
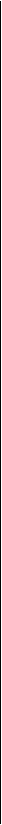 этнич. группа, чужое гос-во) стала образом жизни в условиях Ф.
этнич. группа, чужое гос-во) стала образом жизни в условиях Ф.
Наиболее широко употребляемой формой идеологпч. оправдания Ф. служила «историческая» мифология, превращавшая опыт прошлого в обоснование права на господство «избранной» расы, нации, гос. системы. Откровенно формулировавшаяся цель фашистской историографии состояла в том, чтобы «заново пересмотреть и переписать историю человечества» (Rosenberg A., Der Mythus des XX. Jahrhunderts, Miinch., 1933, S. 4); этот пересмотр сводился к тому, что «избранной» нации и расе приписывалась ведущая роль в гос. строительстве, воен. деле, культуре и т. д. Другой момент «переписывания» истории состоял в изображении фашистского режима «завершающей» стадией социального развития («тысячелетний рейх»).
Выступая душителем революц. и демократпч. движений и прежде всего — коммунистич. движения, Ф. в то же время широко рекламировал свою идеологию как «революционную» и «социалистическую». Ближайшая цель лозунгов такого типа состояла в том, чтобы воспользоваться антикапиталистич. настроениями масс, в частности созданными обстановкой экономпч. кризиса, для ликвидации парламентаризма, констн-туц. свобод и прав личности во имя возвышения фашистского гос-ва. Провозглашая себя «революционным», Ф. стремился использовать определ. лозунги, тактпч. приемы и организац. формы, связанные по своему происхождению с рабочим и освободит, движением. Фашистский «социализм» противопоставлял формальной, парламентской, юридич. системе бурж. гос-ва некий неформальный, бесструктурный, опирающийся не на закон, а на «волю масс, нации, народа», тоталитарный механизм «народного» гос-ва, суда, «фюрера». В определ. мере «социализм» Ф. может оцениваться как идеологпч. реализация шпенглеровского принципа «всеобщего чиновничества»: «Социализм, если рассматривать его с технической точки зрения,— это принцип чиновничества. В конечном счете, каждый рабочий приобретает статус чиновника вместо статуса цродавца. То же самое происходит п с предпринимателем» (Spengler О., Politische Schriften. Preus-sentum und Sozialismus, Miinch., 1933, S. 4).
Венцом всей системы идеологпч. и полнтич. отношений, характерных для Ф., является культ вож-д я, носителя абсолютной верховной власти, облеченного сверхъестеств. полномочиями, стоящего над обществом, над обыденным сознанием, над правом, непосредственно воплощающего в своей персоне «дух нации», «историч. судьбу» и т. п. По утверждению Дж. Джентиле, «вождь выражает словами то, что остается невыраженным в глубине сердца народа» (см. Cohen, указ. работа, р. 382). Этим «доказывалась» абс. правота вождя п требование абс. доверия к нему. Одна из «заповедей» итал. солдата, разработанных фашистской пропагандой, гласила: «10. Муссолини всегда прав». По словам Герпнга, нацисты должны верить, что вождь непогрешим в делах нации, подобно тому, как католпкп верят в непогрешимость папы. Миф о вожде персонифицировал доктрину тотальной идеологии и тотального гос-ва, способствуя ее доведению до массового сознания, в к-ром стремление возложить ответственность за своп судьбы на высочайший личный авторитет фюрера служило закономерным следствием разрушения существовавшей ранее системы идеологпч. отношений и ценностей. Эти «запросы» фашистского режима обусловили отбор и выдвижение на ведущие роли деятелей определенного психологич. типа (параноич. склад психики, уверенность в собств. непогрешимости, мания преследования, авторитарность личности и т. д.). Неизбежные продукты такой ситуации — личный произвол «вождя», к-рый терпит и считает полезным правящая кли-
ка; вождь отвечает надеждам находящихся под еп> влиянием масс, жаждущих авторитета. В лит-ре о-Ф. культ определ. «вождя» иногда служит характеристикой соответствующего режима (гитлеризм, франкизм). Поверхностность подобных точек зрения, игнорирующих социальную природу Ф., очевидна; они фиксируют гл. обр. типичный для Ф. личный произвол, бесспорно накладывающий глубокий отпечаток едва ли не на все стороны деятельности фашистского режима и придающий ему видимость личной диктатуры (диктатор выступает как единств, «личность» во всей: системе). Ф. не сводится к личной тирании «вождя», это сложная иерархич. система организованного массового насилия получает в культе «вождя» свое организационное и идеологпч. завершение. В этом один из важных факторов нестабильности фашистского режима, поскольку устранение вождя может вести к дискредитации всей системы господства Ф. (ср. падение Ф. в Италии в 1943).
По структуре и способам воздействия на массовое-сознание идеология Ф. может быть отнесена к определ. системе религиозных (культовых) отношений. Именно-так рассматривали Ф. многие его создатели -и идеологи. Ф., по словам Муссолини, есть религиозная концепция, в которой человек рассматривается в его-внутренней связи с высшим законом и объективной волей (см. «Fascismo», в кн.: Enciclopedia Italiana, v. 14, Mil., 1932). В Германии А. Розенбергом было организовано «Нем. религ. движение» (Deutsche Religi-onsbewegung), провозгласившее следование нацистской доктрине и «фюреру» высшей культовой нормой. Культовый характер идеологпч. системы Ф. определялся не заявлениями или стремлениями его проповедников, а такими ее чертами, как универсальный мифологизм доктрины, канализация эмоций и — шире — подсознания масс через разветвленный механизм ритуальных действий (символич. шествия, съезды, гимны и т. д.—«коричневый культ»), харизматич. тип лидерства. Особенностью Ф. как идеологпч. системы служит ярковыраженный политич. культ, присущий более древним религиям (непосредств. сакрализация власти вождя, социальной общности, противостоящая персонализму и космополитизму христианства). С этим связаны неизбежные, более или менее сильно выражавшиеся противоречия между Ф. и хрпст. церковью, иногда — известная осторожность-режима в прокламировании своей идеологии (особенно-в Италии, Испании).
Фашистский р е ж и м представляет собой центра-лизованно-перархпч. систему антидемократич. диктатуры, осуществляемой через аппарат массового полнтич. и идеологпч. принуждения и террора. Важнейшими элементами структуры Ф. выступают фашистская партия — единств, полптпч. орг-ция режима, подчиняющая своему контролю или прямо поглощающая органы гос. управления, и широкие по составу массовые многомиллионные орг-цин — проф., молодежные, женские, спортивные и др. В Германии фашистская партия (нем. национал-социалистпч. рабочая партия —НСДАП) насчитывала в сер. 30-х гг. 5 млн. членов. Все рабочие и служащие страны были охвачены орг-цией «трудового фронта» (ок. 30 млн.). Вся молодежь с 10 лет объединялась нацистскими союзами (мальчики 10—14 лет — в «дейчес юнгфольк», 14—18 лет — в «гитлерюгенд», девочки 10—14 лет — в «союз девочек», 14—21 года — в «союз нем. девушек»), насчитывавшими до 10 млн. чел. Система женских, благотворительных, спортивных, научных и др. союзов призвана была провести фашистское влияние вовсе сферы обществ, жизни. В Италии имелась подобная структура (1943): 4770 тыс. членов фашистской партии, 4500 тыс. в трудовых союзах («дополаворо»),. 1200 тыс. в женских орг-циях и т. д. Другую опору
ФАШИЗМ 307
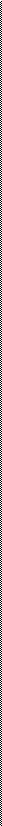 фашистского режима составляла система специализированных органов массового террора: штурмовые отряды, тайная полиция, осведомители, цензоры, тайные суды, концлагеря.
фашистского режима составляла система специализированных органов массового террора: штурмовые отряды, тайная полиция, осведомители, цензоры, тайные суды, концлагеря.
Фашистская партия, являвшаяся центр, звеном политич. механизма Ф., отличается от буржуазно-парламентских партий не только по ориентации, но и по структуре своей деятельности. Подчиняя строго централизованному идейно-политич. контролю миллионы своих членов, фашистская партия делает их практическими и моральными соучастниками действий правящей клики во главе с диктатором; при этом к.-л. влияние партийно-организованной массы на руководство режимом исключено. В своей борьбе за власть фашистская партия получает поддержку опре-дел. групп монополистич. капитала и в то же время активно использует недовольство и брожение масс, в основном средних слоев. Придя к власти п став монополистом в политич. жизни страны, фашистская партия, многочисленными узами связанная с крупным капиталом, служит средством политического контроля над всем обществом и государством. Не «партия правит» в такой системе, а через партию и контролируемые ею массовые орг-цли правит народом и страной узкая клика, сплоченная честолюбием, фанатизмом, подозрительностью и страхом потерять доверие диктатора. Эта функция фашистской партии во многом объясняет ее социальный состав. Если, напр., в гитлеровской партии в 1935 насчитывалось 20% самостоят, хозяев, 13% чиновников, 21% служащих, 32% рабочих и 11% крестьян, то это еще никоим образом не говорит о степени участия соответств. группы в управлении режимом: здесь видно лишь, на кого влиял и через кого проводил свою политику Ф. в Германии. Гос. механизм Ф. в высших своих инстанциях фактически и формально сливается с верхушкой парт, иерархии, парламентские (рейхстаг в Германии) или монархические (в Италии) институты превращаются в простое прикрытие тоталитарного режима. Ликвидируя представительность, разделение властей и всякую открытую политич. борьбу (единственной внутренней ее формой для Ф. являются нескончаемые интриги внутри правящей клики), Ф. сохранил и включил в свою систему чиновничье-бюрократический исполнит, аппарат, военную и полицейскую орг-цип. В то же время при Ф. происходит нарочитая «идеологизация» гос. машины, к-рая объявляется выразителем общего «нац.» духа, а не чьих-либо групповых интересов. Ликвидировав все иные формы полцтпч. и идеоло-гич. организации в обществе, Ф. уничтожил избират. систему, нар. представительство, борьбу мнений; в условиях монополии власти организуемые режимом плебисциты (в Германии в 1934—38) оказывались средством создания атмосферы массовой поддержки Ф. и его «фюрера».
Социальная структура фашистского режима определяется тем, что систехма обществ, разделения труда, сформировавшаяся на совр. этапе капиталистич. развития, находит дополнение и завершение в структуре тоталитарного политич. и ндеоло-гич. механизма. Хотя сами по себе бурж. социалыго-экономич. отношения не претерпевают к.-л. существ, изменений (доля гос.-монополистич. капитала в экономике фашистской Германии не превосходила обычных для совр. капитализма величин), значительно изменились формы и возможности гос. и монополистич. контроля над хозяйством, особенно в условиях войны. Социалыю-экономич. ориентация Ф. предполагает не только гос.-экономия., но прежде всего гос.-идеологич. и политич. регулирование классовых отношений, направленное на подавление классовой борьбы трудящихся. С этой целью проводилось принудит, решение трудовых споров, рассасывание без-
работицы, в частности при помощи мобилизации рабочей силы на сооружение объектов воен. значения, действовала система пособий многосемейным и т. п. меры, имевшие как экономическое, так и идеологич. значение. В то же время происходило (искусственно созданное и раздуваемое пропагандой) смещение всей направленности социальных интересов. Насаждавшееся Ф. представление о непосредств. ответственности каждого перед гос. машиной противопоставлялось «фикции» классовой борьбы, якобы созданной враждебными силами.
Ф. насаждал систему «сотрудничества» рабочих, предпринимателей, специалистов, жандармов и т. д. в качестве служителей «интересов нации». В Германии эта система обеспечивалась трудовой повинностью и гос.-парт, контролем над предприятиями, в Италии — «корпоративным» строем. Совершенствуя средства эксплуатации рабочего класса, Ф. убеждал рабочих ставить превыше всего долг перед «нацией» (т. е. фашистским режимом). Крест, массу Ф. связал системой гос. повинностей, представителей интеллигентного труда (специалисты, художники и др.) превратил в платных н контролируемых слуг тотального гос-ва. В предельно циничной форме использовал Ф. интеллектуальные силы общества. Отрицая всякую претензию науки и интеллекта на ведущую роль, Ф. нуждался в услугах высококвалифицированных специалистов для воен. х-ва, пропаганды и т. д. и умел получать такие услуги. Порожденное прусской дисциплиной, прямым принуждением (исследовательские лаборатории создавались не только в концлагерях, но н в лагерях уничтожения для наиболее эффективного использования направляемых туда науч. сил), подачками п нацпоналистич. угаром служение Ф. определ. части научной н художеств, элиты бурж. «массового» общества — наглядный пример далеко зашедшего отличия дипломированных его слуг от интеллигентов-подвижников и просветителей прошлого. «Прусский учитель», к-рый, по известному изречению Бисмарка, победил под Садовой, стал аккуратным строителем газовых камер, квалифицированным лакеем режима и одной нз важнейших его опор (из всех социальных групп учителя в наибольшей мере — на 30% — были вовлечены в НСДАП).
В различных слоях общества Ф. встречал более или менее интенсивное сопротивление; особую роль играли подпольные группы, руководимые коммунистами. Глубокая внутр. нестабильность Ф. как режима нашла наиболее резкое выражение в том, что условием сохранения его господства было нагнетание военной напряженности и развязывание мировой войны, в которой фашистские режимы Германии и ее сателлитов были уничтожены. Лишенный милитаристских стимулов Ф. (напр., в Испании) ведет к стагнации экономич. н политич. жизни; тем самым режим обрекает себя на разложение и перерождение.
Поражение фашистских гос-в во второй мировой войне под ударами Советской Армии и сил союзников и последующее развитие двух систем на междунар. арене показали бесперспективность Ф. в тех его формах, к-рые сложились в 20—30-х гг. в Италии и Германии, но отнюдь не ликвидировали фашистских тенденций и течений в капиталистич. странах. Наследием гитлеризма служат неонацистские движения в ФРГ и др. странах. Коммунистпч. движение, как указывается в документах Междунар. совещаний марксистско-ленинских партий, считает актуальной задачей борьбу против опасности Ф., учитывает возможности появления новых его форм.
Анализ Ф. как социального явления представляет одну из актуальных задач социологии и социальной психологии. Марксистский подход к проблеме Ф. был выработан КПСС и мировым коммунпстич. движением
308 ФЕДОР АТЕИСТ—ФЕДОРОВ
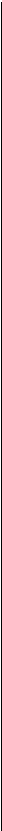 после преодоления нек-рых ошибок, связанных с недооценкой опасности Ф. как особой формы бурж. строя. Принципиальная оценка Ф. как террористич. диктатуры бурж. реакции была изложена в докладе Г. М. Димитрова на 7-м конгрессе Коминтерна, выразившем ориентацию коммунпстпч. движения на создание единого демократич. антифашистского фронта. Тем самым была создана предпосылка для правильного понимания идеологии и политич. структуры Ф., для выяснения каналов его воздействия на массовое сознание. При совр. многообразии «рассеянных» форм Ф. особенно важным становится понимание всего комплекса социальных, политических, личностных и др. условий появления фашистских тенденций; такой анализ приобретает все большее значение для определения наиболее эффективных путей борьбы с Ф. и сплочения всех демократич. и прогрессивных сил в единый антифашистский фронт. «Борьба против фашистских режимов является существенной частью действий против империализма, за демократические свободы. Общая задача всех демократов, всех сторонников свободы, независимо от их политической позишпт, мировоззрения и религиозных убеждений,— увеличивать реальную поддержку национальным прогрессивным силам, борющимся против таких очагов реакции и фашизма, как правительства Испании и Португалии, реакционная хунта полковников в Греции, военно-олигархические клики в Латинской Америке, против всех тиранических режимов, состоящих на службе империализма США» (Междунар. совещание коммунистич. и рабочих партий. Док-ты и мат-лы, 1969, с. 323).
после преодоления нек-рых ошибок, связанных с недооценкой опасности Ф. как особой формы бурж. строя. Принципиальная оценка Ф. как террористич. диктатуры бурж. реакции была изложена в докладе Г. М. Димитрова на 7-м конгрессе Коминтерна, выразившем ориентацию коммунпстпч. движения на создание единого демократич. антифашистского фронта. Тем самым была создана предпосылка для правильного понимания идеологии и политич. структуры Ф., для выяснения каналов его воздействия на массовое сознание. При совр. многообразии «рассеянных» форм Ф. особенно важным становится понимание всего комплекса социальных, политических, личностных и др. условий появления фашистских тенденций; такой анализ приобретает все большее значение для определения наиболее эффективных путей борьбы с Ф. и сплочения всех демократич. и прогрессивных сил в единый антифашистский фронт. «Борьба против фашистских режимов является существенной частью действий против империализма, за демократические свободы. Общая задача всех демократов, всех сторонников свободы, независимо от их политической позишпт, мировоззрения и религиозных убеждений,— увеличивать реальную поддержку национальным прогрессивным силам, борющимся против таких очагов реакции и фашизма, как правительства Испании и Португалии, реакционная хунта полковников в Греции, военно-олигархические клики в Латинской Америке, против всех тиранических режимов, состоящих на службе империализма США» (Междунар. совещание коммунистич. и рабочих партий. Док-ты и мат-лы, 1969, с. 323).
Лит.: Программа КПСС (Принята XXII съездом КПСС),
М., 1967; Димитров Г. М., В борьбе за единый фронт
против фашизма и войны, м., 1937; Ульбрихт В., К ис
тории новейшего времени, пер. с нем., т. 1, М., 1957; Итоги
второй мировой войны. Сб. ст., пер. с нем., М., 1957; Доку
менты совещания представителей коммунистич. и рабочих
партий, М., I960; Галкин А. А., Фашизм и буржуазное
об-во (Политич. и социальные корни германского фашизма),
М., 1966 (Дисс); его же, Германский фашизм, М., 1967;
Замошкин Ю. А., Митрохин Л. Н., Социально-
психологич. корни антикоммунизма в США, «ВФ», 1966,
N° 10; Бурлацкий Ф. М., Это не должно повториться.
Социологич. заметки об идеологии Ф., М., 1967; Л о пу
хов Б., Фашизм и рабочее движение в Италии, М., 1968;
Neumann Г., Behemoth. The structure and practice of
national socialism, Toronto, 1942; В а у 1 e F., Psychologie
et ethique du national-socialisme, P., 1953; Lukacs G.,
Die Zerstorung der Vernunft, В., 1955; Chaveau H., Les
origines du fascisme, «Cahiers du communisme», 1958, № 7;
G a m m H.-J., Der braune Kult, Hamb., 1962; N о 1 t e E.,
Der Faschismus in seiner Epoche, Munch., 1963; Aquarone
A., L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 1965;
Salvemini G., Le origini del fascismo in Italia, Mil.,
[1966]; A r e n d t H., The origins of totalitarianism, N. Y.,
1966; Schoenba um D., Hitler's social revolution. Class and
status in Nazi Germany. 1933—1939, N.Y., 1966; Bauer O.
[u. a.], Faschismus und Kapitalismus. Theorien iiber die sozialen
Urspriinge und die Funktion des Faschismus, Fr./M., 1967;
Theorien iiber den Faschismus, Koln—В., 1967; Weiss J., The
fascist tradition. Radical right-wing extremism in modern Europe,
N. Y. — [a. o.j, 1967; С a r s t e n F. L., The rise of fascism,
Berk.—Los. Ang., 1967; Bibes G., Le fascisme italien. Etat
des travaux depuis 1945, «Revue francaise de science politique»,
1968, № 6. Ю. Левада. Москва.
ФЁДОР ATEPlCT (беёбсорое "Afleog) (4 в. до н. э.) —
др.-греч. философ, родом из Кирены, представитель киренской школы; склонялся к скептицизму. В области этики, в отличие от Аристиппа, Ф. А. учил, что мотивом поступков, высшим благом и целью жпзни должны быть не кратковременные чувств, наслаждения, а длительная душевная удовлетворенность, радость, связанная преим. с познанием, разумением или мудростью. Поэтому мудрость есть благо, а отсутствие ее — зло. Удовольствие и страдание занимают среднее положение между мудростью (добром) и глупостью (злом), но в зависимости от обстоятельств и отношения к ним они могут стать и тем и другим. Ф. А. считал, что мудрец не нуждается в друзьях, дружбе и долге, а также в отечестве, т. к. отечеством
является весь мир. В соч. «О богах», от к-рого до нас дошло лишь название, Ф. А. отрицал бытие богов, или, во всяком случае, отвергал нар. представления о богах.
Лит.: Гомперц Т., Греч, мыслители, пер. с нем.;
т. 2, СПБ, 1913, с. 181 — 83; История философии, т. 1, М.,
1940, с. 151. Ф. Иессиди. Москва.
ФЕДОРЁНКО, Евгений Григорьевич [р. 25 июля (7 авг.) 1903] — сов. украинский философ, д-р филос. наук (с 1963), профессор (с 1963). Член КПСС с 1932. Окончил историч. фак-т Одесского ун-та (1933), аспирантуру Киевского ун-та (1941). С 1932 — на преподавательской работе. Зав. кафедрой философии Киевского мед. пн-та (с 1963). Ответств. редактор сб. «Филос. вопросы медицины и биологии» (с 1965). Область науч. исследований — историч. материализм, этика, методологич. проблемы естествознания (медицины).
Соч.: Радянська держава — головне знаряддя побудови комушзму в СРСР, «Наук. зап. КиТвськ. ун-т. 36ipmiK фьтос.», 1954, т. 13, вып. 11, № 1; Про роль народних мае i особи в icTopi'i, К., 1957; Коммунистич. нравственность, К., 1958; Етика, в кн.: Укра'шська радянська енциклопед!я, т. 4, К., 1961; Мораль комушетична, там же, т. 9, К., 1962; Моралью основи радянсько'! ciM'i, К., 1963; Основы марксистско-ленинской этики, [К.], 1965.
ФЁДОРОВ, Николай Федорович (1828-15 дек. 1903)— рус. религ. мыслитель-утопист. «Незаконный» сын кн. П. И. Гагарина и пленной черкешенки. Был учителем в провинции, затем библиотекарем Румянцевского музея (1874—98). Ведя аскетич. жизнь, считая грехом всякую собственность, хотя бы на идеи и книги, Ф. при жизни ничего не опубликовал. Его ученики В. А. Кожевников и Н. П. Петерсон издали избранные отрывки и статьи Ф. под назв. «Философия общего дела» (т. 1, Верный, 1906; 2 изд., т. 1, вып. 1—3, Харбин, 1928—30; т. 2, М., 1913; рукописное наследие Ф. хранится в Гос. библиотеке СССР им. Ленина). Идеи Ф., почти неизвестные при его жизни, вызывали, однако, особый интерес у таких людей, как В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский (к Ф. восходит замысел «Братьев Карамазовых»).
Ф. воплотил в себе противоречия рус. утопич. мысли. В центральной у Ф. идее преодоления смерти н всеобщего спасения соединились подспудные духовные течения в рус. крестьянстве, связанные с радикальным антицерк. сектантством, и наивная беспредельная вера шестидесятника-разночинца в спасающую силу техники (можно отметить связь его взглядов с идеями масонства об идеальном мироустроении по архитектурному чертежу — «проекту». См. ст. «Астрономия н архитектура», «Весы», 1904, № 2). Невозможность для Ф. примириться с гибелью хотя бы одного человеч. существа на земле приводит его к разрыву и с традиц. христианством, и со всей совр. цивилизацией. Для Ф. хрпст. идея личного спасения противоположна делу всеобщего спасения и потому безнравственна: нужно жить не для себя (эгоизм) и не только для других (альтруизм), но со всеми и для всех. Это — союз живущих (сыновей) для воскрешения умерших (отцов) (см. «Философия общего дела», т. 2, с. 8). Ф. относит к «отцам лжи» Сократа («познай самого себя» Ф. толкует как призыв думать только о себе); Декарта, ибо тот считал критерием истины мышление, а не коллективное действие; Канта, отделившего теоретич. разум от практического, веру — от дел, но в особенности — «антихриста» Ницше, в к-ром «совершился страшный суд западной философии» и воля к воскрешению отцов извратилась в активную волю к истреблению. Т. о., Ф. далеко превзошел славянофилов в своем неприятии Запада («царства ренегатов сыновьего дела»). Подобно славянофилам, Ф. видит в патриархальности России залог ее особой историч. миссии: Россия начнет дело всемирного воскрешения. Фантастич. концепция самодержавия Моск. Руси (царь — заместитель бога-отца) у Ф.— доведенное
ФЕДОРОВ—ФЕДОТОВ 309
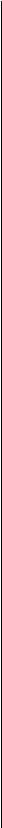 до абсурда славянофильство и «почвенничество». Ф.— враг всяких личных привилегий как источника вражды и обособления, всех формально-гражданских отношений как неродственных и, следовательно, злых; враг города (этой «совокупности небратских состояний»). Культ предков — «всемирный культ всех отцов» — единственная основа религии (см. там же, т. 1, с. 46). Ф. считал необходимым создать центры, которые изучали бы научно-технические приемы «...управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов...» (там же, с. 442), а также организовать «трудовые армии» и направить их на дело воскрешения. (Противник войн, Ф. тем не менее склонялся к военно-дисциплинарной организации «общего дела».) Исходя из христ. доктрины о первородном грехе и искуплении мира Христом, Ф. видит в ней залог воскрешения собств. усилиями объединившегося человечества, к-рое тем самым как бы не нуждается в благодати. При этом Ф. надеялся связать теургию (богодейст-вне) и технологию. «Проект» научно-позитивного воскрешения противостоит и «нечувствню неправды смерти» — гл. греху всей культуры, и надеждам на сверхъестественное воскресение. Исходная точка программы Ф.— обратить вспять основную ложную направленность человека к рождению детей, ведущую к дурной множественности и дурной бесконечности. Дети, получая жизнь от отцов, обязаны, в свою очередь, воскресить, «родить» своих отцов. Таким путем будет побеждена смерть, подчинение человеком себя слепой, разлагающей силе природы. Человечество обратит природу в орудие всеобщего воскрешения и станет союзом бессмертных существ, «церковью воскресших», создав земной рай в масштабе Вселенной.
до абсурда славянофильство и «почвенничество». Ф.— враг всяких личных привилегий как источника вражды и обособления, всех формально-гражданских отношений как неродственных и, следовательно, злых; враг города (этой «совокупности небратских состояний»). Культ предков — «всемирный культ всех отцов» — единственная основа религии (см. там же, т. 1, с. 46). Ф. считал необходимым создать центры, которые изучали бы научно-технические приемы «...управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов...» (там же, с. 442), а также организовать «трудовые армии» и направить их на дело воскрешения. (Противник войн, Ф. тем не менее склонялся к военно-дисциплинарной организации «общего дела».) Исходя из христ. доктрины о первородном грехе и искуплении мира Христом, Ф. видит в ней залог воскрешения собств. усилиями объединившегося человечества, к-рое тем самым как бы не нуждается в благодати. При этом Ф. надеялся связать теургию (богодейст-вне) и технологию. «Проект» научно-позитивного воскрешения противостоит и «нечувствню неправды смерти» — гл. греху всей культуры, и надеждам на сверхъестественное воскресение. Исходная точка программы Ф.— обратить вспять основную ложную направленность человека к рождению детей, ведущую к дурной множественности и дурной бесконечности. Дети, получая жизнь от отцов, обязаны, в свою очередь, воскресить, «родить» своих отцов. Таким путем будет побеждена смерть, подчинение человеком себя слепой, разлагающей силе природы. Человечество обратит природу в орудие всеобщего воскрешения и станет союзом бессмертных существ, «церковью воскресших», создав земной рай в масштабе Вселенной.
В оценке Ф. в филос. лит-ре существует разнобой. Кроме федоровцев, о нем писали только философы религ.-церк. направления. В. Зеньковский, С. Булгаков пытались представить Ф. христ. мыслителем. Между тем пророчества христианства Ф. принимает условно: если люди не воскресят себя сами, они будут воскрешены насильственно — для суда. С большим основанием др. православный теолог Г. Флоров-ский находит у Ф. программу «гуманистического активизма» (см. «Пути русского богословия», Париж, 1937, с. 327). Н. А. Бердяев отмечал враждебность Ф. спиритуализму, его поразительную нечувствительность к границе между материальными духовным.
Ныне распространяющаяся за рубежом версия (идущая от Н. А. Сетницкого, см. «Капиталнстич. строй в изображении Н. Ф. Федорова», Харбин, 1926) гласит о близости «титанических» упований Ф. к сов. пафосу борьбы с природой, овладению космосом; отмечается связь филос. идей К. Э. Циолковского с идеями Ф.
Лит.: Кожевников В. А., Н. Ф. Федоров, ч. 1, М., 1908; Соловьев В. С, Письма к Н. Ф. Федорову, в кн.: Письма В. С. Соловьева, т. 2, СПБ, 1909; Петер-сон Н. П., Н. Ф. Федоров и его книга «Философия общего дела» в противоположность учению Л. Н. Толстого «о непротивлении» и другим идеям нашего времени, Верный, 1912; Вселенское дело. [Сборник], вып. 1, Одесса, 1914; Бердяев Н., Религия воскрешения. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова, «Рус. мысль», 1915, [кн. 7], с. 75—120; его ж е. Три юбилея, [ч.] 3— Н. Ф. Федоров, «Путь», 1928, №11; его же, Русская идея, Париж, 1946, гл. 9; О с т-ромир о в А., Н. Ф. Ф. и современность, вып. 1—4, Харбин, 1928—33; Горностаев А. К., Рай на земле. К идеологии творчества Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров, [Харбин], 1929; Ильин В., Религ.-филос. воззрения П. Ф. Федорова, «Евразийский сборник», 1929, вып. 6; Версты, т. 3, Париж, 1928 (спец. т. посвящен Н. Ф. Федорову); Флоровский Г., Проект мнимого дела, «Совр. записки», Париж, 1935, [т.] 59; Г о р ь к и й А. М., Еще о механич. гражданах, Собр. соч., т. 24, М., 1953; его ж е, О женщине, там же, т. 25, М., 1953; его же, Письма, в кн.: Лит. наследство, т. 70, М., 1963; Л о с с к и й
Н. О., История русской философии, пер. с англ., М., 1954;
Зеньковский В. В., История русской философии,
т. 2, М., 1956, с. 131—47. Д. Ляликов. Москва.
ФЕДОСЕЕВ, Николай Евграфович [27 аир. (9 мая) 1871—21 июня (3 июля) 1898] — рус. марксист, организатор и руководитель первых марксистских кружков в России. Род. в г. Нолинске Вятской губ. в дворянской семье. За участие в революц. движении в 1887 был исключен из казанской гимназии. В 1889 был арестован и до конца жизни находился в тюрьмах и ссылках. Несмотря на это, Ф. был связан с марксистами различных городов, направлял их работу, принимал непосредств. участие в рабочих собраниях (г. Орехово-Зуево). В своих статьях и письмах давал марксистский анализ экономич. и политич. развития России и критику народничества, либерализма, толстовства. Одним из первых рус. марксистов Ф. вступил в полемику с Н. Михайловским. На этой почве началась переписка Ф. с Лениным, к-рый высоко ценил роль Ф. в революц. движении: «...роль, сыгранная Федосеевым, была... замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» (Соч., т. 33, с. 415).
Соч.:" Статьи и письма, М., 1958.
Лит..: Ленин В. И., Несколько слов о Н. Е. Федосееве, Соч., 4 изд., т. 33; ГЦ е п р о в С, Выдающийся революционер Н. Е. Федосеев, М., 1958.
ФЕДОСЕЕВ, Петр Николаевич (р. 22 авг. 1908) — сов. философ, обществ, деятель. Академик (с 1960), член Президиума АН СССР, почетный член АН Венг. Народной Республики. Член КПСС с 1939. Окончил Горьковский педагогич. ин-т (в 1930). В 1936 — 41 — науч. сотрудник Ин-та философии АН СССР. В 1941 — 1955 работал в аппарате ЦК КПСС, а также гл. редактором журн. «Большевик», «Партийная жизнь», заведовал кафедрой диалектнч. материализма Академии обществ, наук при ЦК КПСС. С 1946— член-корр. АН СССР. В 1955—62— директор Ин-та философии АН СССР. В 1959—62— академик-секретарь Отделения экономических, философских и правовых наук. В 1962—67— вице-президент АН СССР. С 1967— директор ИМЭЛ при ЦК КПСС. Член ЦК КПСС с 1961, депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, пред. правления Об-ва советско-венг. дружбы (с 1958). Член редколлегии «Философской энциклопедии» и журн. «Вопросы философии». Область науч. деятельности Ф.— проблемы историч. материализма и науч. коммунизма, филос. проблемы науки, науч. атеизм, критика совр. буржуазной философии и социологии.
Соч.: Как возникло человеческое об-во, [М.], 1934; Марксизм-ленинизм о религии и ее преодолении, [МЛ, 1941; «Манифест Коммунистич. партии» Маркса и Энгельса и мате-риалистич. понимание истории, М., 1948; Производительные силы и производств, отношения социалистич. об-ва, М., 1955; Роль народных масс и личности в истории, М., 1956; Социализм и гуманизм, М., 1958; Совр. социологич. теории о войне и мире, в кн.: Историч. материализм и социальная философия совр. буржуазии, М., 1960; Коммунизм и философия, М., 1962; Гуманизм в совр. мире, в сб.: Человек и эпоха, М., 1964; Основы марксистской философии, 2 изд., М., 1964 (соавтор); Диалектика совр. эпохи, М., 1966; Марксизм и волюнтаризм, М., 1968; Основы науч. коммунизма, 3 изд., М., 1968 (соавтор); В. И. Ленин и вопросы теории иск-ва, М., 1968.
ФЕДОТОВ, Георгий Петрович (1 октября 1886 — 1 сентября 1951) — рус. религ. мыслитель, философ культуры, историк и публицист. В 1904—06 участвовал в революц. с.-д. движении. Окончил Петербургский ун-т, специализировался по истории ср. веков (ученик И. В. Гревса). Приват-доцент Петербургского ун-та (1914—18), проф. Саратовского ун-та (1920—22). С 1925 — за рубежом; проф. Богословского ин-та в Париже (1926—40) и Православной академии в Нью-Йорке (1943—51). Сотрудничал в
 2015-05-06
2015-05-06 334
334








