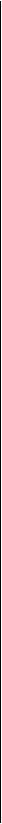 Экономич. взгляды и социализм. Под влиянием социалпстич. доктрин, роста стихийной освободит, борьбы крестьян, а также первых самостоят, выступлений рабочего класса Ч. сформировался как идеолог крест, демократии, один пз основоположников рус. народничества. Социализм был для Ч. единственно последоват. формой демократизма. Продолжая ре-волюц.-демократич. традиции рус. обществ, мысли, программа Ч. представляла собой попытку, вслед за Герценом, найти решение нац. задач России на пути некапиталистич. развития. Отличаясь шпротой ц радикализмом в постановке «российской проблемы», концепция Ч. во многом предвосхищает те вопросы социальной теории и политпч. практики, к-рые были научно разработаны в марксизме.
Экономич. взгляды и социализм. Под влиянием социалпстич. доктрин, роста стихийной освободит, борьбы крестьян, а также первых самостоят, выступлений рабочего класса Ч. сформировался как идеолог крест, демократии, один пз основоположников рус. народничества. Социализм был для Ч. единственно последоват. формой демократизма. Продолжая ре-волюц.-демократич. традиции рус. обществ, мысли, программа Ч. представляла собой попытку, вслед за Герценом, найти решение нац. задач России на пути некапиталистич. развития. Отличаясь шпротой ц радикализмом в постановке «российской проблемы», концепция Ч. во многом предвосхищает те вопросы социальной теории и политпч. практики, к-рые были научно разработаны в марксизме.
Ч. отмечал сдвиги в социальной ситуации сер. 19 в. по сравнению с эпохой бурж. революций, когда еще можно было говорить о единстве интересов народа и «среднего сословия» — буржуазии. В 19 в. интересы «среднего сословия» полностью разошлись с интересами «простолюдинов», так что в Англии они уже ведут себя «...как две разные партии», а во Франции «...ненависть между простолюдинами и средним сословием... произвела в экономической теории коммунизм» (Полн. собр. соч., т. 7, 1950, с. 39). Изучение полптич. экономии и новейшей истории приводит Ч. к мысли, что корни противоположности между бедными и богатыми, «высшим сословием» и «простолюдинами» в совр. обществе лежат в каппталнстнч. частной собственности. Имея в виду экономич. работы Ч., Маркс назвал его великим рус. ученым и критиком, мастерски выявившим несостоятельность бурж. политэкономии (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 23, с. 17—18).
Критикуя бурж. политич. экономию, Ч. устанавливает относительный, исторически ограниченный характер капиталистич. произ-ва (см. Полн. собр. соч., т. 9, 1949, с. 412—13). Крупное произ-во, меняющее коренным образом «характер производительных процессов», а вместе с ним и «характер труда», вскрывает несоответствие «формы наемного труда» потребностям экономич. развития общества. Изменить ситуацию можно лишь путем трансформации существующей экономич. структуры произ-ва в направлении «формы товарищества». Социализм для Ч.— это формула наиболее эффективного устранения пороков существующей экономич. формы, однако, будучи социалистом-утопистом,Ч. рассматривает социализм не как обществ, закономерность, а лишь как рацион, экономич. устройство, выгодное для большинства общества.
Философская и социологич. концепция. Новый подход к вопросам истории и общества Ч. связывает с антропологич. материализмом Фейербаха, к-рого считает отцом новой философии. Преодоление Фейербахом гегелевской системы представляется Ч. наиболее полной и радикальной критикой идеализма и метафизики. В лице Фейербаха класснч. нем. философия совершила самоотрицание, «...сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцен-дентальности и, признав тождество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теориею естествоведения и антропологиею» (там же, т. 3, 1947, с. 179). Видя заслугу классич. нем. философии в том, что она сформулировала прежде всего идею единства законов, Ч. считает, что совр. естествознание доказывает это единство уже не умозрительно, а «...посредством самого точного анализа фактов...» (см. там же, т. 7, с. 254). Применительно к антропологии единство законов природы означает, по Ч., единство «натуры человека», признание того, что явления «материального порядка» и «нравственного порядка», несмотря на их различие, не противоречат друг другу.
Проблемы теории познания разрабатываются Ч. ■(особенно в 70—80-х гг.) гл. обр. в связи с критикой аг-
ностицизма. Сторонник Фейербаха, Ч. утверждал, что как формы чувств, восприятия, так и законы мышления сходны с формами объективно-реального существования предметов. Понимание Ч. практики как критерия истинности знания — важный шаг вперед в матерпалистич. гносеологии сравнительно с тео-ретико-позиават. концепциями Герцена и Белинского. Ч. ценит общее «...всей немецкой философии со времени Канта...» воззрение на истину как на «...верховную цель мышления» (там же, т. 3, с. 207) п даже усматривает в диалектич. методе Гегеля свод правил научного, объективного познания, благодаря к-рым «...являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета» (там же); однако диалектика как логика, как теория познания остается за пределами его теоретич. интересов.
Социологич. учение Ч. исходит из антропологического принципа в его применении к «нравственным», т. е. обществ, наукам. «...Основанием всему, что мы говоримо какой-нибудь специальной отрасли жизни,— писал он,—...должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней побуждениях к деятельности и ее потребностях» (там же, т. 9, с. 829). Согласно этой установке индпвпд есть первичная реальность, несущая в себе все свойства «человеческого», а общество представляется как множество отд. людей, взаимодействующих друг с другом. Законы существования общества выводятся как производные от законов частной жизни людей. Критерий эффективности обществ, системы — возможность для индивида реализовать изначальные устремления своей «натуры». Исходя из этих идей, Ч. критикует современную ему социальную науку за отвлеченный морализм и односторонний психологизм, игнорирование материальных человеч. потребностей, имеющих «великую важность» (см. там же, т. 4, 1948, с. 740). Разрешение противоречия между потребностями человека «вообще» н социальными условиями его деятельности для Ч. не просто акт теоретич. разума, но прежде всего практич. необходимость изменить условия присвоения благ, реформировать отношения собственности. Антропологич. принцип выступает у Ч. принципом критики и теоретич. преодоления бурж. науки, хотя Ч. и не в силах еще последовательно провести метод историзма, преодолеть точку зрения абстрактной «нормы», субъективного долженствования.
Антропологизм впервые, как кажется Ч., дает всеобщий критерий науч. построения, к-рый Ч. усматривает в соответствии теории с «требованиями человеческой природы», с интересами «человека вообще», «без всяких подразделений». Общечеловеч. интерес, по Ч., находит свое воплощение в интересе большинства общества, т. е. в требованиях «простолюдинов», трудящихся классов. Т. о., «антропологич. принцип» в «нравственных науках», по мысли Ч., при последоват. его проведении совпадает с принципами социализма.
Ч. полагает, что принадлежность людей к миру природы достаточно жестко детерминирует «сущность» человека, равно как и «сферу человеческих побуждений к действию». Никакой иной «натуры» кроме той, к-рая подразумевается биопсихич. конституцией индивида, у людей нет и быть не может. Принципиальным свойством человеч. «натуры» Ч. вслед за франц. просветителями 18 в. и Фейербахом считает стремление к удовольствию. В своей повседневности человек руководствуется выгодой, «расчетом пользы», и из этой установки рождается воля к действию. Иначе говоря, какие бы цели человек ни выставлял на передний план в своих действиях, он верен собств. «натуре» — «...поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
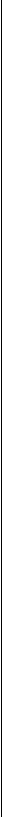 большей выгоды, большего удовольствия» (там же, т. 7, с. 285). Принцип интереса, «расчета», «обычая» Ч. кладет в основу нового, антропологич. понимания истории, к-рое кажется ему последовательным преодолением идеалистического. Однако на деле антропология Ч. оставалась, по словам Ленина, лишь неточным, слабым «описанием материализма», не поднявшимся до анализа обществ, природы человека и обществ, стимулов его деятельности (см. Соч., т. 38, с. 72).
большей выгоды, большего удовольствия» (там же, т. 7, с. 285). Принцип интереса, «расчета», «обычая» Ч. кладет в основу нового, антропологич. понимания истории, к-рое кажется ему последовательным преодолением идеалистического. Однако на деле антропология Ч. оставалась, по словам Ленина, лишь неточным, слабым «описанием материализма», не поднявшимся до анализа обществ, природы человека и обществ, стимулов его деятельности (см. Соч., т. 38, с. 72).
Учение об и стор и ч. процессе. Исто-рич. наука для Ч. не исчерпывается простым объяснением отд. фактов в строго детерминированном ходе событий. Знание законов истории он стремится превратить в программу практич. деятельности, разрабатывает на его основе политику и мораль. Социальный оптимизм обосновывается у Ч. наличием в истории постоянно действующих законов, сопоставимых с законами естествознания. Таков «закон прогресса», к-рый, по Ч., является «чисто физической необходимостью». Ритм социального развития подразумевает, правда, и регрессивные периоды, но они становятся «...все менее и менее продолжительными...» (Полн. собр. соч., т. 9, с. 616). Прогресс Ч. связывает с развитием науки: «...создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям» (там же, т. 4, с. 5). Однако, переходя к анализу механизма конкретных историч. ситуаций, Ч. задумывается о том, что эгоизм, тщеславие, узкокорыстные интересы, традиции и закостеневшие догмы, пожалуй, влияют на ход событий гораздо больше, чем разум и добрая воля, что во всемирной истории действовали до сих пор по преимуществу слепые стихийные силы, к-рые только должны еще получить рацион, направление.
Выдвинув «расчет личной выгоды» в качестве одного из «главных руководителей человека», Ч. преодолевал границы традиц. миросозерцания, принимавшего выставляемые напоказ идеальные побудит, мотивы за конечные причины историч. событий. В своих историч. трудах (Предисловие к рус. переводу «Всемирной истории» Шлоссера, «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Франция при Людовике-Наполеоне», «Июльская монархия», «Граф Кавур» и др.) Ч. вскрывает подлинные пружины политич. событий, показывая, насколько мало действит. стремления партий определялись их офиц. лозунгами. Ч. сумел рассмотреть классовое деление современного ему общества и в столкновении интересов эксплуататоров и эксплуатируемых, капитала и труда увидеть самый глубокий мотив обществ, борьбы. Выступление пролетариата в 1848, несмотря на его кратковременность, знаменовало для Ч. начало новой эпохи в истории — эпохи самостоят, действия нар. масс. Впервые у «массы простонародья» или, по крайней мере, «...у довольно больших отделов ее...», констатирует Ч., проявились еще неясные, неосознанные тенденции «...к коренному ниспровержению существующего экономического порядка, тенденции, казавшиеся сходными с коммунизмом» (там же, т. 9, с. 348). Трезвый мыслитель, Ч. понимал, что в лице «работников» европ. народы делают самые первые шаги в борьбе за новое экономич. устройство, что «...главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности» (там же, т. 7, с. 666). Объем работы, связанной с введением в жизнь социалистам, начал, настолько громаден, что нельзя обольщаться надеждами на скорое торжество нового обществ, строя. Тем не менее, считает Ч., начало уже положено: движение масс стало реальным фактором, к-рый историч. теория должна осмыслить и постоянно учитывать. Превратить эти догадки в стройную науч. концепцию Ч. не может:
его мысль непрерывно наталкивается на противоречия, связанные с трудностью понять в российских условиях специфич. природу пролетариата и выделить в нерасчлененности российского социального целого гл. субъект историч. процесса. Образуется порочный круг: Ч. знает, что гл. источником бедствий масс является эксплуататорский строй, обрекающий большинство народа на темноту и невежество. Однако движение масс только тогда может добиться успеха и уничтожить существующий порядок, когда «низший класс» приобретет «привычку мыслить», способность судить о вещах «своим умом по своим интересам». Пытаясь разорвать эту замкнутую цепь причин и следствий, Ч. обращается к просвещению и постулирует решающую роль науч. знания в историч. процессе; в то же время он признает, что «...мысль сама по себе слишком слаба перед тяготением действительности, убеждение в огромном большинстве людей оказывается бессильно перед житейскими надобностями» (там же, т. 9, с. 483). Эти трагич. противоречия отражали не столько личную непоследовательность Ч., сколько (и гл. обр.) бессилие всего домарксовского материализма решить проблему историч. деятельности масс вне и помимо классовой борьбы пролетариата.
Опыт революций показал Ч., что в жизни каждого народа бывают «минуты энергических усилий, отважных решений», когда невежеств. массы поднимаются на самоотверженную борьбу. Каким бы кратким по времени ни был революц. период, чем бы он ни завершился, именно этим минутам обязано общество своим движением вперед (см. там же, т. 6, 1949, с. 11—12). Революц. периоды для Ч.— это время историч. творчества, когда «...делается девять десятых частей того, в чем состоит прогресс...» (там же, с. 13). Вместе с тем мысль Ч. напряженно работает над разгадкой парадокса историч. прогресса, когда после кратковременного успеха массы прокладывают путь господству нового эксплуататорского класса. События итал. Рисорджименто и победа партии Кавура убедили его в том, что «люди крайних мнений... работают не в свою пользу». Хотя общество продвигается вперед именно усилиями решит, прогрессистов, плоды победы, как правило, достаются «умеренной партии». Верный своему антропологич. принципу, он усматривает причину этого явления в господстве «рутины» над жизнью большинства (см. там же, т. 7, с. 670—71). Революция требует инициативы и огромного духовного напряжения, к чему не привыкло большинство. В результате — усталость, апатия массы благоприятствуют победе людей типа Кавура — людей «партии рутины». Наиболее радикальные деятели скоро утомляют массу своим активизмом и «сложностью» и отбрасываются ею как «...не соответствующие неопределенности ее тенденций, вялости ее желаний» (там же, с. 672).
Понимание Ч.«парадокса революций», однако, не приводит его к пессимистич. прогнозам. Сложный, маят-никообразный характер историч. прогресса, движение с рецидивами, с громадной растратой сил, когда «грошовый результат достигается не иначе, как растратой миллионов», служит для Ч. основанием для трезвого — «сурового взгляда» на течение историч. дел п «перспективы близкого будущего».
Теория общинного социализма. Социализм как ведущая тенденция всемирно-историч. развития, по Ч., представляет собой фокус современности. В 19 в., пишет он, уже невозможно одновременно считать себя современным ученым и «...сомневаться в окончательном торжестве нового стремления к союзному производству и потреблению...» (там же, т. 4, с. 741). С этой новой т. зр. меняется значение общинного землег владения, сохранившегося в России вследствие ряда объективных неблагоприятных обстоятельств и историч. неподвижности нации. «...Общинное владение
 2015-05-06
2015-05-06 360
360








