В полном соответствии со структурой, принятой в его философской системе, Гегель выделял «понятие прекрасного вообще», «прекрасное в природе» и «прекрасное в искусстве». На первой стадии прекрасное характеризуется как идея («прекрасное есть абсолютная идея в адекватном ей проявлении», «прекрасное следует определить как чувственное явление, чув-
ственную видимость идеи», «красота и истина суть одно и то
Же»), а на второй - как ее смутное и неопределенное проявле
ние (формы красоты в природе: правильность; симметрия за
кономерность и гармония). Подлинным «царством прекра. -
ного» Гегель считал искусство - начальную форму самореа
лизации абсолютного духа, которая «встает в один общий круг
с религией и философией и является только одним из спосо
бов осознания и выражения божественного, глубочайших че
ловеческих интересов, всеобъемлющих истин духа» [9, с. 131.
Рождаясь на почве духа, «художественно прекрасное» выше
красоты природы. 0^^> € *^л^ * л
Искусство призвано раскрыть истину в чувственной форме и имеет конечную цель в самом себе. Идея как «художественно прекрасное» не является абсолютной идеей в понимании метафизики и логики. Она есть идея, перешедшая к развертыванию действительности и вступившая с ней в непосредственное единство. Идея и ее формообразование в конкретной действительности должны быть доведены до «полной адекватности». Понятая таким образом идея, получившая соответствующую своему понятию форму, есть идеал. Идеал - не что иное, как «всеобщая идея художественно прекрасного».
Прекрасное в искусстве получает совокупность особенных форм и ступеней. В символической форме, будучи неопределенной и неясной, идея еще не обладает «той индивидуальностью, которой требует идеал». Идеи и образы здесь «несоразмерны друг другу» (указанные черты составляют, по Гегелю, общий характер восточного пантеизма в искусстве). Лишь классическая форма античного искусства, где идея и ее внешний облик находятся в полном соответствии, дает нам возможность созерцать идеал как осуществленный. Однако в классической форме дух все же «определен как частный, человеческий», а не как безусловно абсолютный и вечный, поскольку последний способен проявить и выразить себя лишь в духовной стихии. Это обстоятельство и становится тем недостатком, вследствие которого классическая форма искусства начинает «разлагаться» и требует перехода в высшую, третью фазу. Романтическая форма (то есть средневековое и современное Гегелю искусство) вновь снимает завершенное един-

|
| 206 |
Наиболее общие категории э стетик™
ство идеи и реальности и возвращается, хотя и на более высоком уровне, к различению и противоположности этих двух сторон, остававшихся неопределенными в символическом искусстве. На этой ступени предмет искусства составляет свободная, конкретная духовность, которая должна «предстать в явлении внутреннему духовному оку». Развитие искусства в трех перечисленных формах представляет собой, следовательно, стремление к идеалу как истинной идее прекрасного, достижение идеала и выход за его пределы.
В своем поступательном движении идея прекрасного переходит к чувственной реализации в конкретных образах и к созданию системы отдельных искусств, их родов и видов. Символическое искусство достигает своей наиболее адекватной действительности и «величайшего распространения» в архитектуре. Для классической формы безусловной реальностью является скульптура. Наконец, романтическая форма овладевает живописным, музыкальным и поэтическим выражением в их «самостоятельности и безусловности». Поэзия при этом распространяется на все формы прекрасного, потому что ее настоящей стихией является «художественная фантазия», которая необходима для созидания красоты, какова бы ни была форма последней.
Н. Г. Чернышевский (1828-1889) явился создателем цельной системы оригинальных эстетических взглядов, имевших существенное влияние на общественную мысль и искусство в России. Ра^ш^ш^^аджшаль^^^

 то же время как замечательный продолжатель "идеи французскихпросветителей и последователь Л. Фейербаха. Он подверг объективно-идеалистическую эстетику Гегеля обстоятельному критическому рассмотрению, однако в силу антропологической и метафизической ограниченности эта критика не всегда достигала результата, потому что сводилась к отрицанию идей немецкого мыслителя в целом[С точки зрения Чернышевского определение прекрасного как полного проявления идеи ъ отдельном предмете схватывает лишь один из признаков искусной, мастерской деятельности человека вообще Не может считаться удачной и характеристика красоты
то же время как замечательный продолжатель "идеи французскихпросветителей и последователь Л. Фейербаха. Он подверг объективно-идеалистическую эстетику Гегеля обстоятельному критическому рассмотрению, однако в силу антропологической и метафизической ограниченности эта критика не всегда достигала результата, потому что сводилась к отрицанию идей немецкого мыслителя в целом[С точки зрения Чернышевского определение прекрасного как полного проявления идеи ъ отдельном предмете схватывает лишь один из признаков искусной, мастерской деятельности человека вообще Не может считаться удачной и характеристика красоты
I
| 207 |
Лекция V
как единства идеи и образа. Она слишком широка, поскольку акцентирует внимание на лучших в своем роде предметах, упуская из вида, что не все роды предметов прекрасны (чем сильнее, например, в болоте проявляется идея болота, тем больше в нем застоя и гниения).
 Вместе с тем Ч^е2н^пде^сюш_от вергал и упрощен ную трактовку^ гфе^кр^с^^ш]о^^^р^с^ 2^тикуя его за то, что тот~прини~-
Вместе с тем Ч^е2н^пде^сюш_от вергал и упрощен ную трактовку^ гфе^кр^с^^ш]о^^^р^с^ 2^тикуя его за то, что тот~прини~-
мал прекрасное «прямо за кач ество~самих тел». ^Гернышевс-кий хорошо понимал, что в определение красоты должнсГвой-ти и отношение человека. Крит^е^ий истинности^прекрас ногоТ как он полагал, коренится в нормах вкусгГ«здоровой~натуры», в «естественных потребностях» людей. Он подчеркивал, чтЪ ощущение, вызываемое в человеке прекрасным, - "особая"свёт-лая радость. Но чтсп уюже т вызывать у человека такое светлое" чувство, какой общий, многообъемлющий предмет? Самое об-щее, что дорого человеку и самое милое ему на свете - это жизнь. Вот почему исследование вопроса о сущности прекрасного привело Чернышевского к убеждению, что «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова она должна быть по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» [10]. / о<г<-*>. V- У-Ои>.
Представления о «хорошей жизни, жизни, какой она должна быть» у поселянина и людей образованного общества не одинаковы, поэтому не одинаковы и признаки красоты у сельской девушки и светской красавицы. Красота многих видов животных напоминает о человеке и его красоте. В растительном мире нам нравятся свежие цветы и богатство форм^а не увядание и отсутствие жизненных соков и т. п. > •//\ °^. ^ и/>
Из определения «прекрасное есть жизнь» Чернышевский выво^Ц1^вЪжно^_^ме^р^йЧе1!коё следствие: «истиннаяТ^высО; чайшая красота есть именно красота, встречаемая чел овек ом в мире действительности, а не красота, создаваемая^ искусством». Это положение эстетики Чернышевского было реакци-ей не только на известный гегелевский постулат. Своей полемической заостренностью оно было направлено против теории «чистого искусства». Своеобразная деэстетизация художественной деятельности, стремление поставить ее ниже дей-

|
208
Наиболее общие категории эстетики
V
209

 4
4
ствительности были связаны с принципиальной установкой Чернышевского, отрицавшего всякую самоценность искусства. Недооценка художественной специфики и суверенности искусства в ряду других форм общественного сознания отчасти объясняется эстетическим «аскетизмом», присущим Чернышевскому как революционному идеологу в конкретно-исторической ситуации. Искусство - это, конечно, учебник жизни. Но плохо, если человек знает жизнь только по учебнику. Средствами «искусства для искусства» революционера не воспитаешь. Чтобы добиться необходимой цели, надо обратить его взор на реальные противоречия самой жизни. Прекрасное в действительности надо создавать, а не пытаться восполнить его недостаток строительством «башни из слоновой кости».
К. Маркс (1818-1883) считал, что в процессе обществен-' но-трудовой практики, имеющей исторический характер, предметно воплощается все богатство человеческих сил и способ^ ностей. В отличие от животных, которые производят только под властью непосредственной физической потребности, человек производит и тогда, когда он свободен от нее. Животное производит односторонне, а человек - универсально. «В силу этого человек формирует материю также и по законам красоты».
Объективная сторона прекрасного, по Марксу, состоит в
предметном утверждении свободы в природном и обществен
ном бытии, субъективная - в историческом процессе рожде
ния и формирования человеческих способностей и эстетичес
ких чувств. В этом процессе возникли и развились «музы
кальное ухо, чувствующий красоту формы глаз». «Наши по
требности и наслаждения порождаются обществом; поэтому,
- с точки зрения Маркса, - мы прилагаем к ним обществен
ную мерку, а не измеряем их предметами, служащими для их
удовлетворения» [11]. : ^ ^ 0
В западной эстетике конца XIX - XX веков проблема пре-


 красного рассматривалась преимуществ енно с идеал исти-чёскйзГ~по"зиций_. Р. Фишер, Т. Липпс, Вер ной Ли пришли к выводу о том, что прекрасное есть не что иное, как проецирование на предмет переживаний человека. Для Б. Кроче красота - особая"*адекватность выражения». В эстетике прагма-
красного рассматривалась преимуществ енно с идеал исти-чёскйзГ~по"зиций_. Р. Фишер, Т. Липпс, Вер ной Ли пришли к выводу о том, что прекрасное есть не что иное, как проецирование на предмет переживаний человека. Для Б. Кроче красота - особая"*адекватность выражения». В эстетике прагма-
тизма прекрасное трактуется как качество «опыта», взятого в идеалистическом понимании. М. Хайдеггер_и некоторые другие сторонники экзистенциализма^гхредставйтели символического истолкования процесса "художественного творчества (С. Лангер) настаивают на субъективном характере красоты. Эстетика неотомизма усматривает объективность прекрасного непосредственно в Боге, а Н. Гартман и Э. Сурио - в мисти^ чески и телеологически интерпретируемой действительности.
Итак, каковы основные уроки истории эстетической мыс-"" ли, имеющие наиболее важное значение для нашего понимания сущности красоты?
Мне кажется они состоят в следующем.
Прекрасное - категория эстетики, характеризующая явления, обладающие высшей эстетической ценностью! ~~
-неразрывно связано с человеком, а значит с другиш Гсмеж- ными явлениями (истинным, добрым, полезным, и т. п.);
-отличается от нравственного и теоретического (добра, истины) тем, что проявляется в конкретно-чувственной форме" и обращается к созерцанию и воображению, а в отличие от полезного - носит бескорыстный характер;
-объективно (и в то же время относительно);
-имеет субъективную сторону (оценочный момент, индивидуальное в восприятии и т. д.);
-связано с идеалом;
-имеет конкретно-исторический характер.
Рассмотрим теперь, как проявляется прекрасное в различных сферах окружающего нас мира.
Огромно ^впечатляющей силой обладает к р а с о т а ч е-
л ое_к_а—
 Вот что сказал об обаянии Елены Прекрасной замечательный русский поэт Аполлон Николаевич Майков (1821-1897).
Вот что сказал об обаянии Елены Прекрасной замечательный русский поэт Аполлон Николаевич Майков (1821-1897).
Сидели старцы Илиона В кругу у городских ворот. Уж длится града оборона Десятый год, тяжелый год! Они спасенья уж не ждали И только павших поминали,


|
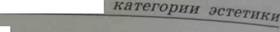
| Наиболее общие |
210
И ту, которая была
Виною бед их - проклинали:
«Елена! ты собой ввела
Смерть в наши домы! Ты нам плена Готовишь цепи!!!»
В этот миг
Подходит медленно Елена Потупя очи, к сонму их; В ней детская сияла благость, И думы легкой чистота: Самой была как будто в тягость Ей роковая красота... Ах, и сквозь облако печали Струится свет ее лучей... Невольно смолкнув, старцы встали И расступились перед ней.
Как известно, Елена - героиня эпоса о Троянской войне, славившаяся необыкновенной красотой. Руки Елены добивались многие герои (Менелай, Одиссей, Диомед, Аякс, Патрокл и др.). По совету Одиссея Тиндарей взял у каждого из них клятву, что они не подымут оружия против избранного Еленой супруга и будут во всем ему помогать. Елена вышла замуж за спартанского царя Менелая. Когда Парис похитил с помощью Афродиты Елену и увез ее в Трою, Менелай призвал на помощь всех связанных клятвой героев и они немедленно выступили в поход. Началась Троянская война.
Миф об Елене Прекрасной вдохновил многих писателей и драматургов (трагедии Софокла и Еврипида, панегирики Горгия и Исократа). Гёте во второй части своей знаменитой трагедии сделал Елену женой Фауста. Художники (Рафаэль, Клод Лоррен и др.) воплощали в образе Елены свой идеал красоты, этому мифу отдавали дань и композиторы (Глюк, Сен-Санс, Рихард Штраус и др.). Эпизод, которому посвящен приведенный выше поэтический отрывок, встречается и в «Илиаде». Увидевшие Елену гомеровские старцы не могли не прийти к единодушному мнению, что из-за такой женщины можно было начать войну:
| 211 |
Лекция V
 Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: Истинно, вечным богиням она красотою подобна!
Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: Истинно, вечным богиням она красотою подобна!
С выходом в свет магистерской диссертации и других тРудов~Чё^ныше^кого~многиё1|сслё^оватёли в Рос сии (да"и не только в России][.пррнйклйсь^убёждением, что одно из главнейших условий красоты человека^ействительно заключается в проявленик^жизни, развивающейся легко 1К без; препятствий. Жизненная сила обнаруживается прежде всего" в_р_у_-мянце, бледность же часто воспринимается как признак болезни или упадка жизненной энергии. Может быть и вправду русский язык отразил какую-то глубокую истину? Не раз уже обращали внимание, что русское слово «красота» намекает на красный цвет: красавица в русских песнях - «красна девица», Красная площадь в Москве - красивая площадь.
Поэты и иные «жрецы прекрасного» называют, конечно, и другие проявления физической, чувственной красоты. Не будем их перечислять. Красота, как мы уже убедились, представляет такие трудности для исследования, что они кажутся порой непреодолимыми. В романе Достоевского «Братья Карамазовы» читаем: «Красота - это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут». И еще: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердце людей».
Что происходит с физической, чувственной красотой, когда жизненные силы уходят, нам поведал Пушкин в рассказе Фина, любившего красавицу Наину. Чтобы зажечь в ее холодном сердце взаимность, Фин прибегнул к волшебству, в изучении которого прошло незаметно слишком много времени. Овладев, наконец, чарами, чтобы победить сердце красавицы, Фин произносит заклинание:
- и в тьме лесной Стрела промчалась громовая, Волшебный вихорь поднял вой,
Земля вздрогнула под ногой... И вдруг сидит передо мной Старушка дряхлая, седая, Глазами впалыми сверкая, С горбом, с трясучей головой, Печальной ветхости картина. Ах, витязь, то была Наина!..
А Гамлет, взяв череп Йорика, говорит Горацио: «Ступай-ка теперь в будуар знатной дамы и скажи ей - пусть она хоть на палец наложит румян, а все таки лицо ее будет, наконец, таким же».
Однако, и это общеизвестный факт, красота бывает не только в молодости. И. Эккерман, например, рассказывал, как прекрасен был в старости Гёте. Мало того, Гёте был красив и на смертном одре («совершенный человек в полной своей красе», «глубокое спокойствие и твердость господствовали в чертах его возвышенно-благородного лица»).
Как это объяснить? Правильностью черт лица? Да, но не только. Дело в том, что мы^сак известно, живем не только жизнью физической, но и умственной, нравственной. Для че-ловека существует не одна красота телесная, но йГдуховнаяГГ Сократ, по Платону, был безобразен, когда молчал, и прекрасетгг когда говорил. Дантон влиял на толпу не только своим красноречием, но и внешностью, запечатлевшей его страшную мощь. Некрасивая наружность Мирабо не мешала ему привлекать к себе многочисленных женщин: он говорил, одушевляясь, и ум светился в его глазах. Шекспир писал о сатанинском гении Ричарда III, убившего отца и мужа Анны и все же покорившего ее сердце. Ричард был физический урод и нравственный изверг:
И вышел я таким хромым и гадким, Что взвидевши меня, собаки лают,
однако увлекал настойчивостью, дьявольским упорством, умением осуществлять хитроумные планы и добиваться поставленной цели.
.___________________________________________________________________ --------------------- —______ ________________________________ ** -* V*
Огромную роль играет красота нравственного поступка Брат Антигоны из одноименной трагедии Софокла был объявлен врагом отечества. Закон запрещал предавать его земле И все же, несмотря на грозившие ей страшные кары, Антигона похоронила брата:
Я рождена не для вражды взаимной, А для любви...
Каторга обнаружила всю неизмеримую любовь княгини Волконской к мужу, а Наталье Долгорукой черная изба показалась веселее царских палат. Нет страданий, которые не превозмогли бы женщины, способные на величайшие подвиги ради детей и любимого. Когда маленькая Герда, отправившаяся на поиски своего названного братца Кая в трогательной истории о Снежной королеве, казалось, вконец обессилела, и олень начал умолять старую финку дать ей силы двенадцати богатырей, ответ был: «Нет! Сильнее, чем она есть, ее никто не может сделать. Что может быть сильнее преданного сердца?» Что может быть прекраснее его? - спросим мы.
А вот как ответил на этот вопрос гётевский Фауст. Ему было суждено познать достижения естественных и оккультных наук, постигнуть догматы христианской веры, самые дерзкие проявления язычества и богохульства, изведать все возможные виды наслаждений, все мыслимые и немыслимые пороки, пережить безумства любви, ненависть и предательство, возвыситься до идеала красоты и стать обладателем Елены Прекрасной, пройти испытания властью, богатством и славой, преодолеть пределы пространства и времени, побывать в разных эпохах и самых экзотических странах, проникнуть в глубины земли, где рождаются первообразы всех вещей. Он стал носителем совокупного опыта человечества и его жизненный путь подошел к концу. Фаусту уже сто лет, а «прекрасное мгновение», которое захотелось бы продлить навек, еще не наступило.
Оно пришло тогда, когда Фауст, одушевленный идеей добра, погрузился в пучину самоотверженной созидательной деятельности. Получив в награду от императора затопленный морем берег, Фауст целиком поглощен благородной целью
щ
214____________________ наиболее общие категории эстетики
его переустройства. Он стремится отвоевать часть суши у моря строит плотину, роет траншею и отводит воду, на отмели возводит дворец, на месте болота начинает выращивать сад:
Стада и люди, нивы, сёла,
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжелый
Подвел высокий вал извне.
Внутри по-райски заживется.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
Всегда заделает прорыв.
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И, это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.
Фаусту кажется, что ему, наконец, открылся смысл человеческой жизни и что подлинная красота таится лишь в созидательной деятельности. Этот идеал во многом совпадает с мировоззренческим принципом, лежащим в основе утвердившегося в немецкой классической философии понятия деятельности, и новой для европейской культуры концепцией личности, характеризуемой многообразными проявлениями активности, инициативы и рационализма. Справедливости ради надо отметить, что в разных типах культуры деятельность занимает отнюдь не одинаковое место, выступая то в роли высшего смысла
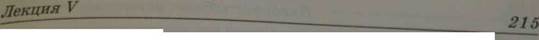
человеческого бытия, то на правах далеко не почитаемого условия жизни (вспомним хотя бы идеал буддизма с его практикой созерцательного размышления). Не разделяет в полной мере позицию Фауста и сам Гёте, но это уже совсем другой вопрос. Красота бесконечно разнообразна..Есть свои оттенки и у понятий «прекрасное», «красивое»7«прелестное7, «грациозное». Красивое, скорее всего, означает предметы и явления, способные доставлять нам удовольствие, независимо от утилитарных соображений и только потому, что на них приятно смотреть или приятно их слушать. Прекрасное означает превосходную ст^пен^ь_аг_«к^«^вое^ Тлрекрасное/ Понятие~пре-красного употребляют и тогда, когда, кроме вс^го1фочёго7 хотят подчеркнуть необыкновенные душевные качества человека. Негодяй может быть красивым, не так ли? Прекрасным - никогда. Понятие грациозное происходит от латинского слова «грация». Так в Риме стали называть харит -богинь, олицетворяющих женскую прелесть. В классическую эпоху их изображали одетыми в длинные хитоны, а в III веке до н. э. - прекрасными обнаженными девушками. В настоящее время «грациозное» означает красоту в движении; оно связывается также с понятиями «стройное», «изящное». Грациозной может быть танцовщица, легкая и едва касающаяся земли. Грациозна ласточка, вьющаяся в небе. Неграциозна лягушка, грузно шлепающаяся в грязь. Неграциозна черепаха, с трудом передвигающая свое тело. И, наконец, прелестное- это миниатюрно прекрасное, милое, пленительное. Такова, например, красота драгоценных камней, цветов, причудливых морских раковин, райских птиц с их ярким оперением.
Но «миниатюрность» - лишь внешний признак прелестного. Чем больше красота освобождается от физического элемента и проникается духовным, тем она возвышенней, и наоборот: чем более в ней преобладает чувственный принцип, тем она прелестней. Поэтому Зевс, скорее всего, воплощает в себе символ возвышенной красоты, Венера - символ прекрасного, а Амур - символ прелестного. Мы говорим - «прелестное дитя», «прелестный носик». Но мы никогда не говорим -«прелестный носище».

|
| ркрасное в природе та ^_и прекрасное ^человеке^ имееТ свой^ласштаб^иса-мые разнообразные оттенки. О прекрасном вприроде мы сейчас подробно говорить не будем, так как этот вопрос уже был нами обстоятельно освещен в теме «Сущность эстетического». Хочется обратить ваше внимание на то, что когда I^Н-^М!?МР0^?М^-^1-0^IЯТI1е эстетического применительно к природе, речь фактически шла~о!грёкрасном и безобразном, поскольку в природе, как мы уже выяснили, нет ни |
216 ~
Чувственная прелесть в искусстве находит широкое воплощение в изображении обнаженной натуры: «Купающаяся Афродита» - не богиня, а просто прелестная молодая женщина; «Венера Медицейская» - пленительно-кокетливая красавица, которая, приняв притворно-стыдливую позу и повернув голову, ищет взором зрителя, чтобы он полюбовался ею. В свое время французский эстетик Шарль Баттё, автор трактата «Изящные искусства, сведенные к единому принципу», опасался, как бы изображенная красота не помешала созерцателю возвыситься до эстетического бескорыстия и не возбудила сожаления о невозможности ею воспользоваться. Ханжество и эстетическое изуверство противников воплощения в искусстве чувственной прелести хорошо известны (Людовик XII Орлеанский, между прочим, «прославился» тем, что не вынес слишком сладострастного, как ему показалось, выражения лица Леды, изображенной на одном из вариантов одноименной картины знаменитого итальянского живописца Антонио Корреджо, разорвал полотно и даже сжег его некоторые фрагменты). Но если что-то подобное тому, чего опасался Баттё, происходит, то в этом виноваты не произведения искусства, а те, кто на них смотрит исключительно с чувственной точки зрения. Подлинно художественное воспроизведение обнаженной натуры не рассчитано на восприятие эстетически неразвитой личности.
Существует ли разница между красотой ручья извилис
того, чистого, прохладного, красотой озера с его зеркальной
гладью, отражающей лазурное небо и роскошь растительно
сти берегов, и красотой океана бескрайнего, грозного, величе
ственного в момент разыгравшейся бури? По-видимому, су
ществует, поскольку прекрасное в природе так
же, ^<аки прекрасное ^чело Т ^
Декапя
 Кого, ни комического, ни возвышенного, ни низменного Спор между «природниками» и «общественниками», а^иологи ческий подход к проблеме, прекрасное как ценностное явле ние и объект влечения, стремления и интереса - все это пройденный материал, который должен быть хорошо усвоен каждым. То же самое можно сказать о диалектике объективного и субъективного в прекрасном, о соотношении «предметных» и «субъектных» эстетических ценностей, о закономерностях функционирования ценностных систем, их проявления в различных типах культуры. Если для европейца лев чаще всего - красивое животное, олицетворение власти, силы и могущества, а тюлень - увалень, неуклюжий, бесформенный, то для эскимосов, для которых без тюленей была бы немыслима хорошая жизнь племени, эстетические свойства ластоногих представляются в совершенно ином свете. Не удивительно, что на попытку миссионеров обратить эскимосов в христианскую веру, эскимосы ответили твердым отказом. Не помогли и разговоры о райской жизни. «В вашем небе нет тюленей, а небо без тюленей нам не подходит», - заявили они.
Кого, ни комического, ни возвышенного, ни низменного Спор между «природниками» и «общественниками», а^иологи ческий подход к проблеме, прекрасное как ценностное явле ние и объект влечения, стремления и интереса - все это пройденный материал, который должен быть хорошо усвоен каждым. То же самое можно сказать о диалектике объективного и субъективного в прекрасном, о соотношении «предметных» и «субъектных» эстетических ценностей, о закономерностях функционирования ценностных систем, их проявления в различных типах культуры. Если для европейца лев чаще всего - красивое животное, олицетворение власти, силы и могущества, а тюлень - увалень, неуклюжий, бесформенный, то для эскимосов, для которых без тюленей была бы немыслима хорошая жизнь племени, эстетические свойства ластоногих представляются в совершенно ином свете. Не удивительно, что на попытку миссионеров обратить эскимосов в христианскую веру, эскимосы ответили твердым отказом. Не помогли и разговоры о райской жизни. «В вашем небе нет тюленей, а небо без тюленей нам не подходит», - заявили они.
Прекрасное широко проявляется и в мире вещей (в мире так назыв^ё^мо^вт^6рой11риродьГ)Т Их красотгГтесно связана с целесообразныму ^ что доказывается реальным, практическим функционированием созданных человеком предметов. Внутренний синтез красоты:й~ пользы"достигается через художественное конструирование (дизайн). Предметы обихода, оборудование, станки, машины, самолеты, космическ ие ко- рабли могут содержать в себе не только эстетическую выразительность, но и отдельные элементы художественно-образного отношения к действительности (они могут, например, стать образами свободных творческих сил человека, воплощением пафоса соперничества или, напротив, гармоничного слияния с природой). Но диза йн вс е же - еще не искусство ^ В своей основе дизайн есть особый вид материально-продуктивного творчества. Совокупность научных подходов к дизайну получила наименование технической эстетики.
Возникает вопрос: в чем состоит специфика^прекрасного и безобразного в и с к у с с т в е?
Наиболее общие категории эстетики
 Если для всех других предметов и явлений красота лишь желательна, то для произведений искусства она обязательна. Прекрасное и искусство нерасторжимы. При этом прекрасное в искусстве воплощается двояко: как отражение пре-красных явлений действительности и как прекрасное их отражение (напомним известную мысль Чернышевского о том, что «нарисовать прекрасное лицо» и «прекрасно нарисовать лицо» - это не одно и то же).
Если для всех других предметов и явлений красота лишь желательна, то для произведений искусства она обязательна. Прекрасное и искусство нерасторжимы. При этом прекрасное в искусстве воплощается двояко: как отражение пре-красных явлений действительности и как прекрасное их отражение (напомним известную мысль Чернышевского о том, что «нарисовать прекрасное лицо» и «прекрасно нарисовать лицо» - это не одно и то же).
 2015-04-30
2015-04-30 299
299








