В основе преобразований обществ Западной Европы лежали две великие революции. Второй из них была политическая революция, результатом которой стало возникновение национальных государств. В формировании современного мира этот феномен играет такую же важную роль, как и процесс индустриализации общества. Жители западных стран воспринимают как нечто само собой разумеющееся то, что они являются «гражданами» отдельных государств. При этом все прекрасно понимают, какую важную роль в их жизни играет государство (централизованное правительство и местная администрация). Между тем утверждение гражданских прав и, в частности, всеобщего избирательного права — явление относительно недавнего прошлого. То же самое можно сказать и о национализме как чувстве принадлежности к определенной национальной общности, отличной от других.
Гражданские права и национальное сознание стали характерными чертами «внутренней» организации национальных государств, однако в равной степени важны и отношения между национальными государствами. Эти отношения являются фундаментальной отличительной чертой современной эпохи.
|
|
|
Современная мировая система не имеет аналогов в истории человечества. Каждая из «двух великих революций» приобрела глобальные масштабы. Промышленный капитализм основывается на чрезвычайно сложной специализации производства, на разделении труда, при котором отношения обмена охватили весь мир. Достаточно задуматься об одежде, которую вы носите, о комнате, в которой вы находитесь, или о том, что вы будете через некоторое время есть. Вряд ли вы сами сшили себе одежду, построили себе здание или произвели продукты питания. В промышленно развитых странах специализация производства воспринимается как должное, однако до прихода промышленного капитализма разделение труда носило гораздо менее сложный характер. Большинство населения в основном само производило для себя все необходимое, а в тех случаях, когда это было невозможно, прибегало к услугам других членов местной общины. В современном мире продукция производится и обменивается в мировых масштабах, что стало возможным благодаря поистине глобальному разделению труда. При этом большинство продукции, потребляемой на Западе, не просто производится в других частях мира и наоборот. Между производственными процессами в различных точках земного шара могут существовать сложные взаимосвязи. Так, отдельные телевизионные детали могут производиться в одной стране, другие детали — в другой, сам телевизор собираться в третьей, а продаваться в совершенно другом месте.
|
|
|
Однако новая уникальная мировая система не является результатом расширения исключительно экономических отношений. Распространение капитализма сопровождалось повсеместным становлением национальных го-
сударств. Я уже упоминал некоторые «внутренние» характерные черты национального государства. Однако было бы не совсем правильно говорить о национальном государстве как о чем-то «универсально-автономном». Необходимо говорить о национальных государствах, которые с момента своего возникновения в Европе всегда отличались комбинацией отношений добрососедства и конфликтов. Современный мир представляет собой хитросплетение разнородных национальных государств. Возникновение национальных государств в Европе и особенно их развитие в других частях земного шара — феномен относительно недавнего прошлого. На протяжении большей части истории человечества люди жили в разбросанных по земле малочисленных общинах, обеспечивающих свое существование охотой на животных и сбором съедобных растений. Это были общества «охотников и собирателей». На протяжении большей части последних десяти или около того тысячелетий мир был все еще редко заселен (по сравнению с нашими днями) людьми, жившими в общинах охотников и собирателей, малочисленных сельскохозяйственных поселениях, городах-государствах или империях. Некоторые империи, такие, как Древний Китай, были очень большими. Однако по своему устройству они радикально отличались от современных национальных государств. К примеру, центральному правительству Древнего Китая так никогда и не удавалось установить действенный контроль над своими многочисленными провинциями, особенно в более отдаленных районах.
Жизнь большинства подданных китайского государства совершенно отличалась от жизни их правителей. Между культурой и языком основной массы населения и государственных чиновников было мало общего.
Важно подчеркнуть, что, хотя только что упомянутые типы общества и состояли в различного рода отношениях, они ни в коей мере не охватывали весь земной шар, как это происходит сегодня. До XX в. поговорка «Восток — Востоком, Запад — Западом, и им никогда не сойтись» отражала вполне реальные обстоятельства. Несмотря на то что начиная с XI в. между Китаем и Европой и существовали редкие торговые и некоторые другие связи, можно без преувеличения сказать, что на протяжении последующих столетий народы Китая и Запада могли с таким же успехом проживать в различных вселенных. В современном мире ситуация коренным образом изменилась, хотя культурные различия между Востоком и Западом по-прежнему сохраняются.
Современный Китай — уже не империя, а национальное государство, отличающееся гигантскими территорией и населением. Согласно утверждениям китайских лидеров, это социалистическое государство. Далеко не все из многочисленных национальных государств в мире следуют «либерально-демократической» модели, наиболее прочно укоренившейся в Западной Европе.
Культивирование исторического понимания того, насколько новы и драматичны социальные преобразования последних двух столетий, — дело непростое. Однако, по всей видимости, еще сложнее избавиться от явного или подспудного убеждения в том, что образ жизни, получивший распространение на Западе, в чем-то превосходит образ жизни других культур. Такое убеждение обусловлено распространением западного капитализма, повлекшим за собой притеснение и уничтожение большинства других культур, с которы-
ми капитализм вступал во взаимодействие. Идеи социального превосходства получили свое дальнейшее конкретное воплощение в работах тех социал ьн ых мыслителей, кто пытался втиснуть историю человеческого общества в схемы социальной эволюции, где в качестве критерия «эволюции» имеется в
|
|
|
виду способность различных типов общества контролировать или подчинять себе окружающий их материальный мир. В таких схемах западный индустриализм неизменно занимает главенствующее положение, поскольку несомненно обеспечивает уровень материального производства, намного превосходящий уровень производства всех известных истории общественно-экономических формаций.
Социология призвана развенчать этноцентризм эволюционных схем. Этноцентризм представляет собой концепцию, в которой в качестве критерия оценки всех других обществ и культур используется точка зрения данного конкретного общества. Нет никаких сомнений в том, что подобное отношение глубоко укоренено в западной культуре.
Характерно оно и для других обществ. Однако на Западе убеждение в собственном превосходстве является выражением и оправданием жадного поглощения индустриальным капитализмом других форм жизни.
Следует четко понимать, что было бы ошибкой отождествлять экономическую и военную мощь западных стран, позволившую им занять ведущие позиции в мире, с вершиной эволюционного развития общества. Столь ярко проявляющаяся на Западе оценка уровня развития общества исключительно на основе критерия материального производства сама по себе представляет собой аномальное явление, если сравнивать ее с установками других культур.
Антропологическое измерение социологического воображения позволяет осознать то многообразие форм организации человеческой жизни, которые имели место на нашей планете. Ирония современной эпохи проявляется в том, что систематическое изучение разнообразия человеческой культуры — «полевая работа антропологии» впервые стало проводиться как раз в то время, когда всепоглощающее расширение промышленного капитализма и усиление военной мощи западных государств активно способствовали уничтожению этого разнообразия.
Показательно, что в работе Жан Жака Руссо «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) четко проводится мысль о том, что, лишь осознав поразительное многообразие социальных формаций, мы можем лучше понять самих себя. «Весь мир, — пишет Руссо, — состоит из множества обществ, о которых мы знаем только понаслышке. Тем не менее, мы по-дилетански выносим суждения относительно всего человечества».
|
|
|
Сокращено по источнику: Социологические исследования. 1994. № 2. С. 129-138.
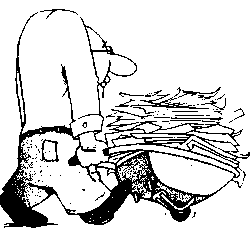
|
 2015-05-15
2015-05-15 461
461








