Глеб Николаевич Голубев
Гость из моря (журнальный вариант)

Глеб Николаевич Голубев
Гость из моря
Образ советского ученого привлекает меня давно. Сколько интереснейших представителей этого благородного племени рыцарей науки встречал я, плавая на экспедиционных судах или посещая различные лаборатории, обсерватории, научно‑исследовательские институты! Рать этих замечательных людей в нашей стране все растет и становится поистине неисчислимой.
Писать о прекрасной и нелегкой работе тружеников, прокладывающих тропу в Неведомое, – было всегда для меня большой радостью. В повести, которая лежит перед вами, мне хотелось показать коллектив ученых, общими усилиями разгадывающих трудные загадки природы. Может быть, вы найдете в ней не так уж много приключений в общеупотребительном понимании этого слова, хотя в жизни ученого бывает и их немало, но мне хотелось рассказать прежде всего о приключениях пытливой исследовательской мысли и немного забежать вперед, в ближайшее будущее одной из самых удивительных и фантастических, по‑моему, областей науки – молодой бионики, возникшей на наших глазах буквально за последние годы.

Странный институт
Я всегда буду признателен причудливой журналистской судьбе за то, что она привела меня в один весенний день к ничем особено не примечательным каменным воротам с черной деловой дощечкой, на которой было написано: «Институт морской бионики»…
Самая обыкновенная вывеска, не предвещающая никаких чудес. И вполне обыкновенной выглядела проходная будка, где возле телефона скучал вахтер с рыжими усами, редкими и торчащими во все стороны, как у старого кота. А на подоконнике дремал старый ободранный кот с усами, как у вахтера.
Оба они посмотрели на меня весьма недовольно, когда я нарушил их покой.
Вахтер долго вертел в прокуренных пальцах мои документы, а командировочное удостоверение посмотрел даже на свет, словно надеясь увидеть какие‑то потайные знаки. Потом он положил руку на телефон и спросил меня:
– Из Москвы?
– Из Москвы.
Вахтер набрал номер, долго слушал размеренные гудки, доносившиеся из трубки.
– Не отвечает директор. Вышедши.
Бедный вахтер явно не знал, что же делать дальше. Он еще несколько минут мучительно думал, испытующе рассматривая меня голубыми младенческими глазками, опять стал изучать мои документы и, наконец, тяжко вздохнув, распахнул передо мной дверь.
– Идите все прямо по дорожке, никуда не сворачивая. Во‑он белый дом виднеется. Там и контора. Только никуда не сворачивайте! – повторил строго вахтер, и в голосе его мне почудилась тревога.
Кот проснулся окончательно, выгнул воинственно спину и зашипел, глядя на распахнутую дверь тоже с явной тревогой и опасением. Когда я шагнул через порог, кот посмотрел на меня – теперь уже с несомненным сочувствием.
Ничего не понимая, я зашагал по выложенной мелкими камнями дорожке в ту сторону, где среди высоких сосен белела стена дома. Где‑то совсем рядом, спрятавшись за соснами, шумело море.
«Неплохое местечко отхватили для института», – подумал я и замер на месте.
На повороте дорожки сидел здоровенный белый медведь. Он с интересом рассматривая меня и несколько раз ободряюще кивнул: дескать, подходи поближе, не робей.
Не сводя с него глаз, я начал потихоньку пятиться. Тогда медведь, укоризненно покачивая головой, поднялся на задние лапы и вразвалочку направился ко мне…
Я повернулся, намереваясь поскорее ретироваться в будку вахтера.
И с ужасом увидел, что путь отступления отрезан: метрах в пяти поперек асфальтовой дорожки лежал молодой леопард и, прищурившись, посматривал на меня.
Теперь я понял, почему кот с таким мрачным сочувствием провожал меня, когда я так беспечно шагнул через порог сторожки в этот опасный мир.
Переводя взгляд то на медведя, то на леопарда, я сошел с тропинки и начал осторожно отступать в кусты.
Бежать нельзя, это я понимал: леопард немедленно бросится на меня. А так ом, может, подумает, будто вовсе не боюсь его и просто гуляю.
Кажется, леопард так и думал. Во всяком случае, он продолжал лежать спокойно на теплом асфальте и даже не смотрел в мою сторону. Глаза у него совсем закрылись от блаженства» Неужели он и вправду задремал?
Но медведь явно хотел познакомиться поближе. Сначала он шел на задних лапах, широко раскинув передние, словно намереваясь заключить меня в объятия. Но, убедившись, что я вовсе не разделяю его желания, мишка сердито рявкнул, встал на все четыре лапы и припустил за мной по‑настоящему. И я, уже забыв о леопарде, ринулся от него сквозь кусты.
Успею ли добежать до ближайшей сосны?
Сумею ли вскарабкаться на нее? Ведь ствол снизу совершенно гладкий, точно мраморная колонна…
Я выскочил на маленькую полянку и едва не налетел на пеликана, деловито выковыривающего что‑то своим громадным клювом из старого пня. Он испуганно замахал крыльями и отскочил в сторону.
Взлететь он, видно, не может, надо бы спасти его от медведя. Но как? Мне было не до того, треск веток слышался уже за самой спиной.
Подбежав к спасительной сосне, я начал судорожно подпрыгивать, пытаясь ухватиться хоть за какой‑нибудь сучочек, и все срывался.
Я хотел бежать дальше, к другой сосне, как вдруг до меня дошло, что треск сучьев за спиной почему‑то смолк. Или медведь забыл обо мне и занялся пеликаном?
Я медленно обернулся, страшась увидеть кошмарно‑кровавую сцену, – и обмер.
Медведь отступал! Виновато понурив голову, он пятился, словно щенок, от пеликана, а тот, грозно раскинув крылья, уже нацеливался своим чудовищным клювом, выбирая подходящую точку на мишкином лбу…
Но медведь не стал ждать удара. Рявкнув так жалобно, что я рассмеялся, он скрылся в кустах.
Пеликан, не обращая на меня никакого внимания, опять принялся деловито долбить старый пень. А я начал приводить себя в порядок: попытался отчистить костюм от сора, прилипшего, когда карабкался на смолистый сосновый ствол.
Из этого ничего не получалось, потому что руки я тоже перепачкал смолой. Чертыхнувшись, я только подумал: «Хорошо, хоть никто не видел, как я улепетывал и занимался этими физическими упражнениями», – как тут же, подняв голову, заметил всего в пяти шагах от меня человека.
Он был высок, худощав, строен. И лицо у него было тонкое, узкое, приподнятая левая бровь придавала ему насмешливо‑скептическое выражение. Одет незнакомец был так, словно собрался на танцы: щеголеватый, отлично сшитый кремовый костюм, из кармашка выглядывал уголок вишневого платочка, светлая клетчатая рубашка, на ногах – легкие плетеные туфли.
Он стоял, прислонившись к стволу березы и скрестив на груди руки, и насмешливо рассматривал меня – уже, видно, давно.
– Добрый день, – сказал я. – Вы здесь работаете?
Щеголеватый незнакомец весьма изысканно поклонился и даже, как мне показалось, шаркнул ножкой.
– Волошин, Сергей Сергеевич. Заведующий одной из лабораторий, – представился он.
– Мне бы хотелось повидать директора института, – кашлянув, продолжал я.
– А почему вы решили, будто он должен сидеть именно на этой сосне? У него есть кабинет, как у настоящего директора.
Я смущенно хмыкнул.
– Из газеты? – строго спросил неумолимый Волошин.
– От журнала.
– Очень мило. Но как вас пропустил сверхбдительный дядя Федя?
– Вахтер?
– Да, вахтер.
– Ну, я запасся солидными бумажками.
– Ах, так. Боюсь, что на нашего директора они не произведут впечатления. Он очень сейчас занят.
Он поколебался, испытующе поглядывая на меня, потом добавил:
– Ладно, провожу вас к нему. А то один вы еще заблудитесь. И вас могут обидеть наши довольно буйные питомцы.
– Они специально охраняют вас от непрошеных посетителей? – спросил я. – Ловко придумано. Но зачем же еще вахтер?
– Нет, просто все мы очень любим разных зверюшек. А ездить приходится повсюду в экспедиции, вот и привозим кто что сможет.
Над аллейкой, которая вела к главному корпусу, был перекинут плакат:
«Время делает свое дело. А ты, человек?»
Мы поднялись на широкое крыльцо, и Волошин обратил мое внимание на серый каменный щит, укрепленный возле двери. На нем я увидел математический знак интеграла, за верхний конец которого был прикреплен паяльник, а за нижний – хирургический скальпель.
– Наш герб, – пояснил Сергей Сергеевич. – Правда, не слишком броский. Можно бы придумать эмблему и получше. Вот я в одном гидротехническом институте видел: в лаборатории каменный сфинкс стоит.
– Зачем?
– Символизирует загадочность водной стихии, – с удовольствием и, пожалуй, с некоторой завистью в голосе ответил Волошин.
Коридор, по которому мы шли, был пустынным и чинным, как и подобает академическим научным учреждениям. Только на стенах висели довольно странные плакатики:
«Науки принуждения и насилия терпеть не могут.
Петр Первый».
«Хромой калека, идущий по верной дороге, может обогнать рысака, бегущего по неправильному пути.
Фрэнсис Бэкон Верулемский».
«Чтобы найти, надо знать, где искать.
Менделеев».
– Вот мы и пришли, – сказал Волошин, останавливаясь у одной из дверей. Возле нее тоже висел плакатик:
«В вопросах науки авторитет тысячи ничего не стоит перед скромными рассуждениями одного человека.
Галилео Галилей».
– Что же это, на двери даже дощечки никакой нету? – спросил я. – Могут подумать, что директором у вас сам Галилей.
– А вы думаете, на дверях кабинета Галилея была табличка? – усмехнулся Волошин. – Или, может, даже было написано: «Без доклада не входить»? Боюсь, что из такого кабинета он бы не заметил, что Земля вертится.
С этими словами Волошин распахнул дверь, пропуская меня вперед. Я вошел в просторный и светлый кабинет. Не знаю, что именно ожидал я увидеть, но обычный длинный стол для заседаний да еще покрытый традиционным бильярдным зеленым сукном как‑то разочаровывал.
У окна стоял большой письменный стол, и за ним, погрузившись в какие‑то размышления над кипой бумаг, сидел человек лет сорока пяти, черноволосый и довольно мрачноватый на вид, – может, потому, что не успел побриться и все время потирал ладонью колючую щеку.
– Мы уже договорились – вечером, – сердито сказал он, поднимая голову. – Вечером, Сергей Сергеевич!
– Я‑то могу ждать хоть до завтрашнего вечера, Андрей Васильевич, – ответил Волошин, – но вот товарищ из Москвы, представитель всемогущей прессы. Он не может ждать. Он жаждет рассказать человечеству, чем мы тут занимаемся, в тени стройных сосен, на берегу моря.
– Логинов, – хмуро представился директор и так крепко пожал мне руку, что пальцы побелели и заныли.
Я начал объяснять, зачем приехал, показал все бумажки, которыми запасся предусмотрительно в Москве. Логинов молча слушал меня, и лицо его все больше мрачнело. А бумажки он и смотреть не стал.
Волошин подошел к окну и распахнул его. В прокуренную комнату ворвались свежий морской ветер, шелест сосен и щебетанье птиц. Сергей Сергеевич стоял у окна спиной к нам, всей своей позой говоря: «Привести вас сюда я привел, а теперь умываю руки…»
– Сегодня ни минуты я вам уделить не могу, – устало сказал Логинов, когда я исчерпал все аргументы и замолчал. – Смета, – прибавил он таким тоном, похлопав по разложенным на столе бумагам ладонью, что я сразу поверил: ему действительно очень некогда, иначе не сидел бы он в этом скучном кабинете в такой веселый день.
Но я не впервые приходил брать интервью в научные учреждения, привык к подобным приемам и предложил:
– Может быть, вы дадите указания и я смогу пока побеседовать с руководителями лабораторий? А потом уже вы как бы подведете итоги.
– На жаргоне канцеляристов это называется «гнать зайца дальше», – насмешливо вставил, не оборачиваясь, Волошин.
В глазах Логинова промелькнула усмешка, но лицо по‑прежнему хранило мрачное выражение.
– Да, все сейчас заняты, – нерешительно пробормотал он, привычным жестом потирая небритую щеку. – Скоро уходим в море… Хлопот у всех много…
– Но вот, кажется, Сергей Сергеевич сейчас свободен. Может быть, он… – просительно сказал я.
Волошин поспешно обернулся, но сказать ничего не успел.
– Закрывайте окно! Васька летит! – крикнул кто‑то во дворе.
В комнату влетел крупный иссиня‑черный ворон, сделал плавный круг над зеленым заседательским столом и величественно опустился на правое плечо Логинова.

Я немножко растерялся. Директор института с вороном на плече – согласитесь, довольно странная картина.
– Где ваш фотоаппарат? – напустился на меня Волошин. – Редкий кадр: директор обсуждает бюджет со своим тайным советником – мудрым старым вороном по кличке Васька‑вор. «Отпустить ли добавочные средства лаборатории Волошина?» «Каркнул ворон: «Never more».
– В самом деле, Сергей Сергеевич, может, вы пока что‑нибудь покажете гостю, – нерешительно проговорил Логинов, с тоской посмотрев сначала на меня, потом на бумаги, заполнившие стол.
Я тоже просительно стал смотреть на Волошина, и он сдался:
– Ладно, только из уважения к прессе. Пошли!
– Захватите Ваську, – попросил оживившийся Логинов, осторожно снимая ворона со своего плеча.
Птице это явно не понравилось.
– Нет уж, я с его клювом знаком, – попятился Волошин, подталкивая меня к двери.
Логинов подошел к окну, легким взмахом руки бросил Ваську в воздух и поспешно закрыл створки. Мы все‑таки успели расслышать негодующее карканье ворона.
Директор странного института снова склонился над бумагами, но, когда мы уже были в дверях, поднял на миг голову и бросил нам вдогонку фразу, которая заставила меня насторожиться:
– Вы уж там полегче, Сергей Сергеевич… Не перегружайте слишком его нервную систему.
Волошин успокоительно помахал ему, но, посмотрев на меня, довольно зловеще хмыкнул.
В коридоре, постояв минуту в задумчивости, он подошел к висевшему на стене телефону и несколько минут вел с разными лицами какие‑то переговоры, мало понятные для меня.
– Казимир Павлович? Это Волошин, добрый день. Скажите, кто у вас нынче в аквариуме? Ах, так! Прекрасно, это будет даже для меня любопытно. Мы к вам заглянем… с одним товарищем. Да, да, что поделаешь, надо развлекать. Пока!
Инкубатор? Это кто, тетя Паша? Добрый день, тетя Паша, Волошин беспокоит. Как у вас там, есть созревшие утята или цыплята? Ну, двенадцатидневные, да, да. Утята? Отлично! Вы придержите одного, никому не давайте. Мы скоро зайдем. Да, с одним приезжим товарищем из Москвы. Ну вот и все, – повернулся он ко мне. – Можем начать коротенькую пробежку по нашей стране чудес.
Коза в аквариуме и другие чудеса
От этого дня у меня осталось самое сумбурное впечатление.
Волошин водил меня из лаборатории в лабораторию, знакомил все с новыми и новыми людьми. Каждый из них терпеливо рассказывал мне, над чем работает, а я торопливо записывал все в блокнот. Но, открыв его снова поздно вечером в маленькой комнатке, отведенной для приезжих гостей, я с ужасом убедился, что даже сам ничего толком не могу понять в этих отрывочных, беглых записях:
«Центральным звеном превращения химической энергии в механическую является реакция сокращения белка мышц. При этом насыщенная энергией аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), соединяясь с сократимым белком мышц (актомиозином) в присутствии воды, отдав свою энергию, превращается в аденозиндифосфоркую кислоту (АДФ) с выделением фосфорной кислоты…»
Тут же была пометка: «К. П. Бек. Асимметричное лицо, странно блестят глаза, словно вставные, искусственные… Знания – это еще не ум!» – но что она означала, я, хоть убей, теперь не понимал. И даже не мог вспомнить, как же выглядел этот, видимо заинтересовавший меня именно своей внешностью человек. Смутно мелькали в памяти какие‑то лица – старые и молодые, загорелые, бледные, хмурые, улыбающиеся, усталые, розовощекие. Кто же из них Бек?
Да, это была тонкая месть. Волошин ловко пошутил надо мной, а в моем лице над всеми газетчиками. Он был радушен до предела, показал мне поистине все, но в таком бешеном темпе, что это все теперь превратилось в моей голове в ужасающую мешанину.
И главное, каким же сложным и необычным оказалось то, что я увидел.
Помню, как сначала Волошин завел меня в инкубатор. Это был превосходный, но совершенно обыкновенный инкубатор: сверкающий чистотой, жарко натопленный, звенящий от неистового писка только что вылупившихся цыплят.
– Подождите меня здесь, – сказал лукавый проводник, оставляя меня одного в маленькой, совершенно пустой комнате.
Дверь Сергей Сергеевич не закрыл, и я слышал, как он кого‑то попросил:
– Дайте мне вполне созревшего, двенадцатидневного.
Через минуту Волошин вернулся, бережно держа в руках какой‑то желтенький пушистый комочек. Он присел, осторожно разжал руки и тут же, поспешно отскочив, спрятался за дверью, оставив только узенькую щелочку. Можно было подумать, что он принес по крайней мере очковую змею или какого‑нибудь экзотического ядовитого паука, и я на всякий случай слегка отступил.
Но передо мной был всего‑навсего забавный крошечный утенок, похожий на комочек золотистого пуха. Он с интересом поглядывал на меня и раза два вопросительно пискнул.
– Походите перед ним, – предложил сквозь дверную щелочку Волошин.
– Что сделать?
– Походите по комнате. Туда‑сюда. Пусть он на вас полюбуется. Да не бойтесь, он не укусит.
Чувствуя какой‑то подвох, я пожал плечами и неуверенно прошелся по комнате, поглядывая на утенка. Он снова запищал теперь, как мне показалось, радостно и вперевалочку засеменил ко мне.
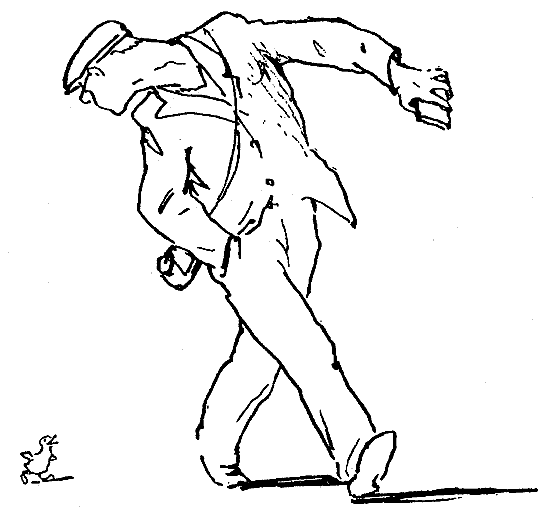
– Все в порядке, – удовлетворенно сказал Волошин, распахивая дверь. – Теперь мы можем продолжить нашу прогулку.
Мы вышли из инкубатора и неторопливо зашагали по асфальтовой дорожке. Громкий писк заставил меня оглянуться.
Утенок спешил за нами.
– Придется идти потише, он отстанет и будет плакать, – сказал Волошин.
– Ничего, вон тут сколько утят и цыплят во дворе бегает. Он сейчас к ним пристанет, – ответил я.
– Вы так думаете?
Тон Волошина заставил меня оглянуться.
Не обращая никакого внимания на своих пушистых братцев и сестричек, не отвечая на призывное кряканье уток, копошившихся в траве, утенок упрямо ковылял за нами. Со стороны это выглядело, наверное, забавно: в окнах домика, мимо которого проходила наша странная процессия, я заметил несколько смеющихся лиц, которые тут же скрылись.
– Это гипноз? – осторожно спросил я, опасливо оглядываясь на утенка, деловито ковылявшего за нами.
– Нет. По‑научному это называется импринтинг. Как это перевести поточнее? «Запечатление», что ли. Любопытное явление. Но о механике его вам лучше как‑нибудь подробно расскажет Логинов. А в «двух словах», как вы любите, дело в том, что многие животные считают своим родителем первое движущееся существо, которое они увидят через определенное время после появления на свет. Или даже первый неодушевленный предмет, не важно, лишь бы двигался…
– Значит, я теперь вроде как его папаша? – тревожно перебил я, снова оглядываясь на утенка.
Обрадованный, что я обратил на него внимание, он замахал пушистыми крылышками и засеменил еще быстрее.
– Да. Отныне на вас лежат все заботы по его воспитанию, – сочувственно проговорил Волошин.
Утенок сопровождал нас, наверное, добрых полтора часа. За это время мы успели побывать в двух лабораториях, и он каждый раз терпеливо ждал нас на крылечке, приветствуя мое появление возбужденным писком. Наконец Волошин сжалился – не знаю, над кем: надо мной или над утенком? – и попросил одного из молодых лаборантов отнести его обратно в инкубатор – «на перевоспитание»…
А мы пришли в лабораторию биохимии, где в просторной полутемной комнате почему‑то стоял громадный, в человеческий рост, аквариум, доверху наполненный водой.
А в аквариуме, в воде, стояла живая коза и меланхолично посматривала вокруг, время от времени выпуская изо рта серебристые пузырьки воздуха, словно самая обыкновенная рыба.
Я смотрел то на подводную козу, то на Волошина.
Коза оставалась спокойной и невозмутимой. Похоже, ей было скучно. Глядя на меня, она мекнула, только беззвучно. Лишь целая гирлянда воздушных пузырьков вылетела у нее изо рта.
Зато Волошин наслаждался моим изумлением. Лицо его прямо‑таки излучало сияние.

– Здорово? – спросил он. – Скоро и мы так с вами будем нырять – без всяких там аквалангов или скафандров. – Он подмигнул козе и добавил шепотом, оглянувшись по сторонам: – Но я все‑таки предпочитаю акваланг.
– А теперь я покажу вам интереснейшую штуку, – торжественно объявил Волошин. – Уникальная модель электронно‑биологического мозга.
Этот «мозг» занимал небольшой домик, стоявший в стороне от других на тенистой полянке среди сосен. Сначала мы вошли в комнату, почти все стены которой занимали щиты управления и панели с мигающими разноцветными лампочками. На столах стояли пишущие машинки и перфораторы. Я оглядел все это довольно равнодушно, потому что уже не раз бывал в разных вычислительных центрах.
– Какой марки у вас машина? – спросил я, поздоровавшись, у девушки в синем халате, сидевшей за одним из пультов.
Она не успела ответить, вмешался неугомонный Волошин:
– Марку мы еще не придумали. Пока занимаемся наладкой машины. Но тут смотреть нечего, вы правы. Давайте заглянем к биологической части этого электронного мозга.
С этими словами он открыл дверь в другую комнату и пропустил меня вперед. Я ожидал увидеть самые неожиданные вещи, но все‑таки растерялся.
Небольшую сводчатую залу, куда мы вошли, нельзя было назвать иначе, как конюшней. На меня пахнуло густым и каким‑то очень уютным запахом навоза и свежего сена. Сено в самом деле было навалено пышной грудой в одном из углов.
А посреди зала я увидел стойло, а в нем – серого ослика с длинными ушами. Вкусно похрустывая, он жевал сено и с интересом поглядывал на меня.
– Перед вами главная часть нашего электронно‑биологического мозга, – сказал за моей спиной Волошин.
Я уже догадывался, что стал в этот день жертвой одного довольно распространенного приема, с помощью которого ученые нередко спасаются от представителей прессы, любознательных экскурсантов и других гостей, мешающих им спокойно работать. Специально для таких посетителей устраивают своего рода «парад аттракционов», призванных зримо и просто, вполне доступно пониманию даже школьника, демонстрировать «безграничную силу науки».
Любуются гости всякими хитроумными роботами, механическими руками, двухголовыми телятами или четырехглазыми лягушками, восхищенно ахают, а тем временем хозяева могут спокойно заниматься в своих лабораториях не такими впечатляющими, но по‑настоящему важными и сложными опытами, отнимающими порой годы и десятилетия.
Тут, в Институте морской бионики, явно занимались действительно важными и интересными делами. А мне подсовывали аттракционы, словно несмышленому новичку. Впрочем, сам виноват: «Расскажите, пожалуйста, в двух словах…»
Но все‑таки этот осел в стойле – уже слишком! Мое терпение лопалось.
Я посмотрел на Волошина с такой укоризной, что он поспешил сказать:
– Нет, в самом деле, это очень интересно и важно. Мы пробуем вмонтировать в электрическую сеть машины живые нервные клетки. Видите провода? Через них нервная система осла соединяется с электронной машиной… Но тут я боюсь чего‑нибудь переврать, лучше вам Логинов о тонкостях расскажет.
– Но почему же именно осла? – не выдержал я.
– А что же осел – не человек? Почему бы и ему не участвовать в прогрессе науки? Дорогой мой, вас ослепляют предрассудки. Вы просто недооцениваете осла. Посмотрите, как он внимательно слушает.
Ослик в самом деле насторожил уши и даже жевать перестал, не сводя с нас глаз.
– Ясно, ясно! – взмолился я. – Но хватит аттракционов.
– Вот так… В двух словах, – закончил Волошин.
Я попытался «морально убить» его взглядом, но без малейшего успеха. Тогда я сказал: – Ведите меня в вашу лабораторию и покажите что‑нибудь настоящее. Любую обыкновенную машину или прибор, чтобы только работали честно, без всяких фокусов, без вмешательства осла и прочей нечистой силы. Я уже устал от этих слишком впечатляющих зрелищ.
– Ладно, – засмеявшись, кивнул он. – Но только у нас в лаборатории сейчас нет ничего такого… интересного.
Техническая лаборатория, куда привел меня Волошин, выглядела довольно обычно. Во всяком случае, оглядевшись, я не заметил никакой живности – только надежные, спокойные приборы и аппараты повсюду, переплетения проводов, горьковатый запах дымка и металла. У одного окна стоял токарный станок, у другого – верстак. На этот верстак, постелив газету, и предложил мне сесть Волошин, а сам пристроился на подоконнике: ни одного стула в лаборатории почему‑то не было.
– Итак, что же вас интересует?
– Над чем вы работаете?
Волошин грустно посмотрел на меня и хмыкнул.
– Ну вот, вы, газетчики, неисправимы. Совершенно невозможный народ. Хотите, чтобы я просто и ясно изложил вам в двух словах – непременно в двух, не больше! – то, над чем думаешь, бьешься, ломаешь голову годами, без выходных дней и перерывов на обед. Вы думаете, когда я сплю, то не работаю? Нет, даже ночью снится всякая чертовщина, формулы какие‑то снятся, чертежи. А вы хотите в двух словах…
Он ласково погладил металлическую стенку стоявшего рядом на столе прибора, помолчал и вдруг весело сказал, тряхнув головой:
– Ладно. В двух словах. Самую суть, вернее, задачу. Вы помните, какой девиз был у Кречинского?
– Какого Кречинского?
– Ну, «Свадьбу Кречинского» читали? Сухово‑Кобылина? Хотя вы, газетчики, такой народ, вы все пишете, читать вам некогда…
– Я читал, но не помню же эту пьесу наизусть.
– Но этот девиз надо бы знать, он запоминается, – и, подняв тонкий палец, Волошин наставительно произнес:
– «В каждом доме есть деньги, нужно только знать, где они лежат…»
Я засмеялся.
– У меня девиз примерно такой же, – невозмутимо продолжал Волошин. – «Мир прозрачен, только нужно найти способы убедить в этом других». Все прозрачно, – добавил он, широко взмахивая руками. – И эти бетонные стены, и скалы, и любая толща морской воды, и сталь. Только нужно иметь ключик, чтобы он любую преграду превращал в прозрачное стекло.
– Над этим вы сейчас и работаете?
– Над этим мы и работаем.
– И что‑нибудь получается?
– Кое‑что, кое‑что, – задумчиво пробормотал Волошин.
– Интересно, – сказал я. – И сквозь стену показать мне мир сможете?
– Смогу, – засмеялся Волошин, опять поглаживая аппарат. – Но не так быстро, больно вы прыткий. Многое еще не получается, и вот это‑то самое интересное. Но о нем в двух словах не расскажешь. Если вы хотите всерьез понять, чем мы тут занимаемся, то поживите у нас, побродите по лабораториям, потолкуйте с людьми, спрятав записную книжку, вот тогда, может, что‑нибудь поймете. А народ у нас веселый, добродушный, и живем мы тут довольно интересно, скучать не будете.
Бурная ночь
«Живем мы тут довольно интересно, скучать не будете», – вспомнил я слова Волошина и невольно рассмеялся в темноте, хотя еще минуту назад мне было вовсе не до смеха…
Я так замерз, что от непрерывной дрожи у меня время от времени щелкали зубы, и промок, похоже, в самом деле до мозга костей – вовсе не фигурально.
Непогода усиливалась. Дождь лил с черного зловещего неба все сильнее, ледяными струйками просачиваясь за воротник, как ни старался я закутать шею. Мы то и дело хватались за черпаки, но вода в лодке все прибывала – лодка явно была дырявой. Сапоги мои тоже оказались дырявыми, и зверский холод все злее сковывал промокшие ноги.
Когда редкие вспышки молний на миг разрывали непроглядную дождливую тьму непогожей весенней ночи, я видел неподалеку вторую лодку, неподвижно застывшую на реке, рябой от дождевых капель. Черные фигуры в ней так же скрючились, замерзли, как и мы с Волошиным.
Посмотрев в другую сторону, я бы мог увидеть и третью лодку. Но поворачиваться мне не хотелось, потому что от малейшего движения за воротник хлынули бы новые потоки ледяной воды.
Река разлилась, пенилась. Мутные потоки закручивались то и дело водоворотами.
Какая нелегкая заставила меня сидеть здесь, под холодным дождем, посреди пустынной реки, в эту бурную, ненастную ночь, вместо того чтобы спокойно нежиться в теплой постели?
И сборы были какие‑то суматошные, словно мы отправлялись в разбойничий набег.
Начать с того, что в самый разгар увлекательного сна кто‑то грубо сдернул с меня одеяло и зловеще сказал:
– Пять минут на сборы, или мы уезжаем. И оденьтесь потеплее.
Сразу забыв, что мне такое интересное снилось, и ничего не соображая, я сел на койке. В комнате царила кромешная тьма. За окном завывал ветер и шумел дождь. Я уже протянул руку к выключателю, как вдруг за окном сверкнула молния и на миг залила комнату призрачным слепящим светом.
При ее блеске я успел заметить, что никого больше в комнате не было. Кто же срывал с меня одеяло? Чей это был голос? Или все мне приснилось?
Я зажег свет под гулкий, раскат подоспевшего грома и увидел мокрые следы на полу, тянувшиеся от двери до моей койки. Значит, кто‑то в самом деле будил меня.
Сквозь плеск дождя донеслись спорящие голоса, и тогда, окончательно проснувшись, я поспешно кинулся одеваться. Свитер, сапоги, плащ…
Люди, сновавшие под проливным дождем вокруг грузовика, выглядели при вспышках молний форменными заговорщиками. Верзила, тащивший на плече какой‑то ящик, прикрыв низко надвинутым капюшоном плаща все лицо, вовсе не походил на щеголеватого Волошина. Я узнал его, лишь когда он сердито рявкнул:
– Все еще не проснулись? А ну‑ка, подсобите.
– Так это вы меня разбудили? Спасибо…
– Спасибо потом. Сначала держите ящик, у него чертовски острые углы.
Вдвоем мы забросили тяжелый ящик в кузов машины. Его принял у нас какой‑то толстяк в ушанке, я не сразу узнал в нем заведующего лабораторией биофизики Макарова.
– Залезайте и сами, уже все погружено, – сказал он мне и подмигнул. – А то как бы командующий не передумал…
Я последовал его совету, торопливо забрался в кузов и пристроился среди ящиков и мокрых мешков в самом дальнем углу, чтобы не попасться до отъезда в самом деле на глаза нашего строгого директора: вдруг решит избавиться в моем лице от лишнего груза…
Я начал расталкивать мешки, пытаясь устроиться поудобнее, как вдруг под самым моим ухом певучий голос жалобно произнес:
– Ой, вы сели мне на ногу!
– Простите, пожалуйста, Елена Павловна, я вас совсем не заметил.
Прожив в необычном институте уже целую неделю, я не только познакомился со всеми научными сотрудниками, но, оказывается, уже научился различать их по голосам.
Елена Павловна была женой Макарова. Хотя они работали в разных лабораториях – она помогала Логинову, – их часто можно было видеть вместе – маленькую и тонкую Елену Павловну, похожую на мальчишку – особенно в брюках, которые она обычно носила в рабочие будни, – и плечистого, медвежеватого ее мужа с широким и скуластым обветренным лицом и хитрыми глазами, запрятавшимися куда‑то глубоко в узенькие щелочки под лохматыми бровями. Забавная пара.
– Вы‑то зачем едете, Елена Павловна? – спросил я. – Такая ужасная погода, еще простудитесь.
Она тихонько засмеялась в темноте и ответила:
– Как же это я не поеду, ведь угри – моя тема, А погода отличная. Нам, ихтиологам, к сырости не привыкать. Садитесь рядом. А я тут давно захватила лучшее местечко. Дорога будет трудная. Но вы устраивайтесь поудобнее, все уместимся. Я сейчас подвинусь. Вот так.
– Все сели? – услышал я голос директора.
Андрей Васильевич заглянул к нам под брезентовый тент, посвечивая ярким фонариком.
– Елена Павловна, может, все‑таки переберетесь в кабину?
– Спасибо, я чудесно устроилась и даже начала дремать.
– Ладно. Где Макаров?
– Как всегда, побежал захватить что‑то совершенно необходимое, – ответил откуда‑то из самой толщи наваленных мешков Волошин.
– Ага, вон он бежит, – проговорил Логинов, убирая свой фонарик. – Ваня, на что тебе термос, ведь все равно разобьешь по дороге.
– Ничего, я его буду всю дорогу прижимать к груди, – весело ответил Макаров, ловко перебрасывая свое грузное тело через борт грузовика. – Зато вы все мне в ножки поклонитесь, когда хлебнете горяченького кофейку перед тем, как лезть в воду. Поехали!
– А пресса здесь? – вдруг спросил Логинов.
Я так и замер.
– Здесь, помогает мне придерживать ящики, – ответил Макаров, усаживаясь рядом со мной и заговорщицки подталкивая меня в бок.
– И делает он это, все еще не проснувшись, – немедленно подхватил из своего укрытия Волошин.
Я понимал, что он шутит. Но, по‑моему, момент для шуточек был не самый подходящий. К счастью, наш строгий начальник уже исчез.
Мы тронулись в путь. Штормовое море ревело грозно и так близко, будто уже победно вырвалось на берег. Казалось, что к нам под брезентовый тент не захлестывает ветром дождевые холодные струи, а ломятся морские волны. Сосны вдоль дороги скрипели от натуги, борясь с порывами ветра.
В лесу дубы, как вымокшие свечи,
Над головой склоняются, треща,
И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща, ‑
торжественно начал было громко декламировать Волошин, но тут же чертыхнулся и смолк, потому что машина выехала за ворота, свернула с асфальта на проселочную дорогу и нас начало швырять во все стороны.
Мешки и ящики ожили, каждый из них норовил занять самое лучшее местечко, а мы, естественно, противились этому, и завязалась между нами борьба, не прекращавшаяся – с переменным успехом – всю долгую дорогу…
Куда и зачем мы мчались по глухим лесным дорогам в эту ненастную весеннюю ночь?
Уже несколько дней я слышал в институтской столовой, где сходились ненадолго все научные сотрудники, загадочные отрывочные разговоры.
– Ну как? Не двинулись?
– Нет, хотя Прокофьевич уверяет, будто глаза уже большие.
– Можем прозевать…
Вечером опять:
– Не двинулись?
– Нет. Погода мешает.
– А как прогноз?
– Завтра существенных перемен не предвидится.
– Так, может, они вообще нынче не станут скатываться?
– Ну нет, это исключено.
Я слушаю и ничего не понимаю. А через день снова тоже:
– Говорят, в Темной речке уже двинулись?
– Нет, это Макаров панику сеет. Куда они двинутся? Вон ночи какие лунные стоят.
– А как прогноз?
– Кажется, к концу недели обещают дожди и грозы…
– Как бы не прозевать. А то скатятся в океан, попробуй их там найти!…
Ловя ученых мужей одного за другим и расспрашивая их где‑нибудь в уголке, из которого они не могли выскочить и удрать от меня к своим неотложным опытам, я постепенно узнал, что таинственные речи идут об удивительно интересных вещах. Это была одна из основных тем, над нею в институте работало сразу несколько лабораторий, и готовилась даже специальная экспедиция.
Предметом этих исследований были речные угри. Наверное, многие, как и я, не раз лакомились этой вкуснейшей рыбой. Лакомились и не подозревали, какие интереснейшие загадки с нею связаны.
Оказывается, угри вовсе не всю свою жизнь проводят в реках. Метать икру они уходят в море, в Атлантику, и не куда‑нибудь наугад, а в строго определенный район, расположенный к северо‑востоку от Багамских островов. Здесь, в сумрачных глубинах Саргассова моря, из икры речных угрей, которую, кстати сказать, не видел своими глазами еще никто на свете, рождаются крошечные личинки длиною всего в несколько миллиметров.
Целых три года, постепенно подрастая, плывут они до берегов Европы. А здесь с ними происходят сложные перемены. Сначала личинка становится короче и делается прозрачной, почти как стекло. Таких маленьких угорьков, массами входящих в устья рек, и называют «стекловидными». Попав в пресную воду, они движутся навстречу течению, забираются за сотни и даже тысячи километров, к самым истокам рек и здесь живут по десять‑пятнадцать лет, превращаясь в тех жирных, упитанных красавцев угрей, которых мы видим на прилавках рыбных магазинов.
Так что каждый речной угорь за одну свою жизнь проживает как бы три, совершенно различные и одна на другую вовсе непохожие: сначала он крошечной личинкой три года странствует по Атлантическому океану, потом основную часть своей жизни проводит в пресных реках Европы, чтобы в конце концов, повинуясь какому‑то таинственному зову природы, снова отправиться в свое последнее странствие за тысячи километров, в те тропические воды, где он когда‑то появился на свет в глубинах Саргассова моря.
Начинают угри свое движение из рек в море – «скатываются», как говорят рыбаки, непременно в дождливые и ветреные непогожие ночи. Буря словно окончательно пробуждает их от зимней спячки в толстом слое или на дне озер и рек, под защитой ледяного панциря.
Наступает такая ночь, и теперь уже никакие преграды не могут задержать загадочных странников в реке. Встретив на пути плотину, угри выползают на берег и движутся прямо по росистым лугам. Они обладают чудесной способностью чувствовать воду даже за полтора‑два километра, всегда поворачивают к морю и ползут, извиваясь в мокрой траве, словно змеи, так быстро, что человеку бывает нелегко за ними угнаться.
Немало пришлось ученым потрудиться, пока они разобрались в сложной и запутанной жизни речных угрей. Долгое время никак не удавалось даже понять, где именно угри мечут икру. Две с половиной тысячи лет назад древнегреческий философ Аристотель считал, будто угри чудесным образом возникают из ничего в иле на дне болотистых озер – из каких‑то таинственных «кишок земли»… Но в более близкие времена такое объяснение уже не могло устроить никого. А другого все еще не было.
Даже когда в середине прошлого века удалось впервые поймать частой сетью личинок угрей в океане, их приняли просто за какой‑то новый вид странных рыбешек, дотоле не знакомых науке, и назвали лептоцефалами – «плоскоголовками». Никто и не подозревал, что это личинки речных угрей, которых так давно и тщетно искали в илистых озерах, пока в одном из аквариумов экзотические лептоцефалы, постепенно подрастая, не превратились буквально на глазах у изумленных ученых в молоденьких угорьков!
Но еще пришлось немало бороздить моря, пока удалось, наконец, выяснить, откуда же появляются загадочные лептоцефалы. Окончательно разведал район нереста речных угрей в Атлантике датский ученый Иоганнес Шмидт сравнительно недавно – в начале двадцатого века.
Однако на этом загадки не кончились, и во всем ученом мире интерес к угрям вовсе не пропал, а, наоборот, стал возрастать. Все новые и новые вопросы вставали перед исследователями.
Почему речные угри совершают такие далекие странствия? Почему для метания икры они выбрали лишь один уголок в безбрежном Мировом океане? Каким образом они находят к нему дорогу за тысячи километров? Какие загадочные ориентиры в океане, где одна волна неотличима от другой, служат им надежными «маяками»? И какая таинственная сила уверенно ведет крошечные личинки древней морской дорогой их предков к берегам Европы, через проливы Каттегата и Зунда, через Босфор и Дарданеллы, в устья рек, где им суждено превратиться в речных угрей, достигающих порой полутора метров в длину?
Как было бы заманчиво разгадать все эти тайны и попытаться наделить чудесными способностями угрей находить себе верную дорогу в море навигационные приборы кораблей, подводных лодок, может быть, самолетов!
Вот над этим‑то и работали мои новые друзья из Института морской бионики. Изучением речных угрей тут занимались не первый год. Совершили уже несколько плаваний по маршрутам морских скитальцев, и в Одессе специальное экспедиционное судно «Богатырь», как я узнал, уже готовилось снова выйти в море. Оно ждало, когда угри двинутся в свой дальний путь – сначала «скатываясь» вниз по рекам и ручейкам, потом через проливы в океан, – к заветному Саргассову морю, чтобы плыть за ними следом.
Ждали этого момента и мы. Но угри долго не отправлялись в путь. Они тоже ждали. Ждали какого‑то неведомого сигнала природы. Ждали вот этой дождливой, ветреной, штормовой ночи…
…Лихой разбойничий свист, вдруг разорвавший усыпляющий шелест дождя, вспугнул мои мысли.
– Наконец‑то, – пробурчал Волошин, скрючившийся на корме лодки. – Я уже так закоченел, что не смогу, наверное, разогнуться.
Кашляя и кряхтя, словно столетний старец, он зажег яркий электрический фонарь. Загорелись фонарики и на других лодках. Теперь уже можно было не таиться. Настало время вытаскивать невод.
Это была нелегкая работа. Упираясь коленом в накренившийся борт лодки, я тащил, тащил, тащил мокрый капроновый трос, режущий ладони даже сквозь брезентовые рукавицы, а ему, казалось, не было конца. Рядом со мной тяжело пыхтели два рыбака. Волошин сидел на веслах.
Постепенно лодки сближались, подтягивая тяжелый невод к берегу. Похоже, улов неплохой: по рывкам троса мы уже чувствовали, как неистово бьются в неводе пойманные угри.
Дальше все пошло в таком бешеном темпе, что мне скоро стало жарко и я готов был сбросить брезентовую куртку, да времени для этого не выкраивалось.
Угри были скользкими, удержать их в руках никак не удава‑лось, а ведь ловить этих бестий надо было так, чтобы не причинить им ни малейших повреждений! Их скользкие, гибкие тела сжимались, словно резиновые, и тут же вдруг распрямлялись с мощью стальной пружины, сбивая нас с ног.
Один угорь так сильно ударил меня хвостом по голове, что шапка слетела в воду и поплыла, подхваченная быстрым течением.
Волошин попытался зацепить ее багром, но сделал слишком резкое движение и рухнул в ледяную воду, едва не перевернув лодку!
Я пытался вырвать из уключины весло и протянуть его Волошину, Весло не поддавалось. А Волошин скрылся с головой в воде… Его затягивало водоворотом!
Не раздумывая, я сбросил с себя брезентовую куртку, обрывая пуговицы, и прыгнул за борт.
Вода обожгла тело. Тяжеленные рыбацкие сапоги тянули меня на дно. Я нырнул поглубже, вытянув вперед руки, успел ухватить Волошина за край куртки…
Но в тот же миг течение вырвало его у меня из рук и потащило в сторону. А я почему‑то не мог плыть за ним. Моя левая нога словно попала в капкан. Что‑то крепко держало ее под водой.
А течение тянуло меня, давило, утаскивало на глубину…
«Сеть! – догадался я. – Нога запуталась в сети…»
У меня уже не хватало сил бороться с течением. Мутная вода захлестывала глаза, лезла в рот сквозь стиснутые зубы. Мне надо было во что бы то ни стало вдохнуть…
И в этот последний момент, когда я уже захлебывался, чьи‑то сильные руки выхватили меня из воды. Я почувствовал такую резкую боль в ноге, что подумал: «Оторвалась…»

Но нога была цела. Только сапог слетел с нее и остался где‑то в сетке.
Это, оказывается, Макаров рванул меня изо всей своей медвежьей силушки и втащил в свою лодку. Волошин был уже тут же, сидел, обхватив себя руками за плечи, на дне лодки и громко лязгал зубами.
– Как вас‑то угораздило свалиться? – сердито спросил он.
– Свалиться? – возмутился я. – Да я же бросился вас спасать. Вас же затянуло водоворотом, вот я и бросился…
– Ничего меня не затягивало. Как только я попал в водоворот, то сам нырнул поглубже, чтобы из него вырваться, у самого дна это легче.
– Кто же вас знал, что вы такой опытный пловец? – огрызнулся я.
Пристав к берегу, мы с Волошиным забрались в кузов грузовика и там переоделись, сменив хоть часть промокшей одежды на сухую, которую нам пожертвовали товарищу, кто что смог. Потом Логинов заставил нас напиться горячего кофе и погнал бегать по берегу, чтобы согрелись.
– Ну как, довольны? – насмешливо спросил меня на бегу Волошин. – Не пора ли вам возвращаться домой, в свой журнал? Знакомство с нами уже едва не сделало вас утопленником.
– Нет, уж теперь я от вас не отстану! – ответил я, с трудом шевеля окоченевшими губами.
Отдать швартовы!
До самой последней минуты, пока не отдали швартовы, я все‑таки побаивался, как бы меня не вернули на берег. Поэтому даже в торжественный момент прощания я старался не попадаться на глаза Логинову или капитану.
Немалых трудов стоило мне уговорить редакцию, чтобы разрешили отправиться в это плавание. Обычная командировка неожиданно разрасталась в увлекательное и полное приключений путешествие, а заказанный мне очерк – похоже, в целую книжку. И неужели все это рухнет в последний момент?! Нет, я не хотел рисковать…
Все толпились на палубе, стараясь протиснуться поближе к борту и помахать на прощание родным, друзьям или просто родной земле, а я слонялся по бесконечным коридорам и трапам, поспешно прячась за углами, словно какой‑то преступник, едва впереди послышатся шаги.
Только вчера вечером мы прилетели из Калининграда, привезя в огромных чанах пойманных прибалтийских угрей. Их путь к своей далекой родине был на время прерван, и маршрут его изменен. Теперь им придется искать дорогу к местам нерестилищ не через проливы Каттегат и Зунд, где когда‑то они проплывали мальками, а из неведомого им Черного моря – через Босфор и Гибралтарский пролив. Справятся ли они с этой задачей?
Но вот наверху бодро и требовательно проревел последний гудок, от заработавших машин мелко задрожал пол под ногами, я ринулся на палубу, растолкал всех и пробился к борту. Наш «Богатырь» уже отвалил. Полоса воды, расцвеченной радужными пятнами мазута, между нами и причалом, заполненным провожающими, расширялась…
– А ведь есть еще возможность отправить лишних на берег на лоцманском катере, – зловеще пробормотал у меня над ухом мрачный голос Волошина.
Но я даже не оглянулся на эту угрозу. Нет, теперь не оставалось никаких сомнений: мы уходили в дальнее плаванье!
Берег вскоре растворился, растаял в предвечерней дымке. Зарываясь носом в крепчавшую волну, убежал обратно в гавань провожавший нас катерок, посигналив на прощание флажками какое‑то напутствие. И мы остались одни – только наш «Богатырь» и море, только волны до самого края небес…
Мы вышли в море, и постепенно жизнь на корабле приобретала размеренный строгий ритм. Утром побудка, торопливо съедается завтрак, и все исчезают в лабораториях, чтобы в полдень снова встретиться за обеденным столом. Обед тянется уже подольше и проходит оживленнее. За всеми столиками обмениваются новостями. А вечерами, после раннего ужина, уже никто никуда не спешит, и не только кают‑компания, но и все салоны превращаются в дискуссионный клуб. Даже на палубе в это время не найдешь тихого уголка. Едва сойдутся хотя бы два ученых, как тут же разгорается спор.
Меня поселили вместе с Волошиным в тесноватой, но уютной каюте на полубаке. Я был весьма рад, потому что мне нравится этот находчивый и остроумный человек. К тому же он связан буквально со всеми лабораториями и поможет лучше разобраться, чем в каждой из них занимаются.
Но в начале плавания мы с ним почти не виделись. Сергей Сергеевич приходил в каюту только ночевать, целыми днями пропадая в лабораториях и налаживая всякое оборудование.
Волошину помогала группа молодых инженеров и техников, не чаявших в нем души. Они так и ходили за ним стайкой. Ребята все были молодые, очень разные внешне и в то же время отличались каким‑то своеобразным единым стилем: все одевались щеголевато, но со вкусом, подражая Волошину, все были насмешливы и остроумны. «Кандидаты в Эдисоны» – называл их Сергей Сергеевич, а когда сердился – не так уважительно – «Моя банда».
Первые дни плавания у меня, конечно, ушли на детальное знакомство с «Богатырем». Я облазил его весь – от знойного, полного гула машинного отделения до марсовой смотровой площадки на топе фок‑мачты.
Я забрался даже в трубу «Богатыря». Это оказалось не так сложно, потому что труба была фальшивой, установленной лишь по традиции, для красоты. На самом деле в ней помещалась радиорубка, а настоящая выхлопная труба из машинного отделения находилась в борту судна у самой ватерлинии, совершенно незаметная для глаз.
Высоко над палубой поднималась штурманская рубка, похожая из‑за множества всяких новейших навигационных приборов тоже на научную лабораторию. Здесь царили тишина и строжайший порядок, за поддержанием его бдительно следил капитан Аркадий Платонович Щербатых. Он был полный, круглолицый, румяный, весьма добродушный на вид. Но скоро мы все убедились, что внешность у Платоныча была обманчивой.
Капитан оказался строгим. Уже в первые часы плавания он начал донимать нас всякими запретами, их зычно провозглашали по всем палубам и каютам репродукторы. Запрещалось курить на всех палубах, кроме шлюпочной. Запрещалось курить лежа на койке в каюте. Запрещалось выбрасывать окурки за борт, играть на палубе в неположенные часы на гитарах и других музыкальных инструментах, опаздывать в столовую и свистеть (это, видимо, чтобы не накликать непогоду – дань морским суевериям)…
«Богатырь» строился специально для морских исследований, и все на нем продумано до мелочей. Среднюю часть палубы занимали мощные лебедки с намотанными на барабаны километрами тонкого и необычайно прочного нейлонового плетеного троса.
Специально сконструированный гидравлический кран был предназначен для спуска за борт исследовательского глубоководного кораблика, которым особенно гордился Сергей Сергеевич.
«Батискаф», – записал было я в блокнот, но Волошин тут же поправил меня:
– Назвать так это судно было бы технически неграмотно. Наш снаряд не имеет поплавка и предназначен для средних глубин, до шести тысяч метров. Так что правильнее его называть мезоскафом от греческого «мезос» – середина. Предельные глубины нам не нужны, зато он куда более маневрен, чем обычные батискафы.
Установленный на особой площадке мезоскаф напоминал подводную лодку с тупой, округлой носовой частью или, пожалуй точнее, громадную торпеду. Длина его достигала десяти метров.
Над палубой мезоскафа выступала рубка с установленным на ней большим винтом, что делало подводный корабль похожим отдаленно на вертолет. Сергей Сергеевич объяснил, что мезоскаф так точно рассчитан, что имеет в воде почти нулевую плавучесть. Винт, вращаясь, позволяет ему свободно перемещаться то вверх, то вниз. Для всплытия же на поверхность нужно продуть водяные цистерны, а в случае какой‑нибудь неполадки автоматически сбрасывается стальной балластный киль.
Внутрь мезоскафа мне пока заглянуть не удалось. Волошину не до любознательных экскурсантов.
Морскую живность, прятавшуюся под водой, можно было не только ловить глубоководными сетями, но и постоянно фотографировать и даже наблюдать, так сказать, живым глазом в привычной обстановке. Для этого вовсе не приходилось останавливать судно.
В стальной форштевень «Богатыря» были вставлены большие иллюминаторы, находившиеся метра на три ниже ватерлинии. Возле этих окон в подводный мир, удобно улегшись на пестрых поролоновых матрасиках, всегда – днем и ночью – дежурили по очереди биологи, включая в нужный момент кинокамеру, чтобы запечатлеть на пленке заинтересовавших их рыб, медуз и других обитателей моря.
Я сновал по судну с утра до вечера, и все равно каждый день для меня открывались какие‑нибудь еще неведомые интереснейшие уголки. Одних ведущих лабораторий на «Богатыре» ведь шестнадцать – настоящий плавучий институт, странствующий по океанам! И все они оснащены самым новейшим оборудованием, разобраться в котором было не так‑то просто.
Специальную большую каюту, напоминавшую зал солидной электростанции, занимала электронно‑вычислительная машина, делавшая расчеты и для биологов, и для физиков, и для химиков, даже для штурмана «Богатыря».
Биологи располагали для своих исследований не только мощным электронным микроскопом, но и двумя лазерами. Елена Павловна мне объяснила, что луч лазера служит им как бы хирургическим скальпелем при тончайших операциях на отдельной клетке, едва рассмотримой в микроскоп.
При биологической лаборатории была также настоящая операционная с бестеневыми лампами и стерилизаторами. Один из столов в ней был оборудован сверкающими хромом и никелем механическими руками – микроманипуляторами, – опять‑таки для операций на самых крошечных объектах, которые можно рассмотреть лишь в микроскоп.
В эти первые дни плавания Елена Павловна, похоже, и ночевала у себя в лаборатории – возле больших бассейнов – или, точнее, аквариумов, ибо они были наглухо, герметически закрыты. В них находились живые угри, пойманные нами в ту бурную ночь в маленькой речушке и привезенные на самолете с берегов Прибалтики.
В этих громадных аквариумах «угри должны были чувствовать себя как дома» – так сформулировал однажды Сергей Сергеевич нелегкую задачу, которую поставили перед инженерами биологи. Специальные хитроумные приборы автоматически поддерживали в них именно тот состав воды и температуру, какие были в глубинах моря, где невидимками плыли сейчас другие речные угри – свободные, отправившиеся к далеким местам нереста из речек, впадающих в Черное и Азовское моря. Менялись там, в глубине моря, химический состав воды или ее температура – и приборы немедленно точно так же автоматически изменяли и режим в аквариумах. Это была сложная задача, так что Волошин тоже то и дело заглядывал в лабораторию биологов, все что‑то подправляя, уточняя, заменял некоторые приборы новыми, только что изобретенными им или кем‑нибудь из его преданных «кандидатов в Эдисоны» и немедленно изготовленными в их мастерской, оборудованию которой мог бы позавидовать любой институт на суше.
– Мы с Иваном Андреевичем придерживаемся магнитной гипотезы ориентировки угрей, – объясняла мне Елена Павловна (говоря о научных проблемах, она всегда называла мужа официально – по фамилии или по имени‑отчеству). – Большинство исследователей предполагает, будто угри находят дорогу к местам нереста, ориентируясь прежде всего по изменениям температуры и солености воды. Вода Саргассова моря отличается как раз самой высокой средней температурой в Атлантике и наивысшей соленостью. Так что, считают многие биологи, угри просто плывут в ту сторону, где вода теплее и солонее, и в конце концов как бы автоматически оказываются в Саргассовом море…
– По принципу детской игры: «Теплее… Еще теплее… Горячо»?
– Вот именно. Но есть факты, противоречащие этой вроде бы весьма простой и стройной гипотезе. Дело в том, что в Средиземном море температура воды и соленость еще больше, чем в Саргассовом. Почему же угри все‑таки уходят отсюда на нерест в центр Атлантики? Непонятно. Чтобы как‑то преодолеть, снять это противоречие, сторонники «температурной гипотезы», если можно ее так назвать, вынуждены выдвигать добавочные предположения: будто угрей из Средиземного моря просто выносит к местам нереста через Гибралтар глубинное течение. Но это уже весьма усложняет гипотезу. Получается, что европейские угри, родившиеся некогда в одном месте, потом, при возвращении на свою родину, в Саргассово море, ведут себя совершенно по‑разному, в зависимости от того, где они провели свою жизнь – в реках бассейна Средиземного моря или Прибалтики: одни плывут по течению, другие – против него.
– А какова же ваша точка зрения?
– Мы с Макаровым считаем, что в основе ориентировки угрей главную роль играет земной магнетизм. Как раз в районе Саргассова моря расположена сильная магнитная аномалия, открытая, кстати сказать, нашими советскими учеными во время плаваний известной шхуны «Заря». Вот угри и плывут сюда отовсюду, ориентируясь по изменениям магнитного поля…
– То есть у них есть своеобразный магнитный компас?
– Примерно так, но только, конечно, у речных угрей это гораздо сложнее. Мы до сих пор не знаем, каким именно органом могут они воспринимать изменения магнитного поля… Но лабораторные опыты показывают, что угри весьма чувствительны к магнитным воздействиям, правда, лишь определенного вида. Но я не стану забивать вам голову цифрами. – Елена Павловна улыбнулась. – И так, наверное, у вас голова уже пухнет. В каждой лаборатории – свое, и все надо понять… Хотя бы приблизительно.
– Пухнет голова, Елена Павловна, вы угадали, – вздохнул я. – Уже шляпа не налезает, в которой я прилетел из Москвы. Цифр в самом деле, пожалуй, мне пока не надо. А вот в самых общих чертах: как вы надеетесь проверить свою гипотезу во время нашего плавания?
– Ну, не случайно мы отправились из Черного моря. Путь угрей, плывущих на нерест из Прибалтики, проследили в прошлом году. При этом впервые велась непрерывная запись всех изменений магнитного поля по дороге. Теперь такие же всесторонние исследования предстоит провести и по маршруту угрей, плывущих к местам нереста из Черного и Средиземного морей. У Босфора мы выпустим в море и тех угрей, что привезли из Прибалтики. Очень интересно узнать, найдут ли они дорогу, по которой им никогда в жизни не приходилось раньше плавать, или станут сбиваться с пути? Надеемся, что это даст возможность окончательно проверить, какая именно гипотеза является правильной, и разгадать, наконец, тайну ориентации речных угрей в открытом океане.
Я исписывал этими сведениями один блокнот за другим, и голова моя в самом деле начинала распухать от сложных гипотез, связанных к тому же сразу с несколькими совершенно разными областями науки.
Посудите сами: после беседы об угрях с Еленой Павловной я попадал в лабораторию биохимии, и здесь Казимир Павлович Бек ошеломлял меня совсем иными проблемами.
Казимир Павлович был сутуловат, медлителен в движениях, всегда задумчив и немного рассеян. Беседуя, он любил расхаживать, заложив руки за спину. Пожалуй, он больше всего приближался к традиционному типу кабинетного затворника по сравнению с другими учеными на «Богатыре», особенно по сравнению с такой «несолидной» на вид, похожей на мальчишку Еленой Павловной или насмешливо‑щеголеватым Волошиным. Но потом мне суждено было узнать, что такое представление о Беке оказалось совершенно ошибочным…
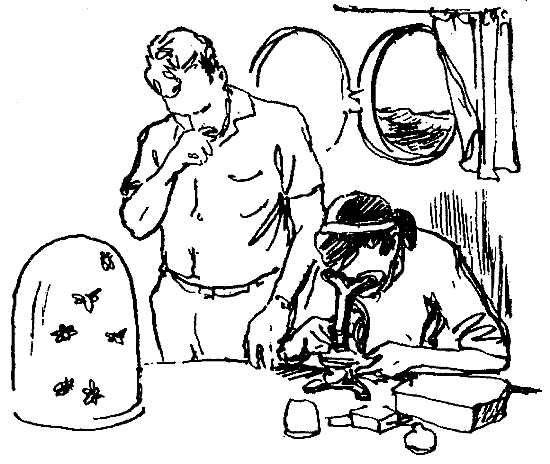
– Одна из проблем, которыми занимается наша лаборатория, – это поиски способов ныряния человека на большие глубины, – рассказывал он размеренным, глуховатым голосом, рассеянно выстукивая пальцами в то же время какую‑то сложную мелодию по столешнице.
– Без глубоководных снарядов – скафандров или батискафов?
– Да. Настало время человеку осваивать глубины океанов, и это задача не менее важная, чем освоение космоса. И пожалуй, не менее сложная. Не так давно на международном конгрессе по исследованию глубин известный французский подводник Жак‑Ив Кусто даже предложил хирургическим путем создать новый вид людей – «человека подводного». Для этого он предлагает дать человеку искусственные жабры, снабдить его миниатюрным легочно‑сердечным аппаратом, который бы вводил кислород из воды непосредственна в кровь и удалял из нее углекислоту. Чтобы тело человека могло противостоять давлению воды на глубинах, по идее Кусто, придется легкие и все полости костей заполнить какой‑нибудь нейтральной жидкостью, а нервные центры дыхания – соответствующим образом затормозить…
– Похоже, что мечта Беляева об Ихтиандре становится уже рабочим планом ученых?
Казимир Павлович улыбнулся:
– Пожалуй. Только, естественно, в более сложном виде.
– А как вы относитесь к этой идее? Мне показалось по вашему тону, что вы ее не разделяете. Считаете невозможной?
– Я не люблю этого слова: «невозможно», – ответил Бек, пожав плечами. – Думаю, что такому умельцу, как наш Сергей Сергеевич, не составило бы особого труда сделать искусственные жабры, а блистательный хирург, вроде Логинова, сумел бы вживить их в человеческий организм. Но мы думаем, что можно обойтись и без уродования человека. Есть полная уверенность, что в самое ближайшее время люди смогут нырять на глубину двух километров в обычном акваланге и даже вообще без него.
– Над этим вы и работаете?
Казимир Павлович кивнул.
– А в чем заключается суть ваших исследований? – спросил я и добавил: – В самых общих чертах.
Поспешность, с какой я, видимо, это сказал, заставила Казимира Павловича снова улыбнуться.
– Ну, в самых общих чертах, мы пытаемся найти такой состав газовой смеси для дыхания, чтобы он при погружении на большие глубины обеспечивал аквалангиста достаточным количеством кислорода, а в то же время не вызывал опасных заболеваний, вроде «глубинного опьянения», о котором вы, наверное, слыхали, и «кессонной болезни» при подъеме на поверхность…
– И эти смеси вы проверяете на козе? – спросил я, вспомнив удивительное зрелище козы в аквариуме, которым поразил меня Волошин при первом осмотре института. – Вы взяли ее с собой?
– Козу? Конечно, даже не одну, а целое стадо – пять коз.
– Но почему именно коз вы выбрали для опытов по нырянию на большие глубины?
– Просто потому, что дыхательная система у них ближе всего к нашей, человеческой.
Потом я не раз видел этих коз – и когда они отдыхали между опытами, меланхолически жуя сено и сердито поглядывая на меня желтыми глазами из‑за загородки, и во время опытов, когда в барокамере они «ныряли» на различную глубину в забавных, специально скроенных по козьей голове аквалангах. Давление в камере менялось, и, оставаясь в лаборатории, коза как бы погружалась все глубже и глубже, разведывая путь в глубины океанов для человека.
Необычность и разнообразие научного материала, в котором следовало разобраться, приводили меня в тихое отчаяние. Вечерами я сидел в каюте, обложившись толстенными учеными фолиантами и всякими научными отчетами, похожими на издевательскую абракадабру.
– Что, тяжеленько приходится? – подтрунивал Волошин, возвращаясь поздно вечером в каюту и приступая к традиционному ритуалу дыхательной гимнастики и умыванию перед сном. – Слушайте, хотите, я буду впихивать в вас знания во сне? Гипнопедия нынче в моде. Подключу к вам магнитофончик, и будет он вам нашептывать: «Принятая система отсчета…»
 2020-04-20
2020-04-20 120
120






