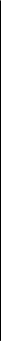Кризис реализма
Социальные и культурные обстоятельства русской жизни, о которой шла речь в прошлых главах, не могли не отразиться на собственно эстетическом характере литературного процесса. Они проявились в частности, в драматических формах сосуществования модернизма и реализма.
Политика огосударствления ставила перед собой в принципе недостижимую цель: создание одной, общей для литературы и всех прочих видов искусства эстетической системы — монументального стиля, или же «Культуры Два» (В. Паперный). В литературе ей соответствовал социалистический реализм. Подобная задача противоречила всем законам литературного развития, ибо тайна движения литературы состоит в противоречиях, которые формируются между различными эстетическими системами, стилевыми течениями, различными концепциями мира и человека. Чем их больше, тем богаче литература, тем интереснее и плодотворнее ее поиски: во взаимодействии, полемике, отрицании, в векторах взаимопри-гяжения и отталкивания формируется поле напряженных художественных поисков и открытий. В литературном процессе, как и в любой творческой сфере человеческого бытия, не может быть полного единомыслия.
Между тем, именно к такому единомыслию, к творческой унификации, приводила литературу политика огосударствления. Социалистический реализм должен был стать (и стал почти на два десятилетия в литературе метрополии) единственно возможной эстетикой. Любые иные художественные решения официально отвергались (постановлениями, советской критикой, издательской 130
практикой) и вытеснялись в эмиграцию — внутреннюю (потаенная литература) либо внешнюю. Это означало, по сути дела, формирование совершенно новых законов литературы. Подобно принцессе из сказки Маршака «Двенадцать месяцев», которая для того, чтобы получить зимой подснежники, собиралась издать новый закон природы, государство формулировало и внедряло в жизнь новые законы природы литературной. По этим законам формировалась эстетика социалистического реализма; все, что не соответствовало им, не допускалось к читателю.
Однако становление социалистического реализма опиралось не только на формулируемые сверху законы литературного развития, но и на внутренние процессы, характеризующие состояние реалистической эстетики. Таким образом, «удачное» совпадение партийной политики и имманентных законов литературного развития привело к возникновению того явления, которое получило название «социалистический реализм».
Между тем, закономерность появления и бытования этой эстетической системы не была осознана в критике и литературоведении. Это проявилось, в частности, в яростной атаке на соцреализм, которой ознаменовался конец 80-х годов — романтическая пора ниспровержения старых литературных концепций (зачастую уже рухнувших, не воспринимавшихся серьезно) и чаяния немедленного становления новых. Тогда на страницах «Литературной газеты», а затем и в других изданиях развернулась дискуссия о социалистическом реализме. Ее пафос состоял в столкновении двух точек зрения, в равной степени идеологизированных: одни, защищая соцреализм, отстаивали ценности советской классики от поспешных на нее посягательств, другие же их ниспровергали, противопоставляя им вновь опубликованное и прежде запретное. И. Золотусский, представляющий лагерь ниспровергателей, увидел в соцреализме крошку Цахеса, утонувшего в собственном горшке. И идеологизированность дискуссии, и крайность суждений естественна для того времени, но если встать на приведенную точку зрения, то получится, что социалистического реализма не было... потому что он не нравится. Такая точка зрения простительна критику, но историку литературы — вряд ли.
Между тем, еще раз подчеркнем, социалистический реализм — исторически обусловленное и эстетически оформленное явление. Его формирование проходило, с одной стороны, под воздействием обстоятельств собственно литературного плана, с другой стороны, под воздействием внешних, социально-политических, условий.
9*
Кризис реализма
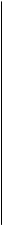


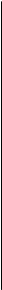

 К обстоятельствам собственно литературного плана можно отнести те результаты, с которыми пришла реалистическая эстетика к рубежу веков. К этому моменту она уже не могла быть господствующей — рядом появились модернистские эстетико-идеологи-ческие течения (в первую очередь, символизм, затем акмеизм, футуризм; в прозе — импрессионистические и экспрессионистические тенденции). Реализм явно утрачивал свои мировоззренческие и литературоведческие позиции — и под давлением модернизма, и в результате кризиса позитивистского сознания: человеку рубежа веков открылась та истина, что действительность намного сложнее, чем казалось раньше, что мироздание и частная судьба человека вовсе не всегда вписываются в простую совокупность причин и следствий. Реалистическая эстетика не могла уйти с литературной карты, но нуждалась в обновлении. Все это привело к кризису реализма, пришедшемуся как раз на рубеж веков.
К обстоятельствам собственно литературного плана можно отнести те результаты, с которыми пришла реалистическая эстетика к рубежу веков. К этому моменту она уже не могла быть господствующей — рядом появились модернистские эстетико-идеологи-ческие течения (в первую очередь, символизм, затем акмеизм, футуризм; в прозе — импрессионистические и экспрессионистические тенденции). Реализм явно утрачивал свои мировоззренческие и литературоведческие позиции — и под давлением модернизма, и в результате кризиса позитивистского сознания: человеку рубежа веков открылась та истина, что действительность намного сложнее, чем казалось раньше, что мироздание и частная судьба человека вовсе не всегда вписываются в простую совокупность причин и следствий. Реалистическая эстетика не могла уйти с литературной карты, но нуждалась в обновлении. Все это привело к кризису реализма, пришедшемуся как раз на рубеж веков.
Размышляя об определенной исчерпанности реалистических принципов типизации, Ю. Айхенвальд так определил их недостаточность в жизни и в литературе: «Можно ли будет когда-нибудь ввести душу в определенное русло причин и следствий?.. И теперь, как и прежде, и потом, как и теперь, душа остается и останется вовеки непостижимой... Законы для души неписаны, а потому неписаны они и для искусства»127.
Разговоры о кризисе реализма, которым отводилось много места в символистских журналах, имели под собой несомненное основание: реализм уже не мог претендовать на роль универсальной эстетической системы, способной объяснить мир и человека в нем. И хотя Д. Мережковский с грустью констатировал, что «преобладающий вкус толпы — до сих пор реалистический»12, было ясно, что веком классического реализма останется век XIX, но не станет грядущий XX в. На то были очевидные причины. Изменилось общее состояние мира и видение его человеком. И если классический реализм вполне отвечал «картине мира, создававшейся на основе позитивных научных представлений XIX в. и на основе закономерностей обыденного сознания эпохи»129, то XX в. имеет и совершенно иное обыденное сознание, и иную, не позитивистскую, картину мира. Не только научное мировоззрение, но и обыденное сознание человека XX в.
отличаются от мировоззрения и обыденного сознания, характерного для века прошлого. Новейшие открытия в философии, физике, в сфере гуманитарных наук (новые концепции времени и пространства, теория относительности А. Эйнштейна, дуализм «волна частица» в квантовой механике, воззрения 3. Фрейда, архетип К.-Г. Юнга, хронотоп М. М. Бахтина) показали, что картина мира выглядит значительно сложнее и вовсе не так прямолинейно и однозначно, как в позитивистском представлении.
Реализм второй половины прошлого столетия погрузил героя в разветвленную систему координат, он, по меткому выражению исследователя, как бы «организовал реальное и собрал воедино его параметры. Он привнес от себя — решающую для него — концепцию человека, детерминированного исторически, социально, биологически». В результате «причинно-следственные связи становятся эстетическим субъектом. Поэтому объяснение в прозе реалистов только отчасти является прямым, в остальном же косвенным. Читатель получает изображение среды, характера — как бы материал для художественного умозаключения»130. Это позволяет Л. Гинзбург сделать вывод о том, что «литература объявляет своей задачей установление причинно-следственных связей», воздействовавших на сознание личности; о том, что «любой душевный опыт, даже иррациональный, предстает в своих причинно-следственных связях»131. В результате человек оказывается объяснен обстоятельствами самого разного характера, а художник исследует их прихотливую вязь. «Только детерминированный человек литературы второй половины XIX в. связал воедино психологический анализ и предметность описания, социальную характерность и интерес к повседневному, ис-торизм и отказ от жанровой и стилевой иерархии»1.
Ощущение того, что человек — и литературный герой — выходит из-под гнетущей власти детерминировавших его обстоятельств, стало своего рода знаком эпохи рубежа веков. «Социальные обстоятельства окружающего бытия, становясь все более колеблемыми и изменчивыми, утрачивая авторитет законности, давности, прочности, лишались былой — гнетущей и давящей — власти над человеком. Высвобождение из-под их диктата активных начал человеческой жизни, переоценка отношений личности и среды — таков главный итог, извлеченный русским реализмом из кризисной
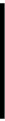
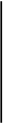

 127 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 4-е изд. М., 1914. С. VII.
127 Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 4-е изд. М., 1914. С. VII.
128 Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной рус
ской литературы. СПб., 1893. С. 38.
129 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. М., 1987. С. 11.
130 Там же. С.32
131 Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979. С. 64, 67.
132 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. С. 10.
Кризис реализма
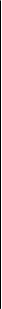 общественной ситуации», — размышляет В. Келдыш133. За личностью признается право непредсказуемой и недетерминированной в классическом смысле изменчивости, внутренней волевой имманентной реакции на событие. Отказ от классической формулы «среда заела» заставляет литературу выйти из сферы жесткой реалистической детерминации и искать новые пути изображения личности и мира.
общественной ситуации», — размышляет В. Келдыш133. За личностью признается право непредсказуемой и недетерминированной в классическом смысле изменчивости, внутренней волевой имманентной реакции на событие. Отказ от классической формулы «среда заела» заставляет литературу выйти из сферы жесткой реалистической детерминации и искать новые пути изображения личности и мира.
Эти пути часто обнаруживались в иррациональной сфере, которая оказывалась вовсе не сводимой лишь к постигаемой логически причинно-следственной обусловленности характера, как в традиционной реалистической эстетике прошлого века. Человеческий характер предстал в литературе рубежа веков началом иррациональным.
Человеческая пестрота — одна из самых главных загадок, осознанных литературой XX в. Еще Л. Н. Толстой говорил, что люди «пегие — хорошие и дурные вместе». С ним соглашался Горький: «Естественное состояние человека, — говорил он, — пестрота. Россияне же — особенно пестры, чем и отличаются существенно от других наций». Эта «пестрота», многосоставность человека и стала одним из важнейших предметов изображения у Горького, притом находила для себя объяснения не просто в сфере иррациональной, но даже мистической.
Если для Толстого в противоречивости человека крылся источник «текучести», пластичности характера, то Горький видел здесь иные творческие возможности постижения человека. Утрачивая толстовскую пластичность и текучесть характера, писатель утверждал наличие в герое в один и тот же момент самых разных, полярных качеств — и человек способен повернуться то одной, то другой своей стороной в рамках одной ситуации, в пределах одного мгновения. Это заставляло одного из исследователей творчества Горького Е. Тагера говорить о «динамике социальных разрывов», о том, что сам писатель называл «фокусным прыжком из одного положения в другое».
Эта многосоставность человеческой личности исследуется Горьким в его автобиографической трилогии. Автобиографический герой поражен пестротой людей: «Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложенно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжко угнетала меня». Дед Каширин, поразивший мальчика чудовищной экзекуцией, чуть не запоровший его до смерти, приходит к внуку, только-только выздоравливающему после порки, просить прощения —
133 Келдыш В. Русский реализм начала XX века. М., 1975. С. 12. 134
и открывается с совершенно другой, светлой, поэтической стороны. Эта противоречивость мучительна для писателя и для его автобиографического героя, но на протяжении всего творчества он будет искать в людях эти противоречия — и акцентировать их, доводить до взрыва.
Неоднозначность человека, его одновременная готовность на самые высокие подвиги духа и на самые низменные поступки угнетала художника и заставляла искать самые разные формы ее художественного воплощения. Когда герой автобиографической трилогии видит пляску Цыганка, то эта противоречивость находит даже зрительное воплощение: кажется, что пляшет не один, а десять человек, все разные.
Иногда на своем творческом пути писатель останавливался в недоумении, не зная, как объяснить эту противоречивость русского человека. В рассказах 20-х годов, которые были своего рода подготовительным этапом к «Жизни Клима Самгина», он тщится и не может понять ее истоки, совершенно, в сущности, иррациональные, не поддающиеся логическому объяснению.
Так, например, в рассказе М. Горького «Карамора» (1924) герой безуспешно пытается найти совмещение несовместимым сторонам своей жизни: участие в революционной подпольной организации и служба осведомителем в жандармском отделении. Его жизнь состоит из серии совершенно бессмысленных предательств: он работает на тех и других, предает тех и других. «Живут во мне, — пишет в своей исповеди Карамора, — два человека, и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять: откуда вражда, почему?» И автор, и герой не могут не только реалистически объяснить подобную ситуацию, но и вообще хоть как-то ее осмыслить. Мотивация, которую дает Горький, лежит явно не в традиционной детерминистской сфере: он объясняет это непостижимостью русского национального характера, его противоречивостью и неслаженностью.
Человек может предстать перед писателем и как кукла, как нечто, стоящее на грани между живым и неживым. В «Рассказе об одном романе» повествователь встречает человека, который обладает только профилем, но лишен фаса. Оказывается, это всего лишь плод воображения некого писателя, который не успел додумать своего героя, и он живет лишь в плоскости, но не в объеме.
Невозможность рационального объяснения человеческого характера заставила М. Горького обратиться к иррациональному и
Кризис реализма

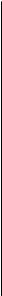


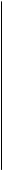
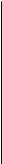
 фантастическому началу, которое все более и более начинает проявляться в его творчестве с середины 20-х годов. В рассказе «О вреде философии» он говорит о мучительной трудности постижения иррационального в мире и человеке и о том, что элементы фантастики и гротеска — наиболее естественная форма выражения этой иррациональности. «Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человеческие ноги, каждая отдельно от другой... Летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков».
фантастическому началу, которое все более и более начинает проявляться в его творчестве с середины 20-х годов. В рассказе «О вреде философии» он говорит о мучительной трудности постижения иррационального в мире и человеке и о том, что элементы фантастики и гротеска — наиболее естественная форма выражения этой иррациональности. «Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человеческие ноги, каждая отдельно от другой... Летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков».
Начала жизни, которые невозможно объяснить рационально, некие мистические связи и зависимости людских судеб становятся в эпосе Горького 20-х годов одним из самых заметных мотивов.
И это обстоятельство не является лишь деталью творческой биографии одного писателя, пусть и убежденного реалиста, каким оставался всегда Горький. Дело в общих закономерностях самой литературной природы. Суть в том, что обнаружила свою ненадежность поэтика, основанная «на признании разумной и сознательной эволюции, существования нерушимых законов в мире природы, которым биологически принадлежит человек», допускающая «возможность полного познания детерминированного порядка действительности», извлекающая «из этого детерминизма выводы, оптимистические в своей основе». Подобная поэтика предопределяет повествовательную и композиционную структуру произведения: «трактовка фабулы (причинно-следственного хода событий) как существенного элемента строения произведения, преимущественно объективное авторское повествование от третьего лица (часто всеведущего), затушевывание присутствия рассказчика»134. Недоверие к детерминизму и даже нигилистическая его трактовка формируют такую поэтику, при которой роль сюжета как функции причинно-следственных отношений сводится к минимуму, а подчас сюжет вообще редуцируется, происходит «распыление» человеческой судьбы, разрушение целостной картины мира или же ее гротескно-фантастическое толкование.
О. Мандельштам очень точно показал связь идеологии писателя-импрессиониста с эволюцией сюжетно-композиционной структуры, которую переживает жанр романа при переходе из реалис-
тической в модернистскую эстетику. Кризис детерминизма привел к изменению трактовки человеческой судьбы, которая традиционно была в центре романного сюжета, являлась его основой, стержнем. «Ясно, — пишет Мандельштам, — что когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории служит как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы. Мера романа — человеческая биография или система биографий. С первых же шагов новый романист почувствовал, что отдельной судьбы не существует, и старался нужное ему социальное растение вырвать из почвы со всеми корнями, со всеми спутниками и атрибутами». Недоверие нового времени и новой литературы к социально-исторической детерминации характера обуславливает, с точки зрения поэта, новую романную форму, принципиально противопоставленную традиционной. «Таким образом, роман всегда предлагает нам систему явлений, управляемую биографической связью, измеряемую биографической мерой, и лишь постольку держится роман композитивно, поскольку в нем живет центробежная тяга планетарной системы, поскольку центростремительная тяга, тяга от центра к периферии, не возобладала окончательно над центробежной... Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии, как формы личного существования, даже больше, чем распыления — катастрофической гибели биографии»135. Мандельштам точно ощущает вакуум, образовавшийся после ухода из литературы и из мироощущения человека XX в. всего широкого спектра реалистических мотивировок человеческой судьбы, а если и не ухода, то утрату универсальности, какой они обладали в литературе XIX столетия: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения»136. Такие краеугольные камни реалистической романной поэтики, как частная биография, сюжет, ей подчиненный, основанный на причинно-следственных связях и отношениях, универсальный детерминизм, осмысляются как утратившие свою безусловность. На смену им идет разорванность человеческой судьбы, случайность всех ее поворотов, как во многом случайно и ха-
134 Маковецкий А. Пути развития польской прозы на рубеже Х1Х-ХХ веков// Русская и польская литература конца XIX - начала XX века. М., 1981. С. 78.
135 Мандельштам О. О поэзии. Я., 1928. С. 54-55. |16Тамже. С. 56.
Кризис реализма
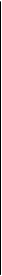

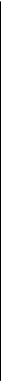 отично движение бильярдных шаров, фрагментарность картин и эпизодов, вытеснивших стройный логичный сюжет.
отично движение бильярдных шаров, фрагментарность картин и эпизодов, вытеснивших стройный логичный сюжет.
Шаткость тотального детерминизма, невозможность втиснуть жизнь в узкие рамки причин и следствий ощущали, казалось бы, очень многие — даже такой твердый и убежденный реалист, как А. Толстой. «Искусство, — художественное произведение, — размышляет он, — мгновенно. В нем нет места логике, потому что его цель — не найти причины какого-либо следствия, но дать во всей законченности живой кусок космоса»137. Если в художественной практике А. Толстого сказался все же характерный для реализма детерминизм, традиционный для классической, позитивистской картины мира, то эти его слова показывают, что он отнюдь не был убежден в единственности реалистического подхода.
Пережив кризис на рубеже веков, реализм вовсе не исчез из литературы. Напротив, выйдя из кризиса обновленным, обретя новые художественные черты, реализм стал играть роль ничуть не менее важную, чем раньше. Подобная ситуация выглядит совершенно естественной, ибо «человечество прошло через реализм XIX в. и вынесло неотменяемые уроки. Следы их можно обнаружить в творениях XX века, иногда даже самых причудливых. В некоторых же литературных системах черты эти приобретают решающее, конструктивное значение»138.
Но это уже была новая реалистическая эстетика по сравнению с тем, что мы видим в XIX в. Видоизменились реалистические принципы типизации, концепция личности, концепция художественного времени, иначе стали решаться вопросы об отношении искусства к действительности. Новая реалистическая эстетика проявилась в начале века, в первую очередь, в творчестве М. Горького, а в 20-е годы у целого ряда художников, таких, как Л. Леонов, А. Фадеев, А. Толстой, К. Федин, М. Шолохов и целый ряд других' Подобное изменение реалистической эстетики было связано с попыткой реализма (и вполне успешной) адаптироваться к мироощущению человека XX столетия, к новым философским, эстетическим, бытийным да и просто бытовым реальностям. И новая реалистическая эстетика, или новый реализм, как мы условно его назовем, справился с этой задачей, стал вполне адекватен мышлению нашего современника, будь то первая половина века или
137 Толстой А. Литературные заметки. Задачи литературы//Писатели об искус
стве и о себе. М.; Л., 1924. С. 10.
138 Гинзбург Л. О литературном герое. С. 80-81.
же его конец. В 30-е годы он достигает своей художественной вершины: появляются философские романы Л. Леонова «Дорога на Океан» и «Скутаревский», эпопеи «Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Тихий Дон» М. Шолохова, романы «Похищение Европы» и «Санаторий Арктур» К. Федина.
Но рядом с новым реализмом в 20-е годы формируется отличная от него эстетика, восходящая тоже к реализму. Ее возникновение связано с именами Ю. Либединского, Н. Островского, В. Ильенкова, А. Аросева, Ф. Гладкова. В 20-е годы она не доминирует, но активно развивается как бы в тени нового реализма. Однако именно эта эстетика несет в себе, в первую очередь, антигуманистический пафос насилия над личностью, обществом, желание разрушить весь мир вокруг себя во имя революционного идеала.
Кроме того, она практически теряет связь с реализмом, генетически унаследованную от предшествующих периодов литературного развития. Жесткая идеологическая ангажированность приводит к тому, что исследовательские функции, традиционные для реализма, уступают место функциям сугубо иллюстративным, когда миссия литературы видится не в исследовании реальности, но в создании некой идеальной модели социального и природного мира. Трансформируются реалистические принципы типизации: это уже не исследование типических характеров в их взаимодействии с реалистической средой, но нормативных (долженствующих быть с позиций некого социального идеала) характеров в нормативных обстоятельствах. Эту эстетическую систему, принципиально отличную от нового реализма, назовем нормативизм.
Но парадоксальность ситуации состоит в том, что ни в общественном сознании, ни в эстетическом, ни в литературно-критическом две эти тенденции не различаются, напротив, осмысляются как единая сначала пролетарская, потом советская литература. В 1934 г. это неразличение закрепляется общим термином: «социалистический реализм». С тех пор две различные эстетические системы, нормативная и реалистическая, во многом противопоставленные, мыслятся как некое идейно-эстетическое единство. На самом же деле отношения между ними вовсе не были безоблачны.
Если в 30-е годы можно говорить об их сосуществовании, то в последующие периоды новый реализм как бы вытесняется нормативизмом, и литература 40-50-х годов не дает материала, даже приблизительно сопоставимого по творческой значимости с художественными открытиями двух предшествующих десятилетий. Это
Социалистический реализм
Нормативизм: отношения личности и мира


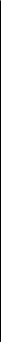

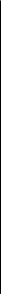


 период, когда на поверхности литературной жизни господствует нормативная нереалистическая эстетическая система.
период, когда на поверхности литературной жизни господствует нормативная нереалистическая эстетическая система.
В настоящее время предприняты очень интересные попытки описать не с идеологической, но с собственно эстетической точки зрения феномен нормативизма. Прежде всего эти попытки принадлежат зарубежным исследователям. Б. Гройс139, например, склонен рассматривать соцреализм как продолжение русского авангарда, X. Понтер140, как и К. Кларк141, рассматривает глобальные проявит ни соцреалистической эстетики 30-50-х годов как феномен советской ментальное™ (восприятие времени, пространства, большой и малой семьи). Фундаментальный труд, подводящий итог и одновременно открывающий интереснейшую перспективу изучения социалистического реализма как историко-культурного феномена 1920-1950-х годов, представляет собой издание «Соцреалистичес-кий канон»142. Характерным, однако, является тот факт, что его ав-горы строят свои концепции не столько на анализе художественного литературного материала, сколько, скорее, на исследовании партийно-политической печати, журналистики, литературно-критических, публицистических или философских работ. Это косвенно подтверж-ласт нашу мысль о том, что вовсе не вся литература социалистического реализма была нормативной, что крупные художники принадлежали, скорее, к собственно реалистической эстетике.
Восприятие традиционной реалистической среды как макро-среды, глобальных исторических процессов как фактора, мотивирующего характер, было знаком нового эстетического сознания. Человек оказался втянут реализмом XX в. в круговорот исторических событий — часто против собственной воли.
139 Гройс Б. Утопия и обмен. М, 1993 (см. главу «Стиль Сталин»); Рождение
социалистического реализма из духа русского авангарда//Вопросы литературы. 1992
Вып. 1. С. 42-61.
140 Гюнтер X. Железная гармония (Государство как тотальное произведение ис-
кусства)//Вопросы литературы. 1992. Вып. 1. С. 27-41; Гюнтер X. «Сталинские соколы»
(Анализ мифа 30-х годов)//Вопросылитературы. 1991. Ноябрь-декабрь. С.122-141.
141 Кларк К. Сталинский миф о великой семье//Соцреалистический канон СПб
2000. С. 785-796.
142 Соцреалистический канон. Сборник статей/Под общей редакцией X. Гюн-
гера и Е. Добренко. СПб., 2000. Книга интереснейшая, но появиться она могла
голько в постмодернистскую эпоху: издание о социалистическом реализме фи
нансируется фондом Volkswagen-Stiftung, статью «Марксистско-ленинская эсте
тка» пишет Катарина Кларк, помимо статей «"Новояз" как историческое явле
ние» и «Положительный герой как вербальная икона» присутствуют статьи, в
названиях которых пародируется прошлая эпоха: «Идейность — Классовость —
Партийность».
Новые принципы типизации заявили о себе в творчестве М. Горького, который лишил человека права стать Робинзоном, быть в обществе и одновременно вне его. Историческое время стало в горьковском эпосе важнейшим фактором, воздействующим на характер, и взаимодействия с ним, то позитивного, то губительного, не смог избежать никто из его героев. Кроме того, в новом реализме, становление которого связано с именами М. Шолохова, Л. Леонова, К. Федина, А. Толстого, изменяется сам тип взаимодействия характеров и обстоятельств. Влияние становится как бы двунаправленным: теперь не только характер испытывает на себе воздействие среды, но утверждается также возможность и даже необходимость воздействия личности на среду. Формируется новая концепция личности: человек не рефлексирующий, но созидающий, реализующий себя не в сфере частной интриги, но на общественном поприще.
В этом проявилось доверие художника XX в. к своему герою. Его свобода личностной самореализации оказалась практически ничем не ограниченной: личность выходит один на один с мирозданием, ощущая в себе право преобразования действительности в соответствии со своими глобальными планами. Перед героем и перед художником открылись великие перспективы и великие надежды на благое пересоздание мира. Но этим надеждам далеко не всегда суждено было реализоваться. Возможно, будущие историки русской литературы назовут период 20-30-х годов периодом несбывшихся надежд, разочарование в которых пришлось уже на вторую половину века. Утверждая права личности на преобразование мира, эта литература также утверждала права личности на насилие в отношении к этому миру — пусть и в благих целях.
 2015-03-27
2015-03-27 2177
2177