Сергей Кара-Мурза
(глава из книги «Крах СССР»)
Крах СССР поражает своей легкостью и внезапностью. И российских обществоведов, и американских советологов мучил вопрос: почему же рухнул брежневский социализм? Ведь не было ни репрессий, ни голода, ни жутких несправедливостей. Как говорится, «жизнь улучшалась»: въезжали в новые квартиры, имели телевизор, ездили отдыхать на юг, мечтали о машине, а то и покупали ее. Почему же люди поверили М. Горбачеву и бросились ломать свой дом? Почему молодой инженер, бросив свое КБ, со счастливыми глазами продавал у метро сигареты? Почему люди без сожаления отказались от системы бесплатного обеспечения жильем — ведь многих ждала бездомность? Это явление требовалось понять.
Но эта легкость и внезапность краха СССР кажущиеся. Кризис легитимности вызревал в течение 30 лет. Он и стал необходимым и достаточным условием для того, чтобы антисоветские силы завоевали в 80-е годы XX в. культурную гегемонию в среде интеллигенции, в том числе партийной. Почему же начиная с 60-X годов XX в. в советском обществе стало нарастать ощущениё, что жизнь устроена неправильно? В чем причина нарастающего недовольства? Сегодня она видится так.
Как уже говорилось, в 60–70-е годы XX в. советское общество изменилось кардинально — 70 % населения стали жить в городах. Под новыми объективными характеристиками советского общества 70-х годов скрывалась главная, невидимая опасность для общественного строя — быстрое и резкое ослабление, почти исчезновение, его прежней мировоззренческой основы. В то время советское обществоведение утверждало (и большинство населения искренне так и считало), что этой основой является марксизм, оформивший в рациональных понятиях стихийные представления трудящихся о равенстве и справедливости. Эта установка была ошибочной.
 Мировоззренческой основой советского строя был общинный крестьянский коммунизм. Западные философы иногда добавляли слово «архаический» и говорили, что он был лишь «прикрыт тонкой пленкой европейских идей». Это понимали и Ленин, примкнувший к этому общинному коммунизму, и марксисты-западники, которые видели в этом общинном коммунизме своего врага и пошли на гражданскую войну с ним в союзе с буржуазными либералами. Своим врагом его считали и большевики-космополиты, их течение внутри победившего большевизма было подавлено в последней битве гражданской войны — репрессиях 1937–1938 гг.
Мировоззренческой основой советского строя был общинный крестьянский коммунизм. Западные философы иногда добавляли слово «архаический» и говорили, что он был лишь «прикрыт тонкой пленкой европейских идей». Это понимали и Ленин, примкнувший к этому общинному коммунизму, и марксисты-западники, которые видели в этом общинном коммунизме своего врага и пошли на гражданскую войну с ним в союзе с буржуазными либералами. Своим врагом его считали и большевики-космополиты, их течение внутри победившего большевизма было подавлено в последней битве гражданской войны — репрессиях 1937–1938 гг.
В 60-е годы XX в. вышло на арену новое поколение последователей антисоветских течений, и влияние его стало нарастать в среде интеллигенции и нового молодого поколения уже городского «среднего класса». Поэтому перестройка — этап большой русской революции XX в., которая лишь на время была «отложена» ввиду чрезвычайных исторических обстоятельств. Сознательный авангард перестройки — духовные наследники троцкизма и, в меньшей степени, либералов и меньшевиков. Сами они этого не осознавали и поначалу считали, что пытаются «улучшить систему».
Общинный крестьянский коммунизм — большое культурное явление, поиск «царства Божия на земле». Он придал советскому проекту мессианские черты, что, в частности, предопределило и культ личности Сталина, который был выразителем сути советского проекта в течение 30 лет. Кстати, антисоветский проект также имеет мессианские черты, и ненависть к И. Сталину носит иррациональный, квазирелигиозный характер.
В ходе индустриализации, урбанизации и смены поколений философия крестьянского коммунизма теряла силу и к 60-м годам XX в. исчерпала свой потенциал, хотя важнейшие ее положения сохраняются и поныне в коллективном бессознательном. Для консолидации советского общества и сохранения гегемонии политической системы требовалось строительство новой идеологической базы, в которой советский проект был бы изложен на рациональном языке, без апелляции к подспудному мессианскому чувству. Однако старики этой проблемы не видели, так как в них бессознательный большевизм был еще жив, а новое поколение номенклатуры искало ответ на эту проблему (осознаваемую лишь интуитивно) в марксизме, где найти ответа не могло. Это вызвало идейный кризис в среде партийной интеллигенции.
Руководство КПСС после идейных и административных метаний Хрущева приняло вынужденное решение — «заморозить» мировоззренческий кризис посредством отступления к «псевдосталинизму» с некоторым закручиванием гаек («период Суслова»). Это давало отсрочку, но не могло разрешить фундаментального противоречия. Передышка 70-х годов XX в. не была использована для срочного анализа и модернизации мировоззренческой матрицы. Видимо, в нормальном режиме руководство КПСС того времени уже и не смогло бы справиться с ситуацией. Для решения этой срочной задачи требовалась научная дискуссия; но если бы руководство ослабило контроль, то в дискуссии потерпело бы поражение— «второй эшелон» партийной интеллигенции (люди типа А. Бовина, Ф. Бурлацкого, В. Загладина) был уже проникнут идеями еврокоммунистов. В открытой дискуссии он подыгрывал бы антисоветской стороне, как это мы и наблюдали в годы перестройки.
Пришедшая после Л.И. Брежнева властная бригада (М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев, Э. Шеварднадзе), сформировавшаяся в условиях мировоззренческого вакуума и идеологического застоя, была уже проникнута антисоветизмом. Эти люди учились и воспитывались под сильным влиянием их сверстников-«шестидесятников», затем корифеев еврокоммунизма и идеологов «пражской весны» с их утопией «социализма с человеческим лицом». В какой-то момент они, проскочив социал-демократию, сблизились с неолибералами типа М. Тэтчер, но это уже было скрыто от публики.
Чем был легитимирован советский строй в массовом сознании старших поколений? Памятью о массовых социальных страданиях. Аристотель выделял два главных принципа жизнеустройства: минимизация страданий или максимизация наслаждений. Советский строй создавался поколениями, которые исходили из первого принципа — минимизация страданий, предотвращение социальных бедствий и войны.
В 70-е годы XX в. основную активную часть общества стало составлять принципиально новое для СССР поколение, во многих смыслах уникальное для всего мира. Это были люди, не только не испытавшие сами, но даже не видевшие зрелища массовых социальных страданий.
Запад — «общество двух третей». Страдания бедной трети очень наглядны и сплачивают «средний класс» лучше, чем курсы научного коммунизма. Поэтому Запад старательно поддерживает коллективную память о социальных страданиях, а СССР 70-х годов XX в. эту память утратил. Молодежь уже не верила, что такие страдания вообще существуют.
Возникло первое в истории, неизвестное по своим свойствам сытое общество. О том, как оно себя поведет, не могли сказать ни интуиция и опыт стариков, ни тогдашние общественные науки. Вот урок: главные опасности ждут социализм не в периоды трудностей и нехватки, а именно тогда, когда сытое общество утрачивает память об этих трудностях. Абстрактное знание о них не действует.
Урбанизация, как было сказано ранее, создала и объективные предпосылки для недовольства советским жизнеустройством. Этим воспользовались антисоветские идеологи, которые широко применяли методы манипуляции сознанием. Она опирается прежде всего на уже имеющиеся в общественном сознании стереотипы, и в психологической войне, направленной на разрушение общества, важнейшими из таких стереотипов являются те, в которых выражается недовольство.
Утрата способности к рефлексии над собственным недовольством — это особая слабость сознания, оборотная сторона избыточного патернализма. Он ведет к инфантилизации общественного сознания в благополучный период жизни. Люди отучаются ценить блага, созданные усилиями предыдущих поколений, рассматривают эти блага как неуничтожаемые, «данные свыше». Социальные условия воспринимаются как явления природы, как воздух, который не может исчезнуть. Они как будто не зависят от твоей общественной позиции.
Развитие производства отставало от темпа повышения образовательного уровня молодежи, и содержательность труда на большой части рабочих мест не удовлетворяла притязаний молодых людей с высшим и средним образованием. Это было объективной причиной недовольства, но быстро устранить ее не было возможности. На снижение запросов молодежи (в виде сокращения притязаний посредством снижения уровня образования) советское руководство не пошло, хотя в начале 70-х годов XX в. подобные предложения, исходя из западного опыта, делались. Это решение не допустило снижения долговременной жизнеспособности нашего общества (на этом ресурсе постсоветские республики продержались в 90-е годы XX в.); однако в краткосрочной перспективе СССР получил пару поколений молодежи, которые чувствовали себя обездоленными. Они были буквально очарованы перестройкой, гласностью, митингами и культурным плюрализмом.
Говорят, что массы «утратили веру в социализм», что возобладали ценности капитализма (частная собственность, конкуренция, индивидуализм, нажива). Это мнение ошибочно. Тогда еще такого массового сдвига не произошло. Очень небольшое число граждан сознательно отвергали главные устои советского строя. Чаще всего они просто не понимали, о чем идет речь, и не обладали навыками и возможностями для самоорганизации. Отказ от штампов официальной советской идеологии вовсе не говорит о том, что произошли принципиальные изменения в глу-бинных слоях сознания {чаяниях). Перестройку пришлось проводить еще под лозунгом «Больше социализма!».
Мировоззренческий кризис порождает кризис легитимности политической системы, а затем и кризис государства. Для крушения советского строя необходимым условием было состояние сознания, которое Ю.В. Андропов, как мы уже отмечали, определил четко: «Мы не знаем общества, в котором живем»[55]. Не знали — не могли и защитить. В 70–80-е годы XX в. это состояние ухудшалось: незнание превратилось в непонимание, а затем и во враждебность, дошедшую у части элиты до степени паранойи.
Незнанием была вызвана и неспособность руководства выявить и предупредить назревающие в обществе противоречия, найти эффективные способы разрешить уже созревшие проблемы. Незнание привело и само общество к неспособности разглядеть опасность начатых во время перестройки действий по изменению общественного строя, а значит, и к неспособности защитить свои кровные интересы.
Уходило поколение партийных работников, которое выросло в «гуще народной жизни». Оно «знало общество» не из учебников марксизма, а из личного опыта и опыта своих близких. Это знание в большой мере было неявным, неписаным, но оно было настолько близко и понятно людям этого и предыдущих поколений, что казалось очевидным и неустранимым. Систематизировать и «записывать» его казалось ненужным, к тому же те поколения жили и работали с большими перегрузками. Со временем, не отложившись в адекватной форме в текстах, это неявное знание стало труднодоступным.
Новое поколение номенклатуры в массе своей было детьми партийной интеллигенции первого поколения. Формальное знание вытеснило у них то неявное интуитивное знание о советском обществе, которое они еще могли получить в семье. Гуманитарная культура СССР не смогла в должной мере интегрироваться с социально-научной рациональностью.
Обществоведение, построенное на историческом материализме, представляет собой законченную конструкцию, которая очаровывает своей способностью сразу ответить на все вопросы, даже не вникая в суть конкретной проблемы. Это квазирелигиозное построение, которое освобождает человека от необходимости поиска других источников знания и выработки альтернатив решения.
Инерция развития, набранная советским обществом в 30–50-е годы XX в., еще в течение двух десятилетий тащила страну вперед по накатанному пути. И партийная верхушка питала иллюзию, что она управляет этим процессом. В действительности те интеллектуальные инструменты, которыми ее снабдило обществоведение, не позволяли даже увидеть процессов, происходящих в обществе. Тем более не позволяли их понять и овладеть ими. Не в том проблема, какие ошибки допустило партийное руководство, а какие решения приняло правильно. Проблема была в том, что оно не обладало адекватными средствами познания реальности. Это как если бы полководец, готовящий большую операцию, вдруг обнаруживает, что его карта не соответствует местности, это карта другой страны.
 Отрыв высшего слоя номенклатуры от реальности советского общества потрясал. Казалось иногда, что ты говоришь с инопланетянами: партийная интеллигенция верхнего уровня не знала и не понимала особенностей советского промышленного предприятия, колхоза, армии, школы. Начав в 80-е годы XX в. их радикальную перестройку, партийное руководство подрезало у них жизненно важные устои, как если бы человек, не знающий анатомии, взялся делать сложную хирургическую операцию. Ситуацию держали кадры низшего и среднего звена. Как только М. Горбачев в 1989–1990 гг. нанес удар по партийному аппарату и по системе хозяйственного управления, разрушение приобрело лавинообразный характер.
Отрыв высшего слоя номенклатуры от реальности советского общества потрясал. Казалось иногда, что ты говоришь с инопланетянами: партийная интеллигенция верхнего уровня не знала и не понимала особенностей советского промышленного предприятия, колхоза, армии, школы. Начав в 80-е годы XX в. их радикальную перестройку, партийное руководство подрезало у них жизненно важные устои, как если бы человек, не знающий анатомии, взялся делать сложную хирургическую операцию. Ситуацию держали кадры низшего и среднего звена. Как только М. Горбачев в 1989–1990 гг. нанес удар по партийному аппарату и по системе хозяйственного управления, разрушение приобрело лавинообразный характер.
Важно и то, что учебники исторического материализма, по которым училась партийная интеллигенция с 60-х годов XX в; (как и западная партийная интеллигенция), содержали скрытый, но мощный антисоветский потенциал. Люди, которые действительно глубоко изучали марксизм по этим учебникам, приходили к выводу, что советский строй неправильный. Радикальная часть интеллигенции уже в 60-е годы открыто заявляла, что советский строй— не социализм, а искажение всей концепции К. Маркса.
И это вовсе не означало, что часть партийной интеллигенции «потеряла веру в социализм» или совершила предательство идеалов коммунизма. Даже напротив, критика советского строя велась с позиций марксизма и с искренним убеждением, что эта критика направлена на исправление дефектов советского строя, на приведение его в соответствие с верным учением Маркса. Но такая критика была для советского общества убийственной. Хотя надо признать, что и конструктивная критика «просоветской» части общества была использована во время перестройки с антисоветскими целями. Избежать такого использования было практически невозможно.
Критика «из марксизма» разрушала легитимность советского строя, утверждая, что вместо него можно построить гораздо лучший строй — истинный социализм. А поскольку она велась на языке марксизма, остальная часть интеллигенции, даже чувствуя глубинную ошибочность этой критики, не находила слов и логики, чтобы на нее ответить, — у нее не было другого языка.
Перестройка обнаружила важный факт: из нескольких десятков тысяч профессиональных марксистов, которые работали в СССР, большинство в начале 90-х годов XX в. перешло на сторону антисоветских сил. Перешло легко, без всякой внутренней драмы. Всех этих людей невозможно считать аморальными. Значит, их профессиональное знание марксизма не препятствовало такому переходу, а способствовало ему. Они верно определили: советский строй был «неправильным» с точки зрения марксизма. Значит, надо вернуться в капитализм, исчерпать его потенциал развития производительных сил, а затем принять участие в «правильной» пролетарской революции. Сейчас большинство из них, видимо, разочаровались в этой догматической иллюзии, но дело сделано.
Разговор об антисоветском мышлении сложен — очень многие в той или иной степени были проникнуты таким мышлением, даже сами того не замечая. Сейчас можно утверждать, что на самом раннем этапе мысленного отрицания «темных сторон» советского строя в антисоветский проект был заложен ряд ложных идей. В тот момент эти идеи формулировались в мягкой форме и не вызывали отторжения. В них не было видно неминуемого разрыва с главным стволом «советского пути». На самом же деле именно тогда этот разрыв и произошел, и эти мягкие идеи (например, о желательности небольшой, уютной безработицы) задали новую, все более отклоняющуюся траекторию общественной мысли. В 60-е и даже 70-е годы XX в. казалось, что отклонение несущественно.
Русский философ В.В. Розанов сказал, что российскую монархию убила русская литература. Это гипербола, но в ней есть зерно истины. По аналогии можно сказать, что советский строй убила Академия общественных наук при ЦК КПСС и сеть ее партийных школ.
Кризис мировоззрения был использован и углублен действиями антисоветской части элиты. Культурная программа перестройки была жесткой, массовое сознание испытало шок. У людей была подорвана способность делать связные рациональные умозаключения, особенно с использованием абстрактных понятий. Они затруднялись рассчитать свой интерес и предвидеть опасности.
Функция предвидения, в том числе функция распознавания угроз, угасала в 70-е годы XX в. Так, не были правильно оценены сообщения о переносе направления ударов информационно-психологической войны против СССР с социальной сферы на этническую. Было проигнорировано обновление теоретической базы доктрины этой войны — принятие за основу теории А. Грамши о культурной гегемонии. Можно сказать, что речь шла о смене парадигмы холодной войны, доктрины большой наступательной операции, а в СССР доктрина обороны осталась неизменной.
Не было никакой реакции на создание в США политических технологий постмодерна, использующих новаторский опыт фашизма и «молодежных бунтов» 1960-х гг. Соответственно, СССР не смог адекватно ответить на вызов польской «Солидарности», которая была мотивирована именно коммунистическим фундаментализмом, но использована против социализма и СССР. Советская цивилизация утрачивала жизнеспособность.
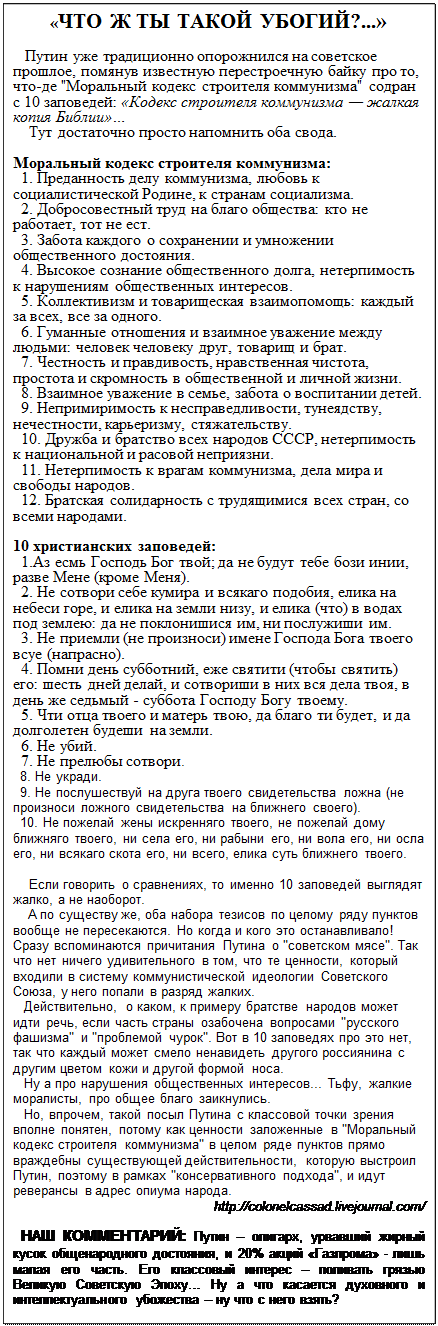 К концу XX в. советское общество в массе своей утратило навык предвидения угроз. Даже предчувствия исчезли. Это было признаком назревания большого кризиса, а потом стало причиной его углубления и затягивания. Не чувствуешь опасности — и попадаешь в беду.
К концу XX в. советское общество в массе своей утратило навык предвидения угроз. Даже предчувствия исчезли. Это было признаком назревания большого кризиса, а потом стало причиной его углубления и затягивания. Не чувствуешь опасности — и попадаешь в беду.
Уже с начала перестройки специалисты фиксировали это странное изменение в сознании людей — на время в обиход вошел даже термин «синдром самоубийцы». Операторы больших технических систем совершали целую цепочку недопустимых действий, как будто специально хотели устроить катастрофу. Вот, на шахте в Донбассе произошел взрыв метана, погибли люди. Был неисправен какой-то датчик, подавал ложные сигналы. Вместо того чтобы устранить неисправность, его просто отключили. Не помогло, сигналы беспокоили — и последовательно отключили 23 анализирующих и сигнализирующих устройства.
В конце 80-х годов XX в. положение ухудшилось, пренебрежение опасностями стало принимать патологический характер. Так, на трубопроводах — транспортной системе повышенной опасности — были повсеместно устранены обходчики. Между тем присутствие хотя бы по одному обходчику даже на больших участках трассы предотвратило бы тяжелую аварию лета 1989 г. в Башкирии. То же происходило и на железной дороге — резкое сокращение работ по осмотру пути и подвижного состава привело к росту числа крушений и аварий, включая катастрофические, в том числе при перевозке особо опасных грузов.
Но признаком общей беды это стало потому, что так вели себя люди в самых разных делах. Среди бела дня при полной видимости немыслимым образом сталкивались два корабля, которые вели опытные капитаны. Точно так же была исключена проблема угроз и рисков из обсуждения программы реформ. Навык их предвидения сумели изъять и из массового сознания. Да, подавляющее большинство граждан с самого начала не верило, что приватизация будет благом для страны и для них лично. Но 64 % опрошенных ответили: «Эта мера ничего не изменит в положении людей».
Это признак глубокого повреждения в сознании. Как может приватизация всей промышленности, и прежде всего практически всех рабочих мест, ничего не изменить в положении людей! Как может ничего не изменить в положении людей массовая безработица, которую те же опрошенные предвидели как следствие приватизации!
 Кто несет ответственность за деградацию этой защитной функции? Надо признать, что И. Сталин и руководимая им команда эту функцию в течение своего «отчетного периода», в общем, выполнили успешно, что и показала Великая Отечественная война. Дальше возникла неопределенность. В новых условиях со сменой поколений старые методы быстро теряли эффективность. Общество вступило в новый этап, а руководство не смогло выработать адекватной доктрины и создать адекватные новым угрозам средства защиты. Старая интеллектуальная элита КПСС и советского государства (представленная М.А. Сусловым) оказалась несостоятельна. А новая сама стала источником угроз.
Кто несет ответственность за деградацию этой защитной функции? Надо признать, что И. Сталин и руководимая им команда эту функцию в течение своего «отчетного периода», в общем, выполнили успешно, что и показала Великая Отечественная война. Дальше возникла неопределенность. В новых условиях со сменой поколений старые методы быстро теряли эффективность. Общество вступило в новый этап, а руководство не смогло выработать адекватной доктрины и создать адекватные новым угрозам средства защиты. Старая интеллектуальная элита КПСС и советского государства (представленная М.А. Сусловым) оказалась несостоятельна. А новая сама стала источником угроз.
 Почему эрозия мировоззренческой матрицы советского строя не вызвала эффективных действий руководителей государства и КПСС, пока доминирующие позиции не заняли функционеры «поколения Горбачева»? Можно утверждать, что они с их типом знания и методологическими навыками были не на высоте этой задачи, как генералы бывают не на высоте задач войны нового поколения. Их образование, относящееся к данной проблеме, ограничивалось историческим материализмом, проникнутым механистическим детерминизмом. Понимание тех процессов, которые переживало советское общество, требовало как минимум освоения представлений о культурной гегемонии, развитых А. Грамши. Но эти представления были отвергнуты официальным советским обществоведением, их освоила именно антисоветская часть сообщества гуманитарных специалистов.
Почему эрозия мировоззренческой матрицы советского строя не вызвала эффективных действий руководителей государства и КПСС, пока доминирующие позиции не заняли функционеры «поколения Горбачева»? Можно утверждать, что они с их типом знания и методологическими навыками были не на высоте этой задачи, как генералы бывают не на высоте задач войны нового поколения. Их образование, относящееся к данной проблеме, ограничивалось историческим материализмом, проникнутым механистическим детерминизмом. Понимание тех процессов, которые переживало советское общество, требовало как минимум освоения представлений о культурной гегемонии, развитых А. Грамши. Но эти представления были отвергнуты официальным советским обществоведением, их освоила именно антисоветская часть сообщества гуманитарных специалистов.
Традиционное общество формирует представление о себе самом, опираясь на религиозное чувство, на предание и обыденное знание, на утопию и даже на коллективное бессознательное. Для индустриального сложного общества требуется уже рациональное обществоведение научного типа, хотя и оно должно быть согласовано с мифами.
Советское обществоведение, которое в методологическом плане было ближе к натурфилософии, чем к науке, потерпело полное фиаско. Оно не смогло адекватно описать «анатомию и физиологию» советского общества, не смогло предвидеть катастрофического системного кризиса конца XX в. и даже легитимировало разрушительные действия 1990-х гг. Эта беспомощность была такой неожиданной, что многие видели в ней злой умысел, даже обман и предательство. Конечно, был и умысел — против СССР велась холодная война, геополитический противник ставил целью уничтожение СССР и всеми средствами способствовал нашему кризису. Но наш предмет — то общее непонимание происходящих процессов, которое парализовало защитные силы советского государственного и общественного организма.
Провал нашего обществоведения выразился прежде всего в уходе от осмысления фундаментальных вопро-сов. Их как будто и не существовало, в момент быстрого развития кризиса не было никакой возможности поставить их на обсуждение. Из рассуждений была исключена категория выбора. Говорили не о том, «куда и зачем двигаться», а «каким транспортом» и «с какой скоростью». Иррациональным был уже сам тоталитарный лозунг перестройки «иного не дано!», исключающий из анализа саму категорию альтернатив. А ведь так назывался сборник программных статей верхушки сообщества гуманитариев и социологов.
Фраза Ю. Андропова о «незнании общества» была сигналом бедствия. В тот момент в СССР было 163 тыс. научных работников в сфере общественной науки. Если они не могли обеспечить государство и общество достоверным знанием, значит, их методологическая база была принципиально неадекватна объекту изучения — советскому обществу и его основным системам.
Исторический материализм стал методологическим фильтром, искажающим реальность. Фатализм истмата был когда-то полезен трудящимся как заменитель религиозной веры в правоту их дела, но в советское время положение изменилось принципиально. Теперь требовался не «заменитель религиозной веры», а достоверное знание. Фатализм стал, как выражался А. Грамши, «причиной пассивности, дурацкого самодовольства».
И Грамши записал в «Тюремных тетрадях» такое замечание:
«Что касается исторической роли, которую сыграла фаталистическая концепция философии практики [исторический материализм], то можно было бы воздать ей заупокойную хвалу, отметив ее полезность для определенного исторического периода, но именно поэтому утверждая необходимость похоронить ее со всеми почестями, подобающими случаю».
Эти похороны не состоялись, и сегодня истмат лишь «вывернут» в фундаментализм механистического неолиберализма.
Нельзя проходить мимо такого важного явления, как антисоветский марксизм 60–80-х годов XX в. на Западе и в СССР, Он сыграл исключительно важную роль в мировоззренческом кризисе советского общества. Вот когорта виднейших советских интеллектуалов, которые в 1950-е гг. вместе учились на философском факультете МГУ, — М. Мамардашвили, А. Зиновьев, Б. Грушин, Г. Щедровицкий, Ю, Левада. Теперь о них пишут: «Общим для талантливых молодых философов была смелая цель— вернуться к подлинному Марксу».
Так, они вместо изучения реального общества своей страны с целью его укрепления вернулись к Марксу, в Англию XIX в. Что же могла обнаружить у «подлинного Маркса» эта талантливая верхушка советских философов для понимания СССР второй половины XX в.? Жесткий евроцентризм, крайнюю русофобию и отрицание «грубого уравнительного коммунизма» как реакционного выкидыша цивилизации, тупиковой ветви исторического развития. Все это в период сталинской «вульгаризации марксизма» было «спрятано» от внимания широкой публики — а теперь «талантливые молодые философы» это раскопали и, занимая важные позиции в партийной печати, заложили в ее подтекст. И они почти все сдвинулись к радикальному антисоветизму. Те, кто пошли учиться как защитники советской системы, сначала перешли на позиции враждебного инакомыслия, а потом влились в ряды ее активных разрушителей.
Мы стоим перед фактом, который невозможно отрицать: неспособность советского обществоведения овладеть реальностью была вызвана ошибочными представлениями большого интеллектуального сообщества. Объяснять это аморальностью или конформизмом членов сообщества невозможно. Можно с уверенностью сказать, что ни А.Д. Сахаров, ни Т.И. Заславская, ни другие представители советской (антисоветской) интеллектуальной элиты не желали и не ожидали такого результата, к которому пришли в 1991 г. Они в своем проектировании допустили фундаментальные и огромные по своим масштабам ошибки. Они ломали советский строй ради «цивилизованного, гуманного и «социализированного» капитализма», а пришли к капитализму «спекулятивному, авантюристскому, грабительскому, форме меркантилизма», Это значит, что методологическая база анализа и проектирования российской реформаторской элиты, включая экспертное сообщество власти, была совершенно неадекватна реальности. Это были слепые, которые вели страну к пропасти. Кто нанял этих слепых и поставил их во главе колонны — особый вопрос, мы здесь говорим об интеллектуальном инструментарии российских реформ.
В этих условиях знание заменялось мифотворчеством, а массовое сознание, не защищенное навыками рациональных умозаключений об общественных процессах, не могло сопротивляться внедрению идей-«вирусов».
Видный социолог Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом… В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии».
Такое обществоведение было не в состоянии выявлять главные противоречия, проблематизировать реальность и нарабатывать жесткое «инженерное» знание. Попытки противостоять кризису, перераставшему в катастрофу, не были обеспечены социальными технологиями, основанными на знании научного типа. Требовалось кардинальное обновление познавательного аппарата, но этого не произошло.
Вся система ложных представлений, которые сделали советское обществоведение недееспособным, еще требует исследований, но много выявилось уже в ходе перестройки. Так, стало очевидно, что мышление старого поколения советской политической элиты, как и обыденное сознание советского человека, было проникнуто эссенциализмом, верой в неизменность (или хотя бы высокую устойчивость) некоторых сущностей и качеств, присущих общественному сознанию.
Подавляющему большинству советских людей казалось, что заданные культурой качества человека очень устойчивы, что в них есть как будто данное нам свыше жесткое ядро. Специально об этом не думали, а оказалось, что оно подвижно и поддается воздействию образа жизни, образования, телевидения. Культура — это огромная машина, которая чеканит нас в основном по чертежу, заложенному в нее сильными мира сего. Мы, конечно, сопротивляемся, подправляем чертеж, изменяем чеканку своей низовой культурой. Но диапазон воздействий широк, возможностей от них уклониться часто не хватает.
В массе своей советские люди исходили из того представления о человеке, которым было проникнуто низовое «народное православие». Они считали, что человеку изначально присущи качества соборной личности, тяга к правде и справедливости, любовь к ближним и инстинкт взаимопомощи. Особенно, как считалось, это было присуще русскому народу. Как говорилось, таков уж его «национальный характер». А поскольку все эти качества считались сущностью национального характера, данной человеку изначально, то они и будут воспроизводиться из поколения в поколение вечно. Была такая неосознанная уверенность.
Эта вера породила ошибочную, в важной своей части, антропологическую модель, положенную в основание советского жизнеустройства. Устои русского народа и братских народов России, которые были присущи им в период становления советского строя, были приняты за их природные свойства. Считалось, что их надо лишь очищать от «родимых пятен капитализма». Задача воспроизводства этих устоев в меняющихся условиях (особенно в обстановке холодной войны) не только не ставилась, но и отвергалась с возмущением. Как можно сомневаться в крепости устоев! А ведь это воспроизводство надо было вести в принципиально новых условиях конца XX в., оно требовало гибкости и адаптивности, регулярного «ремонта» и «модернизации».
Эффективности крестьянского коммунизма как мировоззренческой матрицы хватило в СССР на 4—5 поколений. Люди, рожденные в 50-х годах XX в., вырастали в новых условиях, их культура формировалась под влиянием мощного потока образов и соблазнов с Запада. Если бы советское общество исходило из реалистичной антропологической модели, то за 50–60-е годы XX в., в принципе, можно было выработать и новый язык для разговора с грядущим поколением, и новые формы жизнеустройства, отвечающие новым потребностям. А значит, Россия преодолела бы кризис и продолжила развитие в качестве независимой страны на собственной исторической траектории культуры.С этой задачей советское общество не справилось и потерпело поражение. В 70–80-е годы XX в. в культуре интеллигенции возник компонент социал-дарвинизма и стал просачиваться в массовое сознание. Право на жизнь (например, в виде права на труд и на жилье) стало ставиться под сомнение — сначала неявно, а потом все более громко. Положение изменилось кардинально в конце 1980-х гг., когда это отрицание стало основой официальной идеологии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= на злобу дня =
 2015-05-12
2015-05-12 638
638








