Родольф Гильон (Rodolphe Ghiglione)
Изучение феноменов межличностного общения в социальной психологии началось, конечно, уже давно, но их статичность — чтобы не сказать громоздкость — не перестает нас беспокоить. Эта вводная фраза предполагает последовательное и обоснованное изложение истории коммуникации, которой располагала и располагает социальная психология, а также ее критическое рассмотрение. Такой подход представляется тем более насущно необходимым, что коммуникация стала передовым участком, источником новых профессий, новых понятий, новых методов, новых приемов исследования и т. д., и теперь социальная психология должна занять свое место в этом движении.
Диплом «социального коммуникатора» в Венесуэле, может быть, дает ответ на вопрос: что значит общаться сегодня? Но если это так, то здесь же мы найдем имплицитный или эксплицитный ответ на вопрос: кто общается сегодня?
Введение знака времени — сегодня — в вопросы «что значит общаться?» и «кто общается?» отсылает нас к тому факту, что и акт коммуникации, и общающийся субъект в сильной степени зависят от референтных теорий, структурирующих несколько наук, и в частности таких, как лингвистика и психология, которые во всем связаны с говорящим и с материалом, используемым при общении. Но мы еще вернемся к вопросу о значении, которое имеют социальные ситуации, притом что лингвистика превращает язык в замкнутую систему и носителя смысла, а психология рассматривает субъекта как систему, подчиняющуюся общим законам, которые объясняют познавательную способность и поведение человека. То, что субъект социален, т. е. вписан в некую историю и в некую ситуацию, где он может быть самим собой только с «другим», имеет лишь второстепенное значение. Здесь важен закон, который объясняет тот факт, что яблоко падает независимо от обстоятельств, а не то, что оно падает по прямой линии или под действием ветра описывает красивую кривую. Оставим это поэтам и другим деятелям искусства!
|
|
|
Трудность создания такой модели, производной от физических наук, заключается в том, что она не вполне применима к наукам о человеке, реагирующем и символическом животном, создающем свои представления о реальном мире вместе с «другими» и через них, в частности с помощью языка, — а к общению между людьми эта модель применима в еще меньшей степени. И все же!
А. Субъект языка и язык субъекта 489


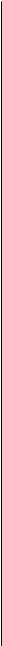 А. Субъект языка и язык субъекта
А. Субъект языка и язык субъекта
«Процесс говорения никогда не бывает нейтральным», — писала в 1985 г. Лю Ирригарэй, развивая мысль, что универсальность любого высказывания, даже на учного текста, - это обман. Она доказывает, что устранение местоимения первого лица «я» (лица говорящего), необходимое для этой конститутивной универсальности, — тоже обман. Наконец, Люс Ирригарэй опровергает точку зрения, согласно которой язык — это замкнутая система, объект, который может рассматриваться независимо от тех, кто им пользуется, и от целей, ради которых его используют, и что при этом теории и поступки субъектов не подвергаются никакому воздействию.
|
|
|
Когда Соссюр (Saussure, 1916) предпринял попытку создать «подлинную лингвистическую науку», которую не удалось создать школе Боппа1, он сделал это, выделив «природу предмета» лингвистики, обобщая его: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного» и нейтрализуя его: «язык... это нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им обладает. Этот модус существования языка может быть представлен следующей формулой: 1 + 1 + 1 + 1... = I (коллективный образец)... В речи нет ничего коллективного; проявления ее индивидуальны и мгновенны. Здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев по формуле (1 + 1' + 1" + Г"...)».
Как мы говорили в другой работе: «...Современная лингвистика, следовательно, родилась. Изучение языка отдельно от речи; изучение продукта, созданного массой говорящих, отдельно от индивидуального» (Ghiglione, 1986). Можно было бы подумать, что пока все совершенно нормально. Конечно. Но проблема — в продолжении, в том, что порождают подобные высказывания. Приведем в качестве примера лишь одно из них. Процитируем то, что заявляет итальянский лингвист Туллио де Мауро (Tullio de Mauro) в своем комментарии к работе Соссюра: «Различение языка и речи носит явно диалектический характер; язык... это система границ... в которой находятся и функционально идентифицируются "значения" и звуковые отношения говорящего, т. е. значения и акустические образы отдельных речевых актов; такая система управляет речью, существует над ней; и именно в этом заключается смысл ее существования... так что можно сказать, что язык существует лишь для того, чтобы управлять речью»2 (цит. по: F. de Saussure, Coursde Cinguistique generate; ed.: Payot, 1972, n. 65, p. 420). Еще шаг - и язык будет управлять субъектом. Некоторые лингвисты этот шаг сделали: Якобсон (Jakobson) частично, а Хомский полностью (Chomsky). Первый (Якобсон) интересовался коммуникацией. Он увидел — а за ним и многие социальные психологи — в «математической теории коммуникации» (Shannon, Weaver, 1949) модель, позволяющую перейти от языка (в понимании Соссюра) к речи, не затрагивая главенства языка. В самом деле, он заявил: «Код подбирает означающее к означаемому и означаемое к означающему. Сегодня благодаря разработке в теории коммуникации
Франц Bonn (Franz Bopp) — один из основателей сравнительно-исторического метода в языкознании, который он впервые применил в своей известной работе «О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковою в греческом, латинском, персидском и германских языках», опубликованной в 1816 г. — Примеч. перев. 2 Выделено нами.
проблем кодирования соссюровская дихотомия "язык — речь" может получить новую, гораздо более точную формулировку, что придает этой дихотомии новую операциональную ценность... Собеседников, принадлежащих к одному языковому сообществу, можно определить как реальных пользователей одного и того же кода, охватывающего одну и ту же логику. Общий код — это инструмент коммуникации, который действительно тесно связывает и делает возможным обмен сообщениями» (Jakobson, Essai de linguistique generate. Paris, 1963, t. 1, p. 90-91). Это позволит лингвистам считать, что коммуникация принадлежит к языку, а не к речи, т. е. благодаря параллельным усилиям лингвистики и математической теории коммуникации стало возможным объединить семантику и лингвистический инвариант: «Известно, что в течение некоторого времени лингвистика и теория коммуникации испытывали большое искушение рассматривать всякое рассуждение, относящееся к здравому смыслу, как некий шум, семантическую помеху, и исключить семантику из изучения вербальных сообщений. Однако в настоящее время лингвисты проявляют стремление снова вернуть семантику... Подходя таким образом к смысловой информации, мы встречаемся с предложением Шеннона определить информацию как «то, что остается неизменным при всех обратимых операциях кодирования или перевода» (Jakobson, op. cit., t. 1, p. 95). В таком случае субъекту не остается ничего другого, кроме вхождения в эти заранее заданные рамки. И тогда этот субъект может очень хорошо объединиться с кодировщи-ком/дешифровщиком, вписанным в мир лингвистических инвариантов, которые одни только могут обеспечить надежность человеческой коммуникации: «По мнению Маккэя (Mac Cay), ключевым понятием теории коммуникации является понятие заранее предусмотренной возможности. Лингвистика говорит то же самое. Ни в одной из названных наук не высказывается ни малейшего сомнения в основополагающей роли операций отбора и речевой деятельности. Инженер допускает, что отправитель и получатель сообщения владеют приблизительно "одинаковой системой классификации" заранее предусмотренных возможностей, а соссюровская лингвистика точно так же говорит о языке, который делает возможным общение собеседников» (Jakobson, op. cit., t. 1, p. 90). Отсюда - к тому, чтобы сказать, что язык одновременно делает возможным и отражает речевой обмен — всего ' один шаг, который очень легко сделать.
|
|
|
Так, в то время как Соссюр различал первую модель, модель языка 1 + 1 + 1 + + 1... = I, и вторую модель, модель речи (1 + Г + 1" + Г"...), на основе возможной или невозможной кумулятивное™, связанной с инвариантами, Якобсон делает из модели I предпосылку второй соссюровской модели (предварительное требование для...). При этом он проявляет тенденцию обосновать смысл, циркулирующий во второй модели, одним только соблюдением ограничений, налагаемых системой языка. В общем, Якобсон предлагает третью модель:
|
|
|
(I (делает возможным) (1 ^ 1"...)
Таким образом, структурная лингвистика аннексировала коммуникацию, добавив к ней необходимую функциональную целенаправленность, ибо говорят всегда с определенной целью, предоставив коммуникации самостоятельную деятельность... и не связывая ее со второстепенными и случайными условиями социально позиционированного субъекта. Какой удачей для проникнутой бихевиоризмом социальной психологии общения стало это теоретическое сближение со струк-
490 Глава 18. Высказывания и убеждение
А. Субъект языка и язык субъекта 491
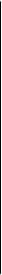 турной лингвистикой! Действительно, освободившись от беспокойства, которое мог вызвать говорящий субъект, совершенно неконтролируемый в отношении производства и восприятия смысла, можно было целиком посвятить себя своим собственным инвариантам. Другими словами, поскольку говорящий субъект рассматривался как кодирующая и декодирующая машина, социальная психология коммуникации не должна была больше заботиться о смысловом аспекте, принадлежащем к сфере уже доказанной системной механики, и могла сконцентрировать свои усилия на индивидуальных переменных. И вот пресловутая модель:
турной лингвистикой! Действительно, освободившись от беспокойства, которое мог вызвать говорящий субъект, совершенно неконтролируемый в отношении производства и восприятия смысла, можно было целиком посвятить себя своим собственным инвариантам. Другими словами, поскольку говорящий субъект рассматривался как кодирующая и декодирующая машина, социальная психология коммуникации не должна была больше заботиться о смысловом аспекте, принадлежащем к сфере уже доказанной системной механики, и могла сконцентрировать свои усилия на индивидуальных переменных. И вот пресловутая модель:
| Канал Реципиент (приемник) |
| Сообщение |
Эмиттер Канал (передатчик)
| Кодирование |
Декодирование
Эта модель действительно позволяла считать, что при условии правильного кодирования/декодирования язык прозрачен и главное — это характеристики эмиттера, сообщения-системы и реципиента. Если просмотреть за последние лет пятьдесят научную литературу, посвященную исследованиям и размышлениям, касающимся социальной психологии коммуникации, можно лишь удивиться тому, насколько постоянно присутствуют темы и отсутствуют размышления о языке, вписанном в акт коммуникации, а также отсутствию собеседника, диалога и т. д.
По первому пункту — постоянство тем — если обратиться к первым систематическим исследованиям коммуникации Йельской школы (Hovland, Lunsdaine, Sheffield, 1949; Hovland, Janis, Kelley, 1953), то можно увидеть, что исследуются:
• способность коммуникатора (источника) вызывать доверие;
• факторы, объясняющие восприимчивость реципиента к убеждению;
• характер используемых аргументов;
• риторика сообщения;
• ситуационные факторы.
Спустя 20 лет Химмельфарб и Игли (Himmelfarb, Eagly, 1974) в своем обзоре проблем формирования и изменения аттитюда выделили четыре переменные, объясняющие изменение аттитюда в рамках модели коммуникации, близкой к приведенной выше. А именно:
• характеристики коммуникатора (источника);
• характеристики реципиента, определяемые исходя из экспериментальной ситуации (импликация, первоначальная установка, согласие/несогласие);
• предрасположенность реципиента, индуцированная или долговременная (самоуважение, состояние напряженности);
• характеристики сообщения: организация, тип используемых средств, контекст сообщения...
Можно легко заметить, что по-настоящему потрясающих изменений модели здесь нет.
Следующий скачок в 20 лет приводит нас к нашему собственному обзору проблем, посвященному изучению периода 1980-1995 гг. Мы отметили, что, хотя
темы стали более разнообразными, все же по-прежнему уделяется внимание способности коммуникатора вызывать доверие и стилю высказываний, а схема «Отправитель—сообщение—получатель» еще не полностью отброшена, по крайней мере в своей основе.
По второму пункту — размышления о роли языка в процессе коммуникации — можно отметить, что таким размышлениям мешает взаимопонимание лингвистики, которая, если присмотреться внимательно, хотела сделать говорящего субъекта предметом своего исследования, и социальной психологии, которая видела в субъекте инвариант.
В течение долгого времени не было никаких сдвигов. В своей статье, озаглавленной «Что случилось с языком в социальной психологии? Обзор литературы» (Whatever happened to language in social psychology? A survey of texts) Крогер и Вуд (Kroger, Wood, 1992) обвиняют социальную психологию коммуникации в том, что она забыла выяснить отношение человека к языку: «Наша цель — показать, что язык как предмет изучения исчез из социальной психологии в период преобладания в ней бихевиоризма, и поэтому описание социальной психологии как лишенной языка — не карикатура, а релевантное описание этой науки». Язык, о котором здесь говорится, следует рассматривать в том смысле, в каком его понимает Вундт, а именно язык как продукт общества, или же,в понимании Выготского, как средство, которое позволяет формироваться мышлению в процессе социального взаимодействия, или же, в понимании философов языка, как средство социального действия.
Тезис, отстаиваемый этими авторами, основывается на нескольких примерах из истории: программа Вундта для социальной психологии, которую можно найти в его работе «Лекции по психологии человека и животных», вышедшей в 1863 г. и забытой в то время, когда в социальной психологии произошел уклон в бихевиоризм; статьи в «Справочнике по социальной психологии» (Handbook of Social Psychology, 1953) или работы, опубликованные в Advances in Experimental Psychology, которые издавали Берковиц (Berkowitz), а затем Занна (Zanna), практически игнорировавшие язык, за исключением, правда, статьи Кларка (Clark) в «Справочнике» и двух глав в Advances, одну из которых в 1967 г. написал Московичи (Moscovici, 1967), а другую в 1969 г. Эрвин Трип (Ervin Tripp, 1969). Однако авторы отрицают, что они будто бы хотели создать впечатление, что в социальной психологии нет работ о языке в том смысле, в каком они его понимают. Но, говорят они: «...Эти работы существовали скрыто, на периферии экспериментальной социальной психологии, и не входили в основное течение. Конечно, необходимо упомянуть работу Роджера Брауна (Roger Brown), посвященную усвоению языка, работу Ламбера (Lambert) об аттитюдах по отношению к языку и работу Ром-метвейта (Rommetweit) о структуре и смысле».
Возвращение языка в исследования по социальной психологии эти два автора относят лишь к недавнему времени, т. е. после того, как отказались от бихевиоризма и логического эмпиризма, хотя считают, что «...социальные психологи в основных разделах исследований, проводимых в американских университетах, продолжают вести страусиную политику по отношению к языку». Впрочем, это возвращение к изучению языка следует, по мнению цитируемых авторов, искать в «философии психологии» Витгенштейна. Авторов, на которых ссылаются Поттер и Уэзерелл (Potter, Whetherell, 1987) или Харре, Кларк, де Карло (Harre, Clark,
492 Глава 18. Высказывания и убеждение
Б. Эмиттеры (отправители), получатели и сообщения 493
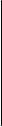 de Carlo, 1985), следует искать среди лингвистов, философов языка, этнометодо-логов и т. д. Рассматриваемая статья заканчивается утверждениями, с которыми можно согласиться, но которые, может быть, нуждаются в доказательстве: «Метафора машины, — говорят они, — смычок к струнным инструментам современной науки — сейчас отмирает и заменяется новой метафорой, согласно которой социальная действительность людей похожа на нескончаемый многоголосый разговор, охватывающий всех нас» (Нагге, 1990).
de Carlo, 1985), следует искать среди лингвистов, философов языка, этнометодо-логов и т. д. Рассматриваемая статья заканчивается утверждениями, с которыми можно согласиться, но которые, может быть, нуждаются в доказательстве: «Метафора машины, — говорят они, — смычок к струнным инструментам современной науки — сейчас отмирает и заменяется новой метафорой, согласно которой социальная действительность людей похожа на нескончаемый многоголосый разговор, охватывающий всех нас» (Нагге, 1990).
В анализе учебников по социальной психологии, появившихся во Франции в период между 1960 и 1987 гг., т. е. приблизительно лет за пятнадцать, мы сами (Ghiglione, 1990) напоминали, что за редкими исключениями в них уделялось мало места языку при рассмотрении социальных взаимодействий. Так, Даваль (Da-val) говорил о коммуникации, но не интересовался языком; Штетцель (Stoetzel) составлял исключение; Фламан говорил о важности коммуникации для социальной психологии, но интересовался языком ничуть не больше, чем Даваль с коллегами. Может быть, Фламан больше, чем названные авторы, подчеркивал необходимость «количественного» исследования взаимодействий и в более общем виде развивал модель коммуникации, которую можно назвать функционалистской, детерминистской, квантификаторной, классифицирующей и бихевиористской, однако язык здесь во внимание не принимался. Можно было бы привести множество примеров работ, в которых в большей или меньшей степени проявляется такое же отношение к языку, но это не представляет никакого интереса.
Мы ограничимся напоминанием о самых крайних позициях, на которых стоит Зайонц (Zajoric, 1966): «Удобно анализировать коммуникацию, абстрактно различая в ней три следующих элемента: поведение1 эмиттера, поведение2 реципиента и типы сообщений, которыми они обмениваются. Анализ сообщений не находится в сфере непосредственных интересов психологии» (Zajonc, 1966). С. Московичи (1973 и 1984) занял противоположную позицию, равно как и авторы (Zimbardo, von Cranach, Abravanel, Akerman, Rime), которых он пригласил участвовать в написании его «Введения в социальную психологию» и которые разделяют его взгляды. Коммуникация, учитывающая язык, понимаемый в духе Витгенштейна или Выготского, появляется вновь, хотя параметры языка и его прагматический эффект еще предстояло изучать.
Позднее, в 1990-е гг., социальная психология уже станет принимать во внимание язык в его прагматических аспектах и во взаимоотношениях с познавательной деятельностью человека. Правда, это делается еще очень робко. Но, как бы ни обстояло дело с изложенной историей развития социальной психологии и с оценкой приведенных точек зрения на тот или иной аспект, необходимо выделить основные моменты и основных авторов. Конечно, всякое подразделение спорно, а список отобранных авторов не может гарантировать, что мы, к нашему сожалению, кого-нибудь не забыли. Но все же социальная психология поддается, несмотря ни на что, исследованию с помощью довольно простых методов, если только изучение коммуникации сосредоточить вокруг постоянно усложняемой исходной схемы: «эмиттер (коммуникатор)—сообщение—реципиент (получатель)».
1 Выделено нами.
2 Выделено нами.
 2015-06-05
2015-06-05 619
619








