Сегодня у психологов есть любимое слово — "неприспособленный". Сегодня я говорю вам, что горжусь своей неприспособленностью к некоторым вещам в нашей социальной системе. Я никогда не приспособлюсь к своре линчевателей, сегрегации, экономическому неравенству и физическому насилию, работающему на самопоражение. Спасение миру принесут неприспособленные.
Мартин Лютер Кинг, Мл
...Я должен предостеречь вас: если к экстернали-зации подходят как к чистой технике, она, вероятнее всего, не даст глубоких результатов. Если вы до глубины души не верите в то, что люди не есть их проблемы и что их затруднения — это социальные и личные конструкты, тогда вы не увидите эти трансформации. Когда работают Эпстон или Уайт, вы можете сказать, что они абсолютно убеждены: люди не есть их проблемы. Их голоса, их позы, все их существо излучают возможность и надежду. Они определенно находятся под влиянием Оптимизма.
Билл О'Хэнлон, 1994
Люди рождаются в историях; социальный и исторический контекст постоянно побуждает их рассказывать и помнить истории определенных событий, а другие события оставлять без историй. Ряд авторов (Foucault, 1980; Hare-Mustin, 1994; Lowe, 1991; Madigan & Law, 1992; Weingarten, 1991) предполагают, что "дискурс" — полезное понятие для понимания того, как это происходит. Рейчел Хэйр-Мастин (1994) определяет дискурс как "систему утверждений, практик и установленных структур, обладающих общими ценностями". Она полагает, что дискурсы поддерживают определенные мировоззрения: "То, как большинство людей придерживаются общепринятой точки зрения, говорят о ней и действуют в соответствии с ней — все это часть и поддержка преобладающих дискурсов".
Стивен Мэдиган и Йэн Ло (1992) добавляют, что "дискурс можно рассматривать как отражение преобладающей структуры социальных и властных взаимоотношений".
Дискурсы властно формируют выбор человека: какие события жизни следует превращать в истории и как это делать. Это верно как для терапевтов, так и для людей, которые приходят к ним на консультацию.
Наши истории о терапии были сформированы разнообразными дискурсами. Вот лишь некоторые из наиболее распространенных: дискурсы о патологии, о нормативных стандартах и о профессионалах как экспертах. Эти дискурсы распространяются через содержание профессионального обучения, равно как и через структуру наших образовательных институтов и процессы профессиональной социализации. Другими словами, большинству терапевтов, включая и нас самих, внушали, что слушать надо диагностическим, патологизирующим ухом. Медицинская модель, с ее акцентом на выслушивание признаков и симптомов болезни, оказывает настолько всепроникающее влияние, что не многим из нас удается избежать ее требований. Наша образовательная система, с ее сильным акцентом на знание верного ответа, приучила нас прислушиваться к таким фактам, которые могут появиться в выборочных тестах, но не к такой манере слушать, чтобы понимать разочарования, дилеммы и устремления рассказывающего.
Эти дискурсы также формируют и содержатся в практиках вне нашей области: например, в требованиях постановки диагноза и ведения картотеки определенных записей, в книгах по самопомощи, в изображении терапевтов средствами массовой информации и в ожиданиях тех людей, которые приходят к нам на консультацию. Фрейдистские "археологические" метафоры о "глубинной, бессознательной истине" настолько глубоко пропитали нашу культуру, что порой мы не замечаем их влияния. Эти метафоры побуждают нас прислушиваться не к смыслу человека, а к смыслу знатока, спрятанного за ним.
Выслушивание
На примере наших историй о терапии, сформированных в контексте этих превалирующих дискурсов, можно сказать, что большинству терапевтов трудно научиться выслушивать истории людей
как истории. Наши истории о терапии тайно побуждают нас держать ухо востро, а рот в ожидании случая для реплики "Ага!", когда мы распознаем "клинически значимый момент" — то есть знаем, что с этим делать.
Тем не менее, как замечает Вайнгартен (1991), дискурсы могут меняться и эволюционировать, когда беседы между людьми затрагивают доступные в рамках данной культуры нарративы. Другими словами, знание на локальном уровне, исходящее от подсооб-ществ, может влиять на более крупные дискурсы. Каким бы простым это ни показалось, перед лицом превалирующих дискурсов и доминирующих знаний простое выслушивание рассказываемой кем-то истории представляет собой революционный акт.
Встречая людей впервые, мы хотим понять, какой смысл несут их истории для них самих. Это означает отказ от "экспертных фильтров": не вслушиваться в основные жалобы; не "собирать" подходящие-для-нас-как-для-экспертов кусочки диагностической информации, рассеянные по их историям; не слушать их рассказы так, как если бы они служили матрицами, внутри которых кроются ресурсы; не вслушиваться в поверхностные намеки на то, что "на самом деле" является основной проблемой и не сравнивать те самости, которые они изображают в своих историях, с нормативными стандартами.
Вместо этого мы пытаемся "влезть в шкуру" людей, с которыми работаем, и понять с их точки зрения, на их языке, что побудило их искать у нас поддержки. Лишь тогда мы сможем признать альтернативные истории. Рассмотрение опыта людей с их точки зрения ориентирует нас на специфические реальности, которые формируют их личные нарративы (и формируются ими). Такое понимание требует, чтобы мы слушали с обостренным вниманием, терпением и любознательностью, одновременно выстраивая взаимоотношения, основанные на обоюдном уважении и доверии.
И хотя полученное образование говорит нам о том, что мы действительно знаем, мы пытаемся прислушиваться к тому, чего не знаем.
Не-знание
Андерсон и Гулишиан (1988, 1990а, 1992; см. также Anderson, 1990; Goohshian, 1990; Goolishian & Anderson, 1990; Hoffman, 1991) страстно и убедительно писали о важности для терапевта позиции
"не-знания". Они рассматривают терапию как процесс, в котором "мы все время движемся в сторону того, что еще не познано" (1990а). Это предполагает, что вопросы не следует задавать с позиции предварительного знания (Andersen, 1991b; Weingarten, 1992) и лучше избегать вопросов, на которые мы хотим получить определенные ответы.
Тем не менее, позиция не-знания отнюдь не совпадает с позицией "Я ничего не знаю". Наша задача состоит в познании процесса терапии, а не содержания и смысла человеческой жизни. Мы надеемся, что терапия — это процесс, в котором люди испытывают ощущение выбора, а не чувство "непоколебимой уверенности" (J. Bruner, 1986) по отношению к тем реальностям, которые они населяют. Андерсон и Гулишиан (1988) утверждают:
"Цель терапии состоит в том, чтобы принимать участие в беседе, которая постепенно смягчается и раскрывается, а не сжимается и закрывается. В ходе терапевтической беседы фиксированные смыслы и формы поведения... получают пространство, расширяются, смещаются и изменяются".
Мы добиваемся наибольших успехов в достижении позиции незнания, когда концентрируемся на выслушивании и когда наша речь направляется слухом и является вторичной по отношению к нему. По мере слушания мы многое замечаем и подвергаем сомнению свои предположения. Мы спрашиваем себя: "Понимаю ли я, каково быть этим человеком в этой ситуации, или я начинаю заполнять пробелы в его истории необоснованными предположениями? Что еще я должен сделать, чтобы почувствовать себя на его месте?" Если наша внутренняя беседа свидетельствует о том, что дополнительная информация в определенной области поможет нам глубже проникнуть в реальность этого человека, мы просим его рассказать что-то еще. Такое постоянное сомнение в своих предположениях побуждает людей подвергать сомнению собственные предположения.
He-знание поощряет установку на любознательность (Cecchin, 1987; Rambo, Heath, & Chenail, 1993). Нам интересны уникальные ответы людей, и мы воодушевляем их на то, чтобы они полнее развивали их. Когда ответ придает беседе неожиданное направление, мы задаем даже больше вопросов, следуя в этом новом направлении, если оно кажется подходящим.
Просто выслушивание и постановка побуждающих и проясняющих вопросов с позиции любознательности само по себе может иметь терапевтический характер. Иногда люди получают все, что они хотят от терапии, только через этот процесс. Такая терапия, как указывают Андерсон и Гулишиан (1988), представляет собой "процесс расширения и проговаривания "невысказанного" — развитие в диалоге новых тем, нарративов и, безусловно, создание новых историй".
Интерпретация
Постмодернисты до мозга костей, Андерсон и Гулишиан дают понять: они не верят, что "невысказанное" — это нечто, что уже существует. Оно не лежит, прячась в бессознательном, и не ждет, полностью сформированное, пока его заметят и опишут в контексте кибернетических структур семейных взаимодействий. Наоборот, оно возникает и принимает форму, по мере того как мы беседуем друг с другом. Следовательно, огромное значение имеет то, чему уделяют внимание слушающие терапевты. Другими словами, выслушивание — это не пассивная деятельность. Слушая, мы интерпретируем, даже если не хотим этого.
Это может звучать как противоречие нашему прежнему заявлению ("Мы хотим понять, какой смысл несут их истории для них. Это означает отказ от "экспертных фильтров"). Здесь важно слово "экспертный". Поскольку интерпретации избежать невозможно, мы пытаемся избежать убеждения, что о прожитом опыте человека знаем больше, чем он сам. Люди, с которыми мы работаем, являются первичными интерпретаторами своего собственного опыта.
В ходе терапевтических бесед мы "собираем" смыслы во взаимодействии с другими, а не открываем истины. Определенные вещи мы выберем как значимые, а другие проигнорируем. Наш разум — это не пустая грифельная доска, на которой люди могут писать свои истории. Если мы считаем себя экспертами по патологии, то будем замечать, запоминать и исследовать именно то, в чем нам слышится патология. Если наш слух направляется теорией, утверждающей, что люди должны "прочувствовать свою боль", дабы обрести целостность, мы будем формировать болезненные истории. Если у нас есть специальный интерес к теме обделенно-сти властью, мы будем побуждать людей рассказывать нам истории
о том, как они были лишены власти. В итоге то, чего люди пытались избежать, придя на терапию, станет еще более реальным, более живучим и более гнетущим.
Деконструктивное выслушивание
Этот особый род выслушивания, необходимый для принятия и понимания историй людей без конкретизации и усиления беспомощных, болезненных и патологических аспектов этих историй*, мы называем деконструктивным выслушиванием. Путем такого выслушивания мы пытаемся открыть пространство для тех аспектов жизненных нарративов людей, которые еще не обрели свою историю. Наша склонность к социальному конструктивизму приводит к тому, что мы побуждаем людей относиться к своим жизненным нарративам не как к пассивно получаемым фактам, но как к активно конструируемым историям. Мы надеемся, что они переживут свои истории как нечто, к формированию чего они приложили руку, а не как то, что уже сформировало их. Мы верим, что эта установка помогает деконструировать "фактичность" нарративов людей и что такая деконструкция ослабляет хватку ограничивающих историй.
В академических кругах слово "деконструкция" сразу вызывает
ассоциацию с работой Жака Деррида, в которой исследуется усколь-
зающая природа смысла и рассматривается, как смысл любого сим-
вола, слова или текста безвозвратно "увязает" в контексте. Деррида
и другие конструктивисты полагают, что бесполезно искать один-
единственный "реальный" или "истинный" смысл любого текста,
поскольку все нарративы полны пробелов и двусмысленностей.
Ученые-деконструктивисты концентрируют внимание именно на этих пробелах и двусмысленностях, чтобы показать: официально санкционированный или общепринятый смысл данного текста — лишь один из огромного числа возможных смыслов.
Итак, когда мы слушаем истории людей "деконструктивно", наш слух направляется убеждением, что эти истории обладают множеством возможных смыслов. Смысл, который улавливает слушатель, часто отличается от смысла, который предполагал донес-
 *Это не значит, что мы побуждаем людей игнорировать несправедливость или смиряться с ней На самом деле это означает, что мы более внимательны к событиям, которые могут быть пересказаны как история "борьбы против несправедливости", нежели к тем, которые рассказываются как истории о "человеке как жертве" Таким образом, мы помогаем себе и людям, с которыми работаем, сыграть свои роли в деконструкции патологизирующих историй
*Это не значит, что мы побуждаем людей игнорировать несправедливость или смиряться с ней На самом деле это означает, что мы более внимательны к событиям, которые могут быть пересказаны как история "борьбы против несправедливости", нежели к тем, которые рассказываются как истории о "человеке как жертве" Таким образом, мы помогаем себе и людям, с которыми работаем, сыграть свои роли в деконструкции патологизирующих историй
ти говорящий. Мы пытаемся извлечь из этого выгоду, выискивая пробелы в своем понимании и прося людей дополнить пропущенные детали или вслушиваясь в двусмысленности и затем спрашивая людей, как они их разрешают или имеют с ними дело.
Когда люди рассказывают нам истории, мы иногда прерываем их, чтобы суммировать наши ощущения от их рассказа и уточнить, совпадает ли смысл, который мы уловили, с тем, который они пытались донести. Хотя наша цель состоит в том, чтобы "действительно" понять реальности людей, эти реальности неизбежно изменяются в процессе. Обдумывая наши вопросы и комментарии, люди не могут не рассматривать свои истории с новых сторон. Одно наше присутствие превращает их в мир в новую, другую реальность.
В ходе процесса возникают новые смыслы и новые конструкты. Многие из замеченных нами пробелов еще не заполнены, и людям приходится исследовать свой опыт, чтобы найти детали, которые их заполнят. По мере того как добавляются детали, меняется форма нарратива. Кроме того, когда люди слышат, что мы улавливаем смысл, отличный от их смысла, они могут пересмотреть свои собственные смыслы и модифицировать их. В течение всего этого процесса мы слушаем очень внимательно, чтобы понять, вокруг чего возникают новые конструкты. Полезны ли они и желательны ли? Если человек не выражает свое предпочтение новому конструкту, мы ему не следуем.
Восприятие проблем отдельно от людей
Уайт выдвинул идею (1987, 1988/9, 1989; см. также Epston, 1993а, и Tomm, 1989) о том, что человек не есть проблема, но проблема есть проблема. Экстернализация — это практика, в основе которой лежит убеждение, что проблема— это нечто, что управляет жизнью человека, влияет на нее и пронизывает ее, нечто отдельное и отличающееся от самого человека.
Выслушивая истории людей, мы задаем себе вопросы вроде "Что здесь проблемного? Какова природа этой проблемы? Как она себя проявляет? Каково этому человеку жить с этой проблемой? Что влияет на этого человека, побуждая его думать/чувствовать/действовать именно так? Что мешает этому человеку принять тот опыт, который он предпочел бы?" Задавая себе эти вопросы, мы делаем первые шаги в восприятии проблем отдельно от людей.
Экстернализация более важна как установка, нежели как техника (Roth & Epston). Мы убеждены (и наши убеждения основаны на опыте использования нарративных идей в терапии и 'супервизии других, тех, кто пытается применить нарративные идеи в своей работе) в том, что, когда люди подходят к экстернализации как к технике или лингвистическому ухищрению, она может оказаться поверхностной, принудительной и не особенно полезной.
Интернализирующие дискурсы
Адамс-Уэсткотт, Дэффорн и Стерн (1993) подробно писали о том, как люди, подвергающиеся насилию, оскорблениям, склонны интернализовать травматизирующие события, которые они пережили, в форме внутренних диалогов и как эти диалоги окрашивают интерпретацию последующих событий. Они пишут:
"Проблемы развиваются тогда, когда люди интернализиру- ют беседы, которые ограничивают их узким описанием себя. Эти истории переживаются как гнетущие, поскольку они ограничивают восприятие доступного выбора".
Дэвид Эпстон (1993а) выяснил, что этот процесс интернализа-ции происходит не только в случае локального и специфического опыта травмы и насилия, но и в случае более обширного культурного опыта. Он отмечает описание Фуко, касающееся того, как смерть и болезнь (ранее воспринимаемые так, как если бы они пребывали в первую очередь в социальном или духовном мире) стали помещать в специфические места в пределах специфических человеческих тел. Эпстон пишет:
"...Анатомическое пространство стало каузальным пространством, обиталищем смерти и болезни. За этим последовало то, что тело стали считать вместилищем человеческих качеств. Считалось, что разум, интеллект, безумие и мириады человеческих качеств пребывают в живых телах".
В Средние века, если человек был "болен", "безумен" или "преступен", причину и средство исцеления, как правило, искали в социальном или духовном пространстве — либо правитель государства не управлял страной как должно, либо сам человек был
отрешен от надлежащего духовного сообщества. В нынешние времена акцент в большей степени делается на личной ответственности за поддержание нашего разума и тела в надлежащем порядке. Если у человека случается сердечный приступ, это объясняется тем, что он придерживался неправильного режима питания и распорядка дня. Если человек впадает в депрессию, это объясняется химической неустойчивостью определенных циклов в его мозге, и здесь требуются химические средства лечения. Согласно Фуко, наиболее политически могущественные дискурсы в современном обществе отделяют нас друг от друга и побуждают относиться к себе и своим телам как к проблемным объектам. Эпстон назвал такие доминирующие дискурсы, которые поддерживают этот процесс, "интернализующими дискурсами".
Экстернализующая установка может противостоять "объективирующим" влияниям интернализующих дискурсов посредством объективации и разделения того, что было интернализовано. Однако чтобы принять экстернализующее мировоззрение, мы должны переориентировать свое восприятие и объективировать проблемы, а не людей.
Упражнение
Поворотной точкой в моем (Дж. Ф.) научении объективированию и экстернализации проблем стала моя экстернализованная беседа с самой собой. Было время, когда я считала себя застенчивой. Однажды, охваченная ужасом перед грядущим социальным событием, я решила поговорить с собой о влиянии застенчивости на мою жизнь. Было весьма отрадно обнаружить, что, поскольку я переживаю сдвиг восприятия застенчивости, проявляющейся в социальных ситуациях, а не свое пребывание в состоянии застенчивости, мне гораздо легче поддерживать этот сдвиг восприятия в отношениях с другими. Это открытие побудило нас разработать упражнение, которое приводится ниже. Вы можете выполнить его как "мысленный эксперимент".
Выберите черту характера, качество или чувство, которых, как вам кажется, у вас в избытке, или такие, что порой вызывают у других неприятие по отношению к вам. Пусть это качество будет описано прилагательным — например, "злой", "завистливый" или "виновный". В следующем наборе вопросов замените X этим прилагательным. Читая эти вопросы и заменяя X чертой характера или чувством, отвечайте на них для себя.
1. Как вы стали X?
2. По отношению к чему вы более всего X?
3. Какие события, как правило, приводят к тому, что вы стано
витесь X?
4. Когда вы X, что вы делаете из того, чего бы не сделали, если
бы не были X?
5. Каковы последствия того, что вы X, для вашей жизни и вза
имоотношений с другими?
6. Какие из ваших текущих затруднений вызваны тем, что вы X?
7. Как меняется ваше представление о себе, когда вы X?
8. Если бы вдруг каким-то чудом вы проснулись в одно прекрас
ное утро и больше никогда не были бы X, как бы изменилась
ваша жизнь?
Отметьте общий эффект от ответов на эти вопросы. Каково вам? Что представляется возможным в отношении этой черты или чувства? Что представляется невозможным? Как вам видится будущее в отношении этого?
А теперь давайте отойдем от того, что вы только что делали. Возьмите то же качество или черту характера и превратите ее в существительное. Например, если "X" означало "завистливый", теперь это станет "завистью"; "злой" превратится в "злобу". В предлагаемых ниже вопросах вставьте свое существительное на место Y. Ответьте для себя на эти вопросы.
1. Что сделало вас уязвимым для Y в такой степени, что оно мо
жет доминировать в вашей жизни?
2. В каких контекстах Y с наибольшей вероятностью проявляет
ся?
3. Какие события, как правило, приводят к проявлению Y?
4. Что Y побуждало вас делать помимо ваших лучших намерений?
5. Как Y влияет на вашу жизнь и ваши взаимоотношения?
6. Каким образом Y привело вас к тем трудностям, которые вы
сейчас испытываете?
7. Закрывает ли Y от вас ваши ресурсы или вы способны видеть
их сквозь это?
8. Бывали ли времена, когда вы могли наилучшим образом вос
пользоваться Y? Времена, когда Y могло проявиться, но вы не
выпустили его на сцену?
Отметьте общий эффект от ответов на эти вопросы Каково вам? Что представляется возможным в отношении Y? Что представляется невозможным? Как вам видится будущее в отношении Y?
Вспомните свои опыты с "X". Чем ваш опыт с "Y" отличается от опыта с "X"? Превращая качество или чувство в существительное, начали ли вы относиться к нему как к объекту, а отвечая на вопросы, экстернализовали ли вы этот объект! Насколько это было полезно при обращении с качеством или чувством?
Вхождение в экстернализующее мировоззрение требует от нас отделить восприятие проблем от восприятия людей. По мере того, как мы учимся рассматривать проблемы отдельно от людей, мы начинаем видеть людей как субъектов*. Дэвид Эпстон формулирует это так:
"Если люди исчезают или поглощаются в... интернализую-щем дискурсе, то в экстернализующем дискурсе они как бы возникают и возвращаются к жизни как главные герои в своих жизненных историях, которые теперь могут допустить жизни, направленные в будущее, а не путаться в различных версиях отсчета времени".
Мы полагаем, что выслушивание с экстернализующей установкой оказывает мощный деконструктивный эффект. Оно побуждает нас взаимодействовать с людьми не так, как если бы мы видели их как изначально отягощенных проблемами. Это создает совершенно другой "принимающий контекст" для историй людей, в котором мы можем работать с ними и понимать их проблемы, не относясь к ним как к проблемным или патологическим личностям. В таком контексте содержание и смысл людских историй почти всегда становятся менее сдерживающими.
Пример деконструктивного выслушивания
Следующая стенографическая запись иллюстрирует деконструк-тивное выслушивание. Здесь я (Дж. К.) руководствуюсь как позицией не-знания, так и установкой на восприятие людей отдельно от проблем.
 *3десь мы используем "субъект" в смысле "субъект глагола, тот, кто действует"
*3десь мы используем "субъект" в смысле "субъект глагола, тот, кто действует"
Беседа проводится с Нэн, которая переехала со своей семьей в Чикаго примерно за шесть месяцев до этого. Я принимал Нэн раз в три недели. Она пришла ко мне на прием, поскольку не могла продолжать курс у терапевта из другого города
Значимые вещи, которыми Нэн делилась в своей истории, заключались в том, что в детстве она подвергалась страшным унижениям — физическим, сексуальным и словесным. Возвращающееся переживание унижения сформировало в Нэн веру в то, что единственный способ выживания для нее состоит в том, чтобы принять "гипертрадиционные" формы женского раболепства, сосредоточившись на предвидении и удовлетворении малейших желаний окружающих ее людей. Когда ей было 18 лет, она вышла замуж за Барта. Для Нэн это был прежде всего повод покинуть родительский дом. Она думала, что сделала хороший выбор. Барт разговаривал с Нэн вежливо, кроме того, он обеспечил ей дом, в управлении которым она обладала правом голоса. В первые десять лет брака (или больше) она успешно выполняла свои обязанности гипертрадиционной жены и матери. Тем не менее дискурс "женского раболепства" все еще управлял ее жизнью.
Барт был хозяином в своем доме, однако испытывал постоянные трудности в мире бизнеса. Со временем он все больше запутывался в иерархических структурах бизнеса. Барт не'любил "получать приказы", однако на каждой новой работе, независимо от высоты его положения в организации, над ним стоял кто-то, кто "отдавал ему приказы". Воспринимая это как оскорбление, он разражался бранью и увольнялся или его увольняли. Но со временем он пришел к убеждению, что оскорбительные, унижающие практики полезны и временами необходимы.
По мере того, как оскорбление приобретало все больший вес в мировоззрении Барта, он стал допускать оскорбительные выражения в адрес Нэн. На четырнадцатом году их брака он стал бить ее. В течение этих лет семья 12 раз переезжала в разные города трех штатов. Барт объяснял это поисками места, где он не будет "работать на идиотов". Когда Барт стал бить Нэн, она начала испытывать припадки паники и крайнюю депрессию. "Отзвуки прошлого", в которых она живо переживала сцены унижения из своего детства, стали ее ежедневными посетителями. Эти проблемы привели к госпитализации Позже, в больнице, Нэн подверглась сексуальному насилию со стороны терапевта, который, как предполагалось, должен был ей помогать
Когда происходило это интервью, три с половиной года спустя после травмирующей госпитализации, Нэн все еще боролась со страхами и депрессией. Хотя Барт прекратил физические оскорбления, по мнению Нэн, он все еще был во власти установок, которые их поощряли. Нэн не чувствовала ни близости к Барту, ни безопасности в его присутствии. Самокритика, вызванная пребыванием в оскорбительном браке, подпитывала депрессию и страхи, которые уже разрушали ее.
Зная о переживаниях Нэн и реальных последствиях этих переживаний, во время нашей беседы я держал в уме некоторые моменты. Уверен, что, будучи мужчиной, живущим в этой патриархальной культуре, я не свободен от патриархальных установок, что облегчает мне возможность оскорбительно обращаться с женщиной. Я особенно хочу уберечься от невольного дублирования тех травматических переживаний, которые были причинены Нэн доминирующей культурой. Например, навязывание своих идей вместо выслушивания ее собственных могло бы стать копией определенных нежелательных аспектов ее детства и замужества. Я пытаюсь уберечься от этого несколькими способами. Я обсуждал с Нэн свою дилемму, предполагая, что она, возможно, предпочла бы работать с женщиной. Она все-таки решила продолжать работать со мной, но я заручился ее согласием взаимодействовать с Джилл. Таким образом, в этой работе я нес ответственность перед женщинами. Чтобы не воспроизводить оскорбляющие Нэн ощущения, связанные с принуждением, я с особым вниманием следую за ней. В этом отношении деконструктивное выслушивание, вероятно, является самой важной практикой.
В тот момент, когда начинается фрагмент этой конкретной беседы, Нэн рассказывает о страхе и о том, как он временами сковывает ее.
Нэн: Я никогда не была-пугливой. Я рисковала. Но теперь все действительно становится ужасно... В травмирующие моменты, например, когда мне угрожает Барт. Вроде этого... И наступает момент, когда меня почти сковывает. Чтобы что-то контролировало тебя так...
Джин: Вы говорите, что страх сковывает вас?
Нэн: Как будто, если ты сдвинешься вот с этой одной точки, он навалится. Он не дает тебе ответов. Он просто дает ощущения, вот и все. Физически пугающие ощущения.
Джин: Итак, он здесь прямо сейчас?
Нэп: Нет, очень сильно.
Джин: Откуда вам это известно? Я имею в виду, что...
Нэн: Ну, он работает сам по себе. Он контролирует, когда хочет контролировать. Это вроде отдельной вещи. Вот что вызывает беспокойство. И это как будто какие-то глупости, которые пытаешься выговорить, или как будто просыпаешься среди ночи, выглядываешь в окно, и все просто пугает. И ты думаешь: "Какая глупость". Кажется, что у него есть свое собственное место в тебе, которое ты не контролируешь. Ты не можешь выговориться или сделать что-то, чтобы прогнать его. Он просто будет там.
Джин: Похоже, у вас нет никакой прямой власти над ним, он приходит и уходит, как ему заблагорассудится?
Нэн: Гм-м... но я могу действовать и вопреки ему, иногда, когда все не так плохо. Я могу заехать за Мэри Пэт в школу. Все же некоторое время ты можешь функционировать.
Джин: И когда вы идете напролом и функционируете вопреки ему, как это выглядит?
(До этого момента я "просто слушал ". Я представлял страх как экстернализованную сущность, и она говорила о нем в том же духе. Я лишь задавал вспомогательные, проясняющие вопросы, выраженные экстернализованным языком, чтобы заполнить пробелы. Задав этот вопрос, я выбрал довольно бесцеремонный путь. Вместо того чтобы побуждать ее к продолжению истории о страхе, я спросил, что происходит, когда она функционирует вопреки страху. И все оке моя роль в первую очередь сводится к выслушиванию и пониманию истории Нэн, как она ее рассказывает.)
Нэн: Мне нравится ощущать, как я контролирую его своими действиями, когда он приходит. (Пауза.) Но я знаю, что это не так. Он вроде как отпускает меня.
Джин: Он играет с вами?
Нэн: Это просто... "О'кей, давай ломись, ты делаешь то, что положено, но я все равно буду поблизости". Понимаете? "Я намерен тебя достать. Я достану тебя позже". Понимаете? Это что-то вроде психоза или еще что-то? У меня крыша едет? Не знаю.
Джин: Меня больше заинтересовало замечание о том, что вы несколько раз испытывали чувство, будто можете иметь на него
некоторое влияние. Что вы можете ослабить его хватку. Что даже если он присутствует, вы можете действовать вопреки ему.
(Здесь я отмечаю, что мой интерес относится к особой части ее истории. Мне интересно знать, как она может ослабить хватку страха, но я не пытаюсь научить ее чему-то или убедить в чем-то, а просто стараюсь выяснить, что ей известно об ослаблении хватки страха. Я также надеюсь, что она смогла бы сконструировать нечто новое, ломая голову над тем, как ей удается ослабить хватку страха.)
Нэн: Не всегда. Джин: Я понимаю.
(Я полагаю, "не всегда " означает, что история о тех моментах, когда страх действительно охватывает Нэн, более уместна для нее сейчас. Я следую за ней и слушаю.)
Нэн: Как в прошлую пятницу, когда мне надо было идти к ортопеду, чтобы мне сняли гипс.
Джин: У-гу.
Нэн: Я не могла выйти из дома. Пути не было.
Джин: И что было такого в этой конкретной ситуации? Что такое делал страх, что оказалось таким эффективным?
(Я поддерживаю использование экстернализованного языка, но, с другой стороны, просто предлагаю ей рассказать больше о страхе и о том, насколько он эффективен.)
Нэн: Это было... все мое тело, внутри, как будто я оказалась в настоящем тесном клубке и не могла двигаться.
Джин: Что делал страх, чтобы удержать вас в этом тесном клубке?
Нэн: Заставлял меня испытывать чувства.
Джин: А что это за чувства были тогда?
Нэн: Что я распадусь на множество кусочков, если не останусь свернутой в маленьком пространстве. У меня такое бывало, когда отзвуки прошлого были действительно ужасны. Отзвуки прошлого.
Джин: У-гу. У-гу.
Нэн: Тогда... это казалось более контролируемым. Потому что, кажется, я догадываюсь, в чем тут дело. Знаете, я могла... ска-
зать: о'кей, вот что случилось и вот почему ты так себя чувствуешь. Так было лучше. Но теперь эти чувства просто приходят ниоткуда. Джин: Хорошо, если вы посмотрите на ситуацию сейчас, когда не пребываете в ее центре, можете ли заметить какую-то разницу в чувствах?
(Здесь я аккуратно подвожу Нэн к другой точке зрения, но не предполагаю, что она ею воспользуется. Я просто слушаю, какими сло- | вами Нэн все это описывает.)
Нэн: Я думаю, это страх перед полной потерей контроля. Это I единственное... Я на самом деле не уверена, что это так. Понима-| ете, что я имею в виду? Но это только мысль.
Джин: Как долго он это делал... мог держать вас свернутой в клубок?
Нэн: Два-три часа. Звонил телефон, а я не могла ответить, понимаете? Ох, бывают дни, когда я не могу говорить по телефону. Или ответить на звонок в дверь или... (Пауза) Может, потому что я просто... в то время не хотела выходить. (Пауза.) А я знала, что выходить надо, и это было вроде полусуществования... Понимаете, о чем я говорю? Это словно я должна быть там, но в действительности меня там нет.
Джин: Я думаю, для меня это имеет определенный смысл. Это как если бы вам хотелось просто пропасть на время. Но вы знаете, что Мэри Пэт вернется домой из школы или что... не знаю, какие еще могут быть причины. Какие еще причины, ради которых вам приходится существовать?
(Я осознаю, что не знаю, почему ей "приходится существовать ", и поэтому прошу заполнить мои пробелы.)
Нэн: Я несу ответственность перед собой за свое существование.
Джин: Хорошо, расскажите об этом побольше. Мне это интересно, эта ответственность перед собой за свое существование. Во что вы верите или что знаете об этом?
Нэн: Ну, я испробовала неподходящие методы. Я поняла, что они не работают, и действительно не хочу, чтобы они работали. Я знаю, что мне нужно жить. И, ах, я не знаю. Это просто... как будто на самом деле я не хочу быть здесь, но ты знаешь, что тебе нужно быть здесь. И это не всегда... это не всегда...
Джин: Не всегда будет так?
(Это смысл, который я подразумеваю. Я произношу это громко, с восходящей интонацией, чтобы она могла скорректировать меня, если я не понимаю ее смысл.)
Нэн: Ну, это не всегда так.
Джин: Это уже не всегда так?
Нэн: Верно.
Джин: Итак, вы сказали: "Я знаю: мне нужно жить". Вы также сказали: "Я знаю, что мне не нужны эти неподходящие методы, я действительно не хочу, чтобы они работали". Оба эти высказывания мне интересны. Почему бы нет? Возможно, с моей стороны это прозвучит глупо, но вам действительно нужно жить? Почему вы действительно не хотите, чтобы эти методы работали?
(Я не знаю, почему ей "нужно жить ", и мне действительно интересно узнать, почему.)
Нэн: Потому что я знаю, что иногда хочу [жить]. Я просто чувствую, что вся моя жизнь была так чертовски трудна. И я больше не хочу отключать свои чувства, как делала это раньше. Я имею в виду, что все еще переживаю самоубийство своего брата и смерть матери четыре года тому назад, понимаете? Почему это должно быть настолько болезненным, физически болезненным сейчас?.. Но я не хочу умирать.
В ходе оставшейся части сеанса мы с Нэн говорим о похоронах ее матери. Она рассказывает мне о семейной традиции скрывать свои чувства, которая не позволяла ей плакать или говорить о своей скорби. Раньше она могла полностью скрывать свои чувства, и это помогло ей прорваться сквозь некоторые мучительные переживания. Теперь она становится чувствующей личностью. Нэн считает, что в целом это хорошо, но она становится более уязвимой для приступов паники и депрессии. К концу сеанса она размышляет над своей решимостью жить и чувствовать — стоять лицом к лицу перед страхом и депрессией и строить значимую для себя жизнь вопреки им.
В тот момент, когда я пишу это, Нэн все еще живет в том же доме, что и Барт, но они разводятся и скоро будут жить отдельно. Они будут продолжать совместно воспитывать свою дочь. У Нэн
увеличивается круг друзей, которые ее поддерживают. Она вернулась в школу, чтобы получить степень магистра образования. Паника и депрессия не исчезли из ее жизни, но она встречает их с большей уверенностью, и они лишь очень редко и очень ненадолго способны сковывать ее.
Деконструктивная постановка вопросов
До сих пор мы обсуждали деконструкцию как некий естественный и неизбежный побочный продукт наших усилий понять жизненные истории людей через нарративный/экстернализующий фильтр. Наши изначальные намерения состояли в том, чтобы выслушивать нарративы людей и понимать их, кардинально не изменяя. По мере того как мы слушаем, осознавая, что нарративы строятся на пробелах и неопределенностях в историях людей, для рассказываемых историй открывается пространство для изменения.
Поэтому мы часто ощущаем, что важно принимать более активную роль. Мы согласны с Карлом Томмом (1993), который утверждает:
"Герменевтического выслушивания, кругового опроса, эм-патического отражения и системного понимания недостаточно, особенно когда затрагиваются проблемные паттерны несправедливости".
В какой-то момент, обычно когда достигнута определенная степень доверия и взаимопонимания, мы начинаем задавать вопросы, в которых присутствует больше элементов намеренного воздействия. То есть мы переходим от деконструктивного выслушивания к декон-структивной постановке вопросов.
Деконструктивный опрос побуждает людей увидеть свои истории с разных точек зрения, заметить, как они сконструированы (или вообще что они сконструированы), отметить их ограничения и обнаружить, что существуют другие возможные нарративы (Combs & Freedman, 1994b). Иначе этот процесс называют "распаковкой". По мере того, как люди начинают задумываться над тем, как были сконструированы нарративы, которые они проживают, они видят, что эти нарративы не являются неизбежными и не олицетворяют
абсолютную истину. Напротив, они являются конструктами, которые могли быть составлены по-другому. Подобная деконструкция стремится не к тому, чтобы бросить вызов нарративу (Griffith & Griffith, 1994), а к тому, чтобы распаковать его или предложить возможность рассмотреть под другим углом. Когда это происходит, люди могут опротестовать его.
Политика деконструктивной постановки вопросов
Определяя деконструкцию, Майкл Уайт придает ей политический характер. Он говорит:
"Согласно моему не слишком глубокому определению, деконструкция имеет дело с процедурами, которые ниспровергают общепринятые реальности и практики: эти так называемые "истины", отчужденные от условий и контекста их создания; эти бестелесные формы речи, скрывающие их склонности и предубеждения; и эти привычные практики самости и взаимоотношений, порабощающие человеческие жизни".
Следуя за Уайтом (и Фуко), мы полагаем, что доминирующие истории могут "порабощать человеческие жизни". В главе 1 мы уже обсуждали, как медицинская модель может привести к тому, что люди ощущают себя "послушными телами", подвластными знанию и процедурам, в которых у них нет активного голоса. Есть также порабощающие истории о поле, расе, классе, возрасте, сексуальной ориентации и религии (это лишь немногие из них), которые в такой степени укоренены в нашей культуре, что мы можем попасть в их сети, не замечая этого.
Деконструкция по Уайту может помочь нам разоблачить "так называемые истины", которые "скрывают свои склонности и предубеждения" за "бестелесными формами речи", что создает атмосферу законности для ограничивающих и порабощающих доминирующих историй. Принимая и защищая подобную деконструкцию, мы встаем на политическую позицию против определенных практик власти в нашем обществе.
Говоря о принятии позиции, мы не имеем в виду чтение лекций людям, с которыми работаем. В контексте терапии, хотим мы этого или нет (хотя предпринимаем шаги, чтобы свести это к ми-
нимуму), слова терапевта обладают определенным весом. Навязывание своих убеждений людям, с которыми мы работаем, копировало бы влияние привилегированных знаний и практик доминирующей культуры на тех, кто находится в порабощенном положении.
Тем не менее отказ от принятия позиции поддерживает статус-кво. В этом смысле нельзя не принять политической позиции. В расистском обществе, к примеру, игнорировать расизм ("не принимать его позицию") значит поддерживать его существование. Мы убеждены, что наша ответственность как терапевтов состоит в том, чтобы развивать понимание доминирующих (или потенциально доминирующих) историй в нашем обществе и разрабатывать способы совместного исследования влияния этих историй, когда мы ощущаем их воздействие на жизнь и взаимоотношения людей, которые приходят к нам на консультацию.
Рейчел Хэйр-Мастин (1994) использовала метафору "зеркальной комнаты", говоря о том, что единственные идеи, которые могут появиться в терапии, это идеи, которые вовлеченные люди приносят в кабинет терапевта:
"Комната для терапии подобна комнате, уставленной зеркалами. Она отражает лишь то, что произносится в ее пределах... Если терапевт и семья не знакомы с маргинальными дискурсами, связанными, к примеру, с членами подчиненного пола, расы и классовой группы, эти дискурсы остаются за стенами зеркальной комнаты".
Это замечание предполагает, что терапевты должны постоянно размышлять над дискурсами, которые формируют наше восприятие возможного, — как для нас, так и для людей, с которыми мы работаем. Хотя мы никогда не сумеем добиться отстраненного или объективного видения, но можем раскрыть, а не сузить разнообразие возможностей, доступных в зеркальной комнате для терапии. Мы можем размышлять над мощным эффектом взаимоотношений, заложенных в каждом возможном дискурсе. Мы можем искать новые возможности через самообразование и постоянную, регулярную деконструкцию наших убеждений и практик. Мы следуем такой деконструкции, обдумывая со своими коллегами и людьми, с которыми работаем, влияние историй и дискурсов, которые направляют наши убеждения и практики.
Экстернализация и деконструктивная постановка вопросов
Мы убеждены, что людям проще всего исследовать влияние проблемно-насыщенных историй на свою жизнь, когда они делают это в контексте экстернализующей беседы. Мы уже познакомили вас с тем, как слушаем, используя экстернализующую установку. Теперь мы хотим обсудить, как задаем вопросы, которые побуждают не только терапевтов, но и людей, с которыми они работают, переживать проблемы в экстернализованной форме. Первый шаг в этом процессе — преобразовать язык, используемый человеком для описания проблемы, так, чтобы проблема была объективирована, и задавать человеку вопросы о ней.
Например, в североамериканской культуре людей, вовлеченных в полный диапазон переживаний, называют "созависимыми". Существуют направления, например, 12-шаговые группы, которые конкретизируют этот ярлык. "Созависимость" становится интерна-лизованным дискурсом, и люди ощущают ее частью своей личности. Когда дискурс созависимости набирает силу, они теряют контакт с многочисленными аспектами пережитого опыта, которые лежат за его пределами. Люди объективируются как созависимые, и другие, некогда трепетные аспекты их опыта, уже не принимаются во внимание. Чтобы вовлечь в экстернализующую беседу человека, который был участником этого процесса, мы можем начать с вопроса о том, как созависимость повлияла на его жизнь. Если он присоединяется к нашей беседе, мы вместе начинаем "бить" интернализующий дискурс его же оружием, выводя созависимость за пределы личности. Поскольку данный человек больше не определяется как "созависимый", он волен восстанавливать другие аспекты себя и своего опыта. Теперь он может решать, что делать с созависимостью: например, выбросить ее из своей жизни или переименовать— возможно, в "заботливое отношение".
Приведенные ниже стенограммы, выбранные из двух последовательных встреч, иллюстрируют, какое воздействие подобная беседа оказала на одного человека, с которым я (Дж. Ф.) работала.
Лаверн: Итак, это и в самом деле большая проблема для меня... потому что такого никогда не было. И все становится хуже и хуже. Лучше не становится.
Джим: Откуда вам известно, что становится хуже?
Лаверн: Ну, я чувствую, что становится хуже, потому что я все больше боюсь. Понимаете, что я имею в виду? Я никогда не чувствовала себя так прежде. То есть я чувствовала себя так прежде, когда они говорили примерно: "Лаверн Сколник, пожалуйста, выйдите вперед и прочитайте нам ваше двадцатистраничное что-то там такое".
Джим: Гм-м.
Лаверн: Знаете, это не так... не так сильно, как это. Но что-то начинает шевелиться. Понимаете? И я стала просто как...
Джим: Итак, я прошу вас помедленнее, действительно помедленнее.
Лаверн: Хорошо.
Джим: И слушайте, что это такое.
Лаверн: Хорошо.
Джим: Итак, когда вы говорите, что-то начинает шевелиться. Что вы имеете в виду?
Лаверн: Хорошо. У меня появляется это ужасное ощущение тошноты. Нет, меня не рвет.
Джим: Гм-м.
Лаверн: Мое сердце начинает бешено колотиться. Я чувствую, что мне надо в ванную. Гм-м. Я имею в виду, что начинаю потеть.
Джим: Гм-м.
Лаверн: А потом я начинаю делать что-то вроде... о, мы, пожалуй, присядем здесь. Кажется, все смотрят на меня. Нет, не совсем так, я собираюсь сказать какую-нибудь глупость. Это просто потому, что мне нечего сказать. Что, в свою очередь, заставляет меня абсолютно ничего не говорить, потому что я собираюсь начать все анализировать.
Джим: Хорошо. Гм-м. Откуда страху известно, когда он может достать вас? Когда он может прийти и начать создавать эту ужасную тошноту? И...
Лаверн: Хорошо, это интересная манера задавать вопрос. Откуда страху известно, кбгда он может прийти и достать вас? Ух, это страшно интересно.
Джим: Почему? Почему это интересно?
Лаверн: Я не знаю. Это просто так, как вы сказали. Как если бы страх не был частью меня, понимаете, что я имею в виду? Страх
был чем-то, что где-то там, — как противоположность тому, чтобы быть во мне.
Джим: Именно так я думаю о нем.
Лаверн: Вы так думаете о нем? Да, я думаю, я знала это. Это страшно интересный способ спрашивать об этом. Мне это нравится. Сейчас вы дали мне другое видение его. Это страшно интересно.
Джим: Г-м.
Лаверн: Мне можно кое-что сказать вам, что прозвучит весьма странно?
Джим: Что это?
Лаверн: Как бы то ни было, я чувствую себя странно. Ух! Я имею в виду, когда вы только сказали это и я сказала, я подумала, ох, что это интересная манера говорить об этом. А потом я была, ох, как будто где-то там. Я почти так себя чувствовала. Я усекла это, понимаете, что я имею в виду? Как будто какая-то часть этого дерьма вытеснилась наружу.
Джим: Это здорово.
Лаверн: Отчасти. Да, это хорошо. Меня раздражает, что я это чувствую.
Джим: Хорошо, я могу понять, как бы вы себя чувствовали. Это из-за того, как люди говорят о своих проблемах. Поэтому я понимаю, на что это похоже, — на некоторое облегчение.
Лаверн: Да. Я буквально это имела в виду.
Джилл: Да. Да. И позвольте мне спросить: как вы думаете, с тем, что как бы отдельно от вас, вы лучше осознаете какие-то свои силы?
Лаверн: Да. Я не знаю, сможет ли это... смогу ли я контролировать это чувство, потому что я просто получила некий намек на него. Как я сказала — я получила облегчение?
Джим: Г-м.
Лаверн: Я сказала так. И это как будто было прямо здесь. Вроде того, вроде... ох... Я имею в виду, это было не какое-то облегчающее чувство.
Джилл: Г-м.
Лаверн: Вроде что-то волнующее, но прямо здесь. Я думаю, что могу, я имею в виду, когда я начну это чувствовать, я смогу, понимаете, я смогу сказать: "Убирайся отсюда, мужик". Понимаете, что я имею в виду? Но сказать как бы себе, конечно.
Джилл: Да. Хорошо, разрешите мне вернуться к-вопросу, который я задавала. Как вы думаете, как страх узнает, когда он может внедриться? И попытаться утвердиться?
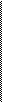 Лаверн: Г-м. Я имею в виду, если вы думаете, что это происходит буквально, то это не так. Я вроде как приглашаю его войти. Потому что, как он сам может, если думать реалистично? Если мы действительно думаем, что он где-то там, мне пришлось бы его впустить. Он не мог бы просто войти.
Лаверн: Г-м. Я имею в виду, если вы думаете, что это происходит буквально, то это не так. Я вроде как приглашаю его войти. Потому что, как он сам может, если думать реалистично? Если мы действительно думаем, что он где-то там, мне пришлось бы его впустить. Он не мог бы просто войти.
Джилл: Хорошо, может статься, есть какие-то определенные вещи, с которыми он объединяется, что делает вас уязвимой к нему.
Лаверн: Ох!..
Джилл: Вроде сомнения в себе. И я думаю, если были бы определенные вещи... Если бы мы могли начать определять их. Ну, к примеру...
Лаверн: Верно, я понимаю, что вы имеете в виду.
Джилл: Полезно было бы узнать об этом?
Лаверн: Верно.
(Следующий отрывок взят из нашей следующей встречи две недели спустя.)
Лаверн: Я думала о страхе, который вне меня. Я думала об этом целую неделю. Или, скорее, все две недели.
Джилл: Действительно?
Лаверн: Да, исключительно.
Джилл: И что вы думаете?
Лаверн: Просто я все время об этом думала, а потом мне пришлось... Этот парень, Крэйг, хотел, чтобы я встретилась с ним в доме его друга. И вот я поехала на выходные к этому парню, который мне нравится. В общем, мы вступили в связь.
Джилл: Г-м.
Лаверн: Но я начала слегка дурачиться. Итак, я ехала туда, и этот страх вроде как был со мной. Я выключила радио. И, в общем, начала громко с ним беседовать. Вроде как была... нет, я была с ним, я полностью контролировала его, даже если не желала этого. Я была — понимаете? Делая это, я постукивала пальцем по рулю, потому что кругом была куча народа. Понимаете? Итак, я притворялась, что я вроде бы пою.
Джилл (смеясь): Действительно?
Лаверн: Ну, как будто. ^
Джилл: Итак, вы как бы возражали страху? Это вы делали?
Лаверн: Я просто говорила, что не намерена позволять ему входить в мое тело. Как если бы он сидел рядом со мной.
Джилл: Ух, ты!
Лаверн: Но, похоже, что это хороший способ думать о множестве вещей, знаете, не только об этом.
Джилл: Г-м. Почему вы думаете, что это хороший способ думать о множестве вещей?
Лаверн: Ну, потому что, я думаю, это может дать хорошую возможность проверить реальность.
Джилл: Г-м.
Лаверн: Понимаете, о чем я говорю? Это выстраивает вещи в некую перспективу или вроде того.
Джилл: Г-м.
Лаверн: Да, мне нравится это.
Один из аспектов критики, которую мы слышим в адрес экстер-нализующих бесед, состоит в том, что они могут побудить людей уйти от ответственности за свое поведение. Мы обнаружили прямо противоположное. Экстернализующие беседы позволяют многим людям впервые пережить выбор возможности. Когда проблема определяет кого-то, человек мало что может сделать с этим. Сама проблема может. Когда проблема занимает внешнюю по отношению к человеку позицию, он может взять на себя ответственность за взаимодействие с ней. Лаверн почти мгновенно стала ставить страх на положенное ему место.
В главе 5 мы приведем примеры специфических вопросов, используемых при деконструктивном опросе. А сейчас давайте рассмотрим несколько понятий, которые кажутся нам полезными в практике деконструктивной постановки вопросов.
Наименование сюжета
Наименование сюжета (или проблемной истории) — это полезное дополнение к экстернализации проблемы. Часто одно и то же название годится как для проблемы, так и для связанного с ней нарратива. ("Вранье" может быть как проблемой, так и сюжетом.) Но иногда для них лучше срабатывают разные названия. (Проблему можно назвать "Гнев", а сюжет— "Вынудили выйти из себя".)
О наименовании сюжета Томм (1993) пишет:
"Такое наименование, как процесс наклеивания ярлыка, патологизирует сам патологизирующий паттерн, а не людей, которые его осуществляют. Любые практики исключения, которые могут быть мобилизованы негативным наклеиванием подобных ярлыков, затем вынужденно используются в качестве ресурсов, поскольку они автоматически направлены на проблемный паттерн, а не на соответствующего человека".
В приведенной ниже стенограмме Гектор обсуждает со мной (Дж. К.) преимущества, которые он обнаруживает, давая названия различным аспектам сюжета и проблемы. Он рассказывал о своей борьбе с депрессией и как раз перед тем, как мы начали беседу, он упомянул, что уже больше "не выскребает днище бочки".
Гектор: Что-то позволяет мне, ну... (длинная пауза) видеть вещи в перспективе. Поэтому мне... гораздо легче сейчас, чем раньше, выйти за пределы депрессивных ощущений и попытаться увидеть, что они собой представляют, а не принимать их близко к сердцу и барахтаться в них.
Джин: Что-то... Не могли бы вы охарактеризовать это "что-то", что облегчает?
Гектор: Г-м. Я думаю, это может быть осознание. (Длинная пауза.)
Джин: Осознание чего?
Гектор: Ну, осознание симптомов, во-первых. Так... это было в прошлом, в один прекрасный день я просыпаюсь и внезапно понимаю: "Эй, а я ведь глупец". Понимаете? Депрессия. Тогда как сейчас я могу видеть вещи так, как они происходят, или, знаете, когда начинают приходить ощущения, я могу их распознать.
Джин: Г-м.
Гектор: Что не облегчает обращения с ними. Г-м. За исключением того, что я однажды дал этому название. Это легче... не скажу классифицировать, но... может быть... с этим легче обращаться. (Джин и Гектор смеются.)
Гектор: Да.
Джин: Да. Хорошо, это именно то? Я имею в виду, другие люди тоже говорят об этом. Что, как только они дают имя чему-то... г-м, как только это уже не просто бесформенный тип опыта, который вдруг случается, и они спохватываются, а он уже очень интенсивен...
Гектор- Г-м.
Джин-...Ух, в том, чтобы назвать его, есть что-то, что дает больше... больше возможностей справляться с ним, бороться с ним. Делать что-то. Однако, послушайте, вы не могли бы рассказать чуть больше о том, как это работает в вашем случае? Об этом присвоении ему имени, которое делает его...
Гектор: Хорошо, я думаю, что вообще у человеческих существ есть потребность классифицировать.
Джин: Г-м.
Гектор: И я знаю, что у меня тоже. И неизвестное порождает гораздо больше страха, чем известное. Поэтому, если появляется смутное облачко чувства, которое я могу потрогать пальцем, я... я позволяю себе больше раскрыться. Раскрыться для боли, причиняемой им.
Джин: Г-м.
Гектор: Принимая во внимание, что я могу зацепиться за него. Ну, это как.. Что могло бы стать хорошей аналогией? Разница между... вы можете представить себе шар из воды и шар изо льда? Хорошо? (Смех.)
Джин: Хорошо.
Гектор: Вода, вода — это... когда за нее нельзя держаться, она в высокой степени бесформенна.
Джин: Г-м.
Гектор: Однако лед... ты можешь, по крайней мере, почувствовать его и что-то сделать с ним. За него можно ухватиться. Понимаете?
Джин: Я не уверен, что знаю, на каком уровне вы здесь говорите. Итак, если вы говорите: "Ох, вот! Это летаргия. Ох, это когда утром с трудом вылезаешь из постели".
Гектор: Г-м.
Джин: Ну, о каком наименовании вы говорите? Или вы просто говорите о том, чтобы называть депрессию депрессией? Это первое или второе?
Гектор: Нет, это гораздо более специфично. Да, прежде всего осознавать общую ситуацию.
Джин: Г-м.
Гектор:...Это помогает.
Джин: Г-м.
Гектор: Ну, потому что затем это позволяет мне войти в жизнь и воспринять индивидуальные вещи. А потом, если мне хватит
жизненных сил, я могу действительно попытаться что-то сделать с этим. Но, понимаете, если я просто хандрю, и мне ничем не интересно заниматься, и внезапно я осознаю: "Эй, то же самое я замечал за собой в прошлом!" Тогда я не раз могу заставить себя выйти из дома или сделать что-то. Все что угодно. Пойти поиграть на пианино или еще что-то, понимаете? Просто развеяться.
Джин: Итак, я просто хочу убедиться, что я следую за этим и не приписываю те смыслы, которых вам бы не хотелось... Итак, наименование этого "летаргией" или... "некоторым затруднением в контроле над собой" и определение этого как первых шагов к подобному настроению мотивирует вас что-то сделать с этим. Бы это имели в виду?
Гектор: Ну, настроение — это сама депрессия.
Джин: О'кей
Гектор: А наименование этих других вещей позволяет мне справиться с ней.
Джин: Верно.
Гектор: Да.
Как вы можете видеть, наименование сюжета или проблемы позволяет выяснить тактику и средства функционирования, которые использует проблема. Это знание помогает людям понять, как реагировать. В ходе процесса терапии наименование и переименование сюжета может продолжаться по мере развития историй людей.
Постановка вопросов
в режиме относительного влияния
Майкл Уайт (1986а, 1986b, 1988a, 1988/9) вводит "постановку вопросов относительного влияния" как способ структурировать экс-тернализующие беседы. При таком методе опроса людям предлагают обозначить сначала влияние проблемы на их жизнь и взаимоотношения, а затем — свое влияние на жизнь проблемы.
На основе двух этих наборов вопросов устанавливается, что человек не есть проблема, но он находится во взаимоотношениях с проблемой. Каждый из участвующих в беседе имеет возможность описать эти взаимоотношения множеством способов. Одно из последствий таких вопросов состоит в том, что становится ясно: каж-
дый — не только "порождающий проблему" — находится во взаимоотношениях с проблемой.
Например, сегодня днем нам в офис позвонила Лэшон, поскольку у ее семилетней дочки Линетт возникли проблемы в школе. Из нашего телефонного разговора, я (Дж. К.) вынес ощущение, что в жизни Линетт появилось несчастье, которое навязывает ей образ жизни, связанный с ложью и воровством. Разговаривая с Лэшон, я обнаружил, что проблема затронула ее так же, как и Линетт. Раньше Лэшон была всегда близка к своей дочери, но теперь, похоже, это несчастье отстранило ее от Линетт. Несчастье проходит между Лэшон и Линетт. Лэшон сказала, что в своих попытках "докопаться до сути" она несколько раз разговаривала с персоналом школы. Так много раз, сказала она, что там с ней больше никто не хочет разговаривать.
"Итак, это несчастье нанесло урон вашей репутации в школе Линетт?" — спросил я. Лэшон согласилась, добавив, что это может стать проблемой и для других ее двоих детей, поскольку никто в школе больше не желает ее слушать. Раньше она проявляла активность в родительском комитете, однако сейчас это несчастье отнимает так много времени и требует столько энергии, что она больше не хочет появляться в школе.
Дальнейшие вопросы, несомненно, установили бы, что проблема повлияла на жизнь и взаимоотношения членов семьи.
Распространение влияния проблемы на нескольких человек имеет ряд преимуществ. Во-первых, это помогает сохранять идентичность проблемы отдельно от каждого человека. Во-вторых, создает более широкий "ландшафт" для постановки вопросов второго ряда (влияние, которое люди оказывают на проблему). В-третьих, мобилизует людей сплотиться, чтобы противостоять последствиям проблемы. Это особенно полезно в тех ситуациях, когда проблема отчуждает людей друг от друга.
Например, раз несчастье вклинилось между Лэшон и Линетт, уводя Лэшон со сцены, мы можем предполагать, что в результате опроса в режиме относительного влияния они могли бы решиться создать единую рабочую группу, которая сумела бы убрать со сцены несчастье.
Поскольку мы получили некоторое понимание того, как проблема влияет на жизнь членов семьи и их взаимоотношения, мы спрашиваем, какое влияние оказали члены семьи на "жизнь" проблемы. В главе 5 мы приведем примеры вопросов, которые используем
 с этой целью Мы называем их "вопросами, открывающими пространство" и задаем их, чтобы создать "уникальные эпизоды" (White, 1988a). Уникальные эпизоды — это те формы опыта, которые не могут быть предсказаны сюжетом проблемно-насыщенного нарратива. Поскольку "ландшафт" проблемы был расширен обозначением ее влияния на жизнь и взаимоотношения участвующих людей, здесь много начал для историй, которые могут привести к уникальным эпизодам. Сюда можно включить переживания, которые служат исключениями для проблемы, к примеру, времена, когда Линетт была счастлива, но они не ограничиваются этими исключениями (White, 1995).
с этой целью Мы называем их "вопросами, открывающими пространство" и задаем их, чтобы создать "уникальные эпизоды" (White, 1988a). Уникальные эпизоды — это те формы опыта, которые не могут быть предсказаны сюжетом проблемно-насыщенного нарратива. Поскольку "ландшафт" проблемы был расширен обозначением ее влияния на жизнь и взаимоотношения участвующих людей, здесь много начал для историй, которые могут привести к уникальным эпизодам. Сюда можно включить переживания, которые служат исключениями для проблемы, к примеру, времена, когда Линетт была счастлива, но они не ограничиваются этими исключениями (White, 1995).
Например, наша обучающая группа сейчас работает с семьей, которой потребовалась терапия, потому что старший сын, старшеклассник, прогуливает занятия. Школьная администрация уведомила, что, если это будет продолжаться, Хуан не сможет окончить школу вместе со своим классом. Когда Дайна Шульмен, терапевт, работающий с семьей, задавала вопросы, Хуан и его семья обозначили проблемы как "прогулы занятий" и "беззаботное отношение", которое привело к этим прогулам По мере того, как Дайна задавала деконструктивные вопросы, члены семьи говорили о влиянии проблемы на них как на семью — включая неприятные разбирательства в школе, недоверие, злобу и разочарование — что стало выявлять различные аспекты семейной жизни.
Уникальный эпизод, обусловленный вопросами Дайны, выразился в том, что старшая дочь, Роза, избежав "хватки" злобы и разочарования, перестала читать Хуану нотации о том, что ему следует делать Она начала уделять больше времени своим собственным интересам и меньше — злобе и разочарованию. Хотя новое поведение Розы не служит исключением из проблемы прогуливания занятий, оно наверняка не могло быть предсказано сюжетом проблемной истории. Ее действия представляют собой уникальный эпизод или начало истории, которое может быть расширено, для того чтобы развить то направление в семейном нарративе, в котором проблема доминировала бы в меньшей степени*.
Итак, задавая вопросы о влиянии людей на жизнь проблемы, мы обнаруживаем, что в жизни людей гораздо больше историй, чем предполагается проблемой. Уникальные эпизоды или начала историй — это двери в альтернативные истории
 *В главе 8 помещено письмо, которое обучающая группа написала этой семье В него включено обсуждение этого уникального эпизода
*В главе 8 помещено письмо, которое обучающая группа написала этой семье В него включено обсуждение этого уникального эпизода
■899
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
|
|
 2015-04-30
2015-04-30 448
448








