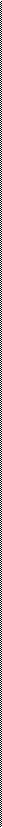 основе свободы воли бога, как это вытекало из монотеистического креационизма, или в основе этой деятельности лежит божественный разум, к-рому подчинена и его воля. Первая т. зр., приписывающая богу свойства иррационалистически истолкованной личности, была сформулирована Августином. Правда, августи-новская концепция бога, опиравшаяся на платонизм, сохраняла и известные элементы рационализма — учение об идеальных родах и видах, заключенных в божеств, уме и являющихся прототипами всех творимых им вещей и существ. Более рационалистичен был сформулированный лат. аверроистами взгляд, согласно к-рому божеств, деятельность подчиняется не произволу, а необходимости, вытекающей из божеств, разума. Отсюда следовало, что действительность как результат божеств, деятельности доступна человеческому пониманию. Крайне иррационалистич. истолкование божеств, деятельности было развито Иоанном Дунсом Скотом, а за ним и Оккамом, к-рые отрицали наличие в божеств, интеллекте каких бы то ни было общих идей и утверждали его абс. свободу. Примирить эти точки зрения — креационистское представление о божеств, деятельности и идею возможности для человека познавать ее результаты — стремился Фома Аквинский.
основе свободы воли бога, как это вытекало из монотеистического креационизма, или в основе этой деятельности лежит божественный разум, к-рому подчинена и его воля. Первая т. зр., приписывающая богу свойства иррационалистически истолкованной личности, была сформулирована Августином. Правда, августи-новская концепция бога, опиравшаяся на платонизм, сохраняла и известные элементы рационализма — учение об идеальных родах и видах, заключенных в божеств, уме и являющихся прототипами всех творимых им вещей и существ. Более рационалистичен был сформулированный лат. аверроистами взгляд, согласно к-рому божеств, деятельность подчиняется не произволу, а необходимости, вытекающей из божеств, разума. Отсюда следовало, что действительность как результат божеств, деятельности доступна человеческому пониманию. Крайне иррационалистич. истолкование божеств, деятельности было развито Иоанном Дунсом Скотом, а за ним и Оккамом, к-рые отрицали наличие в божеств, интеллекте каких бы то ни было общих идей и утверждали его абс. свободу. Примирить эти точки зрения — креационистское представление о божеств, деятельности и идею возможности для человека познавать ее результаты — стремился Фома Аквинский.
В противоположность мистикам типа Вернара Клереоского С. подчеркивала связь между верой и разумом, теологией и философией. Большое значение для развития теологич. рационализма имела диалектика — одно из семи свободных иск-в (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка), служивших подготовит, дисциплинами к изучению теологии. Диалектика понималась как совокупность логико-рациональных приемов; занятия ею приводили нек-рых схоластиков к мысли о рацион, доказуемости догматов христ. вероучения. Наиболее последовательно эта т. зр. была развита Абеляром. Она присуща и Р. Бэкону, утверждавшему, что глубина истины была первоначально открыта богом пророкам в откровении и зафиксирована в Библии, а философия должна полностью раскрыть эту истину, выраженную в символической форме.
Из рационалистич. устремлений оппозиц. схоластиков, пытавшихся защитить науч. познание природы от посягательств теологии, родилась и теория двойственной истины. Согласно варианту ее, развитому Сигером Брабантским и др. европ. аверроистами, философия с естеств. необходимостью приходит в своих утверждениях в противоречие с догматами религии. Согласно др. варианту этой теории, выраженному крупнейшим представителем шартрской школы Иоанном Солсберийским, философия и теология не могут противоречить друг другу, потому что имеют разные предметы: предмет философии — опытное познание природы, осуществляемое логико-рациональными средствами, а предмет теологии — сфера человеческого «спасения», имеющая сверхъестеств. происхождение. Из этого варианта исходили Оккам и др. номиналисты 14 в., стремившиеся к полной иррационализа-ции христ. религии и независимости от нее науч.-филос. знания. Ортодоксальной С. была неприемлема ни мистическая, ни рационалистич. позиция, как и ни один из вариантов теории двойств, истины. Фома Аквинский, считая доказуемыми одни догматы христ. вероучения и недоказуемыми другие (притом более важные, чем первые), объявил последние не протмво-разумными (как это сделал Оккам по отношению ко всем догматам), а сверхразумными, доступными лишь божеств, разуму. С т. зр. ортодоксальной С, теология, допуская относит, независимость в развитии науч.-филос. знания, должна руководить им, указывая ему его высшие цели.
Проблема общего и единичного, проходя через
всю историю С, приняла в ней форму учения об
универсалиях, в истолковании к-рых и выделились
реализм и номинализм, а также близкий к нему кон
цептуализм. В русле рассмотрения проблемы универ
салий развилась формальная логика, на почве к-рой
С. достигла значит, результатов. В. Соколов. Москва.
Схоластическая логика прошла три фазы. Первая из них —«древняя логика» (vetus logica), опиралась на «Категории» Аристотеля, Порфирия, Боэция и просуществовала до сер. 12 в. Вторая фаза — «новая логика» (logica nova), образовалась ок. середины 12 в. после знакомства с соч. Аристотеля: «Аналитики», «Топики» и «О софистических опровержениях». Третья фаза (13—14 вв.) —т. н. совр. логика (logica modernorum), началась с трактата «О свойствах терминов» («De terminorum proprietatibus»). Среди различных «Суммул», в к-рых излагалась логика этого периода, наиболее известны «Суммулы» Петра Испанского.
Схоластич. логику второй и третьей фазы можно рассматривать с т. зр. зарождения в ней нек-рых элементов математической логики (теория семантич. парадоксов Альберта Саксонского и др.), особенно в трудах Альберта фон Болынтедта, Иоанна Дунса Скота, Луллия, Оккама, Жана Буридана и др.
Уже во второй фазе схоластич. логики появился «Tractatus syncategorematicus» (трактат о синкатего-ремах, т. е. о логич. категориях), в к-ром анализировались простые и сложные функторы, относящиеся к формальной структуре предложений, такие как «но», «и», «если... то», «каждый» и т. п. К этому трактату в 14 в. присоединяются раздел «Sophismata», в к-ром рассматривали наиболее типичные ошибки, встречающиеся в рассуждениях, а также целый класс пробле-матич. высказываний. Интересны также произведения Иоанна Дунса Скота, логич. сторона к-рых была высоко оценена К. Марксом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 1, с. 33; т. 2, с. 142; т. 15, с. 400). Иоанн Дуне Скот разрабатывал теорию логич. следования, идеи к-рой способствовали появлению ряда трактатов «De obligatoriis» (об обязательствах). Схоластики заметили, что если между нек-рыми предложениями существует зависимость (напр., типа следования одного предложения из другого), то др. предложения, напротив, можно рассматривать как независимые. Одна из целей, преследуемых авторами этих трактатов, состояла в выяснении логич. условий, при к-рых утверждение или отрицание нек-рого предложения является своего рода обязательством. Понятие obligatio определяется как формулировка защищаемой системы утверждений т. обр., чтобы из них не следовало ничего невозможного, т. е., говоря совр. языком, чтобы принимаемая система утверждений удовлетворяла критерию непротиворечивости. Пови-димому, трактаты на тему «de obligatoriis» можно рассматривать как нек-рый прообраз характерных для нового времени аксиоматико-дедуктивных исследований.
Осн. направление исследований логиков-номиналистов переносится на трактаты «de consequentiis» и «de insolubiliis», к-рые рассматриваются в качестве существ, дополнения не только к аристотелевой логике, но и к компендиуму Петра Испанского (разрабатывавшего вопросы силлогистики и теории суппо-зиции, т. е. допустимых подстановок значений терминов). Истоки тематики «de consequentiis» сами схоластики искали в 3-й кн. «Топики», где Аристотель обращает внимание на существование таких условных заключений, в к-рых от утверждения об одном предмете приходят к утверждению обо всех др. предметах того же рода. Если у Аристотеля они заимствовали идею формальной импликации, то с начатками теории материальной импликации они знакомились в
СХОЛАСТИКА—СЦИЕНТИЗМ
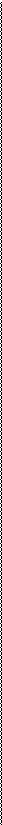 основном по трудам Ибн Сины, Фараби, Газали, Ибн Рошда.
основном по трудам Ибн Сины, Фараби, Газали, Ибн Рошда.
Примечательны широкий размах логич. исследований в ср. века и огромные размеры (даже по совр. масштабам) логич. компендиумов. Так, напр., в труде П. Николетта из Венеции «Logica Magna» (14 в.) содержалось ок. 3 млн. 650 тыс. знаков, т. е. ок. 90 авт. листов. Следует особо выделить аверроиста из Удлино Николетта Паулюса, к-рый с 1390 обучался в Оксфорде. Он написал обширные комментарии ко всем основным филос. и логич. произведениям Аристотеля.
Причинами, приведшими к теоретич. дискредитации схоластич. логики в эпоху Возрождения, явилось отсутствие плодотворных связей схоластиков с естествознанием, проявившееся, в частности, в недооценке проблематики индуктивной логики и методологии. Мн. гуманистам схоластич. логика неоправданно казалась неотъемлемо связанной со схоластич. мировоззрением в целом.
К концу ср. веков существовали три осн. логич. школы: перипатетики (школа, берущая свое начало от Петра Испанского), рамисты (последователи Раме), луллисты (последователи Луллия). Логические идеи Луллия полностью разделялись Бруно. В логич. школе Луллия ряд положений логики высказываний постепенно оформляется в специальный отдел под названием «axiomatica», предпосылаемый силлогистике.
В отличие от предшествующих ей систем логики, С. сделала попытку выявить логич. закономерности на базе общих законов и правил лат. языка и учесть все богатство семантич. и синтаксич. функций естеств. языка. При этом схоластики отдавали приоритет семантике, под углом зрения к-рой исследовались проблемы синтаксич. характера. От современной формальной логики схоластич. логика отличалась тем, что у схоластиков не было еще точного представления о формальной логич. системе и ее специфич. проблемах, как, напр., разрешимости, полноте и др.
Логич. достижения средневековья оказались за
бытыми в логике нового времени, т. к. не могли по
лучить в свое время дальнейшего развития. Схола
стич. логика не смогла перешагнуть рубеж, достиг
нутый с появлением «Logica Magna» Николетта из
Венеции, поскольку она не могла найти обобщающий
алгоритм, к-рый дал бы возможность закрепить до
стигнутое И ИДТИ дальше. Н. Стяжкин. Москва.
Для схоластич. этик и характерны трансцен
дентное истолкование моральных норм как исходя
щих от бога (к натуралистнч. истолкованию их от
части приближался Абеляр), аскетизм. Одной из оп
ределяющих черт С. был авторитаризм, отражавший
абс. силу религ. догматики и церк. традиции и гар
монировавший с социально-экономич. и духовно-пде-
ологич. жизнью этой эпохи. Филос. авторитетами стали
и антич. философы, в особенности Аристотель — в то
мизме. Авторитаризму С. соответствовала ее умозри
тельность, слабые связи с опытно-экспериментальным
исследованием природы, к-рое почти отсутствовало
в эпоху европ. средневековья, ее формализм, связан
ный с тем, что С. занималась лишь систематизацией
теологич. «истин». Но это же способствовало развитию
логики, стремлению к систематичности и доказатель
ности мышления.
С. занималась также вопросами природы души (в особенности ее бессмертия и ее связи с телом), способностей души и их роли в познании, свободы человеческой воли и ее отношения к божеств, промыслу. Предметом постоянного обсуждения в С. были такие догматы христианского вероучения, как троица, предопределение, сотворение мира из ничего, первородный грех и воздаяние, часто перераставшие в проб-
лему свободы воли и решавшиеся в противоречии с догматич. учением, воскресение, пресуществление и др.
Оттесненная прогрессивными бурж. учениями и концепциями С. начиная со 2-й пол. 16 в. влачила жалкое существование в виде неосхоластики. Новой формой С. стал в 19 в. неотомизм.
Лит.: В л а д и с л а в л е в М. И., Схоластическая ло
гика, «Журн. Мин-ва нар. просвещения», 1872, ч. 162, [Я» 8],
отд. 2; Э й к е н Г., История и система ср.-век. миросозерца
ния, пер. с нем., СПБ, 1907; III т е к л ь А., История ср.-век.
философии, пер. [с нем.], М., 1912; История философии, т. 1,
М., 1957, с. 282—89; 292—96; Трахтенберг О. В.,
Очерки по истории зап.-европ. ср.-век. философии, М., 1957;
Л е й Г., Очерк истории ср.-век. материализма, пер. с нем.,
М., 1962; Гри го рьян С. Н., Ср.-век. философия наро
дов Ближнего и Среднего Востока, М., 1966; Стяжкин
Н. И., Формирование математич. логики. М., 1967; Иако
ве л ь с к и й А. О., История логики, М., 1967; Hail-
гёаи В., Histoire de la philosophie scolastique, t. 1—2. P.,
1872—80; Dempf A., Die Hauptforra mittelalterlicher
Weltanschauung, Munch.—В., 1925; Wul f M. de. Histoire
de la philosophie medievale, 6 ed., t. 1—3, Louvain, 1934—47;
Gilson E., L'esprit de la philosophie medievale, 2 ed.,
P., 1944; его же, History of Christian philosophy in the
Middle Ages, N.Y., [1955]; его же, Introduction a la phi
losophie chretienne, P., 1960; Taylor H. O., The mediaeval
mind, 4 ed., v. 1—2, Camb., 1949; Copleston F., A
history of philosophy, v. 2—3, L., 1951 — 53; В о e h n e r P.,
Medieval logic, [Manchester, 1952]; Prantl C, Geschichte
der Logik im Abendlande, Bd 1—4, Graz, 1955; Geyer В.,
Die patristische und scholastische Philosophie, Stuttg., 1956;
Bocheriski I. M., Formale Logik, Freiburg—Munch.,
[1956]; Grabmann M., Die Geschichte der scholastischen
Methode, Bd 1—2, В., 1957. См. также лит. при ст. Неосхолас-
тпипа и Фома Аквинский. В. Соколов. Москва.
СЦИЕНТИЗМ (от лат. scientia — знание, наука) — социально-культурная позиция, в целом представляющая собой убеждение в том, что конкретно-науч. знание в наличной совокупности его результатов и способов получения является наивысшей культурной ценностью и достаточным условием мировоззренч. ориентации человека. Возникновение сциентистской ориентации становится возможным тогда, когда мировоззренч. выводы, делаемые непосредственно из конкретно-науч. знания, начинают заметно отличаться от аналогичных выводов, получаемых путем умозрительного филос. рассуждения в духе традиц. «метафизики», к-рая не прибегает к данным науки как к решающему аргументу. Применительно к философии и ее проблематике позиция С. состоит в том, что философия должна ориентироваться на тот или иной тип мышления, к-рый сложился в конкретной науке.
Как осознанная филос. позиция С. складывается в философии конца 19 — нач. 20 вв., когда развитие науки превращает ее в важнейший фактор обществ, жизни н со всей остротой ставит вопрос о роли и месте науки в системе культуры. В этих условиях и возникают С. как позиция, абсолютизирующая роль науки в составе мировоззрения, и в то же время — различные формы антисциентизма, стремящиеся подчеркнуть ограниченность возможностей науки и в нек-рых случаях рассматривающие науку и ее развитие как нечто чуждое и враждебное подлинной сущности человека. Особую актуальность споры вокруг С. приобретают в условиях совр. науч.-технич. революции, когда развитие науки открывает новые возможности в познании и преобразовании мира, а вместе с тем исключительно острой и ответственной становится проблема социальных последствий применения науки. В ряде направлений бурж. философии и в ревизионистских концепциях, претендующих на защиту гуманистич. принципов, со С. связывается вообще всякое последо-ват. проведение науч. подхода к философии и ее проблемам. В этой связи упреки в С. бросаются и в адрес марксизма-ленинизма. Подобные упреки беспочвенны уже потому, что научность марксистско-ленинской философии не имеет ничего общего с плоским С, игнорирующим сложную проблематику, связанную с местом и функциями науки в системе культуры, с отношением науки и практики, конкретно-науч.
174 СЦИЕНТИЗМ
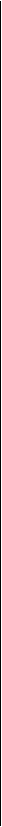 мышления и филос. мировоззрения. Твердо отстаивая принципы науч. подхода к любой проблематике, марксизм-ленинизм в то же время учитывает специфику теоретич. анализа филос.-мировоэзренч. проблем по сравнению с теоретическим мышлением в конкретных науках.
мышления и филос. мировоззрения. Твердо отстаивая принципы науч. подхода к любой проблематике, марксизм-ленинизм в то же время учитывает специфику теоретич. анализа филос.-мировоэзренч. проблем по сравнению с теоретическим мышлением в конкретных науках.
Хотя оформление С. как осознанной филос. ориентации характерно для новейшей философии, его истоки восходят к возникающему в новое время столкновению двух типов мышления — умозрительно-философского и конкретно-научного. В самой философии это выразилось, в частности, в появлении учений, четко и последовательно ориентирующихся на науч. мышление своего времени (Ф. Бэкон и др. представители англ. материалистич. эмпиризма, франц. материалисты). Имплицитно заложенные здесь постулаты С. поставили под сомнение Декарт и особенно Кант. Различив чистый и практич. разум, Кант впервые отчетливо указывает на различие норм, регулирующих каждый из этих двух типов мышления. Анализ норм георетич. познания и деятельности практич. разума тесно связан у Канта с попытками выявить снецифнч. пределы мысли, полагаемые соответствующими типами норм постижения действительности. Переведя проблему из сферы гносеологии и методологии познания в более широкую сферу принципов отношения человека к окружающему миру, кантовская философия заложила основания для всех последующих постановок вопроса о том, каков наиболее высокий тип отношения человека к действительности. При этом дуализм системы Канта оставил почву для диаметрально противоположных решений, и в этом смысле из кантианства можно в равной мере выводить как С, так и антисциентизм.
Фихте и Шеллинг отказываются от кантовского плюрализма и отдают приоритет, соответственно, этическому и эстетич. способам обоснования позиции человека. Гегель попытался снять кантовское противопоставление в единой системе, к-рая ориентирована на науч. способ построения знания, но не привязана к существующим нормам конкретно-науч. мышления, а напротив, предполагает их преодоление и построение принципиально новой логики. Это не позволяет рассматривать Гегеля как одного из предшественников С.
Для всех крупных фплос. направлений конца 19 — нач. 20 вв. характерна проблематика, выражающая борьбу С. и антисциентизма, причем иногда это обнаруживается в противоречивости внутр. тенденций соответствующей филос. школы (неокантианство, прагматизм). Так, для неокантианцев марбургской школы ключ к филос. осмыслению культуры лежит в раскрытии логнч. оснований науки; с др. стороны, они ставят вопрос об основаниях самого факта науки в области, запредельной естеств.-науч. опыту, и приходят в конечном счете к телеологич. примату этич. начала, моральной цели, идеи блага, не говоря уже о прямом обращении к религии и метафизике в поздних работах представителей этой школы. Ограниченность позиции С. была продемонстрирована в позитивизме и нашла наиболее резкое выражение в неопозитивизме. Именно здесь естеств.-науч. знание, трактуемое в духе узкого эмпиризма и феноменализма, было объявлено эталоном всякого знания, а способы и нормы его получения — имеющими единственно объективное значение. Последоват. ограничение сферы этого эталона и стремление вычленить его в наиболее чистом виде породило концепцию физикализ-ма — попыток построить все познание по образцу физики. И хотя эти попытки с очевидностью обнаружили свою несостоятельность даже в глазах неопозитивистов, отказ от редукционизма не привел их к отказу от С, к-рый лишь вновь принял менее жест-
кий и ультимативный характер. Аналогичные тенденции сциентистского редукционизма проявляются в понимании природы человеч. психики (бихевиоризм, классич. фрейдизм, физпологизм в психологии). Специфич. формы С. имеют место также в области социального знания.
Защитниками антисциентизма в новейшей европ. философии являются русский «конкретный» идеализм, философия жизни, экзистенциализм и персонализм. При довольно значит, различиях в подходе и аргументации — от умеренного аитисциентнзма, связанного, напр., с отстаиванием независимости ценностного подхода, до открытого иррационализма и мистики— эти филос. системы объединяет непризнание ими всеобщности естественнонауч. мышления и его норм. Антисциентизм как таковой не тождествен иррационализму и интуитивизму, хотя, конечно, в нем заложены возможности их развития. Для крайних форм антисциентизма (Ницше, Хайдеггер, Ортега-и-Га-сет, Бердяев и др.) характерно стремление рассматривать действительность с позиции человека, трагически борющегося с враждебно противостоящим ему миром, причем среди этих враждебных сил находится и наука. В соответствии с этим самым высоким типом отношения к действительности признается религиозное или нравств. отношение.
В русле борьбы С. и антисциентизма различие спекулятивно-философского и конкретно-науч. мышления приняло характер противоположности, когда обе стороны рассматривают по сути дела одну и ту же систему принципиальных положений, но с противоположными акспологич. знаками; при этом на обоих полюсах фактически признается, что науч. методы недостаточны для решения коренных проблем человеч. бытия.
В вопросе об отношении филос. сознания и науч. мышления марксизм-ленинизм исходит из тезиса о научности мировоззрения и решительно отвергает антпсциентистское принижение роли науки. Последовательность и действенность марксистского гуманизма коренится в выявлении средств преобразования социального мира всецело на путях науч. познания. Вместе с тем, рассматривая науку как один из решающих факторов обществ, прогресса, марксизм-ленинизм отнюдь не отрицает существ, значения др. форм культуры. Суть позиции диалектич. материализма в этом вопросе наиболее полно и точно раскрывается в марксистском учении о практике как основании всех форм человеч. бытия.
Т. о., за С. и антисциентизмом стоит более широкая проблема определения специфики разных типов элементов культуры с т. зр. пх формирования и получения, их роли в обществ, процессах.
Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3; Проблемы идеализма, М., 1902; Риккерт Г., Границы естеств.-науч. образования понятий, СПБ, 1903; его же, Философия жизни, П., 1922; Виндельбанд В., Прелюдии, пер. с нем., СПБ, 1904; Гуссерль Э., Философия как строгая наука, «Логос», 1911, кн. 1; Наторп П., Кант и марбургская школа, в сб.: Новые идеи в философии, сб. 5, СПБ, 1913; Вышеславцев Б., Этика Фихте, М., 1914; Бергсон А., Творческая эволюция, пер. с франц., М.— СПБ, 1914; Витгенштейн Л., Логико-филос. трактат, пер. с нем., М., 1958; Франк Ф., Философия науки, пер. с англ., М., 1960; Гайденко П. П., Экзистенциализм и проблема культуры, М., 1963; ее же, Трагедия эстетизма, М., 1970; Мамардашвили М. К., К проблеме метода истории философии, «ВФ», 1965, Да 6; К а к а-бадзе 3. М., Проблема «экзистенциального кризиса» и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля, Тб., 1966; Соловьев Э. Ю., Экзистенциализм и науч. познание, М., 1966; М о т р о ш и л о в а Ы. В., Принципы и противоречия феноменологич. философии, М.. 1968; Копнпн П. В., О природе и особенностях филос. знания, «ВФ», 1969, N'. 4; О й з е р м а н Т. И., Проблемы историко-филос. науки, М., 1969; Ш в ы р е в B.C., Юдин Э.Г., О так наз. сциентизме в философии, «ВФ», 1969, Лч 8; С а г n a p R., Die Uberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Spraclie, «Erkenntnis», 1931, Bd 2, H. 4; Jaspers K., Priilosophie und Wissenscliaft, Z., 1949; Heidegger M.„
СЦИЕНТИЗМ — СЧАСТЬЕ 175
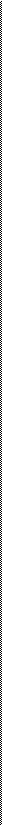 Einfiihrimg in die Metaphysik, Tub., 1953; Garaudy R.,
Einfiihrimg in die Metaphysik, Tub., 1953; Garaudy R.,
Perspectives de l'homme, P., 1959; D i 1 t h e у W., Einleit-
ung in die Geisteswissenschaften, 4 Aufl., Stuttg., [1959];
Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique, P., 1960;
Natanson M., Literature, philosophy and the social sci
ences, The Hague, 1962. В. Швырев, д. Юдип. Москва.
СЦИЕНТИЗМ (в социологии) —направление
в бурж. социологии 19—20 вв., представители к-рого
ориентируют социологич. исследование и соцноло-
гич. теорию на задачи и методологию естеств. наук.
С. является одним из интегральных элементов кон
цепций Конта, Спенсера и др. Первый этап С. харак
теризуется разработкой натуралистически-эволюци
онистских концепций обществ, процессов (Спенсер,
Тард, Гумплович, Уорд). Основой С. на этом этапе
выступает размежевание социального знания и
философии, стремление превратить социологию в по
зитивную науку. Второй этап в развитии С. наступает
с 20-х гг. 20 в. в итоге развития социологии как эмпи-
рич. знания. Программа «сциентистской» социологии,
сформулированная в 30-х гг. «социологич. неопозити
визмом» (Дж. Ландберг) в США, включает оппозицию
социологам-эволюционистам 19 — нач. 20 вв. Специф.
чертой современной «сциентистской» социологии явля
ется акцент на прикладной, социально-инженерной
функции социального знания. Согласно взглядам
совр. «сциентистов»: 1) социолог не определяет цели
и проблемы исследования — это решает «руковод
ство» обществом, 2) «руководство» получает из рук
социологов «орудия» (т. е. данные, рекомендации,
советы), к-рые оно может по своему усмотрению при
менять или не применять и если применять, то в лю
бом направлении, 3) для выработки этих рекоменда
ций социология должна отрешиться от филос. взгля
да на общество и от самостоят, определения тенден
ций обществ, развития. Это прагматич. понимание
социальной функции науки связывается с местом,
к-рое она занимает в системе социальных отношений.
Гл. достижение своей дисциплины сторонники С. ус
матривают в том, что она стала на путь разработки
способов частичной рационализации капиталистич.
общества в области произ-ва, быта, политики и пре
доставляет в распоряжение монополистов и полити
ков информацию, необходимую для смягчения проти
воречий и конфликтов (преступность, расовая ди
скриминация, безработица и т. д.). Социология, по
следовательно и безотказно выполняющая заказы
«руководства» (что якобы тождественно удовлетворе
нию потребностей общества в целом), становится,
согласно С, силой научного развития общества. Кон
цепция С. в социологии тесно связана с бурж. утопич.
теориями «научно организованного» общества, в к-рых
тенденции роста бюрократии, организованности совр.
капитализма выдаются за процесс ликвидации сти
хийности и формирование «нового типа» общества.
Ряд либеральных социологов критикует программу С.
как консервативную социальную утопию, миф.
Р. Миллс, У. Уайт и др. характеризуют С. как обы
денное представление бурж. социального ученого,
выступающего в 20 в. в роли винтика монополистич.
орг-ций и ищущего идеологич. оправдание своего по
ложения и выполняемых им задач. В то же время С.
подвергается критике с позиций иррационализма
(Хайек). «Сциентистское» мировоззрение во многом
является своего рода ширмой, за к-рую прячется
бурж. интеллигент перед лицом социальных проблем,
оправданием аполитичности.
Лит.: Новиков Н. В., О «сайентистской» тенденции в совр. бурж. социологии, в сб.: Социальные исследования, М.. 1965; Z n a n i е с k i P., The method of sociology, N.Y., 1934; Lun db erg G. A., Foundations ol sociology, N.Y., 1939; его же, Can science save us?, N.Y.—L.—Toronto, 1961; Hayek F. A., The counter-revolution of science, Glencoe (111.), 1952; Lund berg G. A., S с h r a g С. С, L a r s e n O. N.. Sociology..., N.Y.—L., 1954; Knox J. В., The sociology of industrial relations, N.Y.. 11955]; White W. H., The organization man, N.Y., 1956; Mills Ch.
Wr., The sociological imagination, N.Y., 1959; An outline
of man's knowledge of the modern world, ed. by L. Bryson,
N.Y., [I960]; Gel la A.. Ewolucjonizm, a pocz^tki socjolo-
gii, Wr.—Warsz.—Kr., 1966. H. Новиков. Москва.
СЧАСТЬЕ — переживание полноты бытия, связанное с самоосуществлением.
Первонач. значение слова С.— удача, благоприятная участь (ср. этимологию этого слова: др.-греч. e66atp-OVta, букв.— покровительство богов, а также в рус. яз.: «с-частье», т. е. «часть», «участь», «доля»), в дальнейшем расширилось — эвдемония стала означать способность к переживанию, чувство С, в отличие от эвтихии, обозначающей благоприятствие обстоятельств и благосклонность судьбы. С. оказалось одним из осн. принципов антич. миропонимания и ряда учений нового времени (см. Эвдемонизм, Эпикуреизм).
С субъективной стороны С. всегда выражает стремление к переживанию, жажду ощущать бытие, способность к постоянному напряжению душевных сил. Напротив, представление об идеале жизни как об отсутствии всякого переживания (атараксия, нирвана) свидетельствует об ослаблении жизненного начала, омертвении или усталости (о противоположности С. идеалу стоической невозмутимости см. у Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля» — «Я думал: вольность и покой замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан...»). Способность к С, как и способность к «продолжительному страданию» (Камю), выражает глубину личности. С. как подъем жизненной и творч. энергии — свидетель верности жизненной истине. Связанное с творч. духом (будучи беспрерывным творчеством жизненных состояний, способствующим созидат. деятельности) С. противоположно тому состоянию безразличия и вялости, к-рое так характерно для застойности внутр. сил, подавленности человеч. потенций. Как творч. стихия С. есть осуществление внутр. свободы, глубочайшего личного «хотения». Установка на отказ от С. есть предательство личности, заглушение в себе животворных истоков. Существование, превращенное в долг, оказывается истощением и профанацией жизни; отказ от переживания бытия как смысла и блага приводит к внутр. опустошению. Именно в результате жизненных подтасовок и извращенного способа существования, связанного с духовной немощью личности, С. подменяется императивом, игра жизненных сил — функционированием, внутр. волевой импульс — гипнозом дела или инерцией хозяйственных хлопот.
Утрата способности к С.— показатель деградации личности, душевного хаоса, бессилия найти главную линию в жизни. Бессчастное существование характерно для неврастенич. богемы и для духовного мещанства, неспособного к концентрации личности, к жизненному стилю, не озабоченному гарантированием обеспеченной повседневности. Мещанский мир растекается в вещности, в обладании вещами («мещанское счастье» — это метафора, означающая лишь опред. штамп благополучия). Отделенное от подлинного смысла и личного достоинства, С. превращается в удовольствие и теряет свою преобразующую, сублимирующую силу. Психология потребительства нашла свое выражение в концепциях гедонизма и утилитаризма.
С. живет только в обмене, в передаче от одного к другому. Им нельзя владеть как домом или поместьем, обособившись от всех. Достоевский писал: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может н сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями»
СЫМА ЦЯНЬ—СЮНЬ-ЦЗЫ
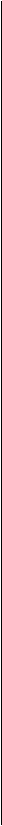 (Собр. соч., т. 4, 1956, с. 107). Существующее в общении С. и есть само общение, отдача себя, т. е. любовь, поэтому предмет, с к-рым связано С, никогда не вещь, но всегда лицо.
(Собр. соч., т. 4, 1956, с. 107). Существующее в общении С. и есть само общение, отдача себя, т. е. любовь, поэтому предмет, с к-рым связано С, никогда не вещь, но всегда лицо.
Поскольку С. зависит от внешнего мира, от внешнего субъекту бытия, оно может оказаться и недостижимым. С. невозможно без того, чтобы все силы души находили себе применение и выражение, чтобы у личности была возможность «протратиться» (см. М. Цветаева, в журн.: «Новый мир», 1969, № 4, с. 195). Отсутствие ситуации, соответствующей по напряжению личности, а потому необходимой для полного ее самовыражения, отсутствие ответного понимания, разделенностп создает ощущение трагизма. Т. о., С. предполагает готовность к страданию (в то время как установка на удовольствие, сопряженное с возможным неудовольствием, с мелкими неприятностями, не требует никакого мужества). В неизбывности тоски, вызываемой одним представлением об утере того единственного, избранного, что сообщает смысл существованию, это единственное противополагается мизерности всего остального жизненного контекста: «... Нет невзгод, а есть одна беда...» (Шекспир В., Сонеты, М., 1963. с. 108).
В подлинном С. воплощается не только замысел личности о жизни, но и как бы замысел о жизни личности (внутр. идея личности, в отличие от наркотической иллюзии — суррогата С). С этой т. зр., возможно полное преодоление трагич. отчаяния как осуществление внутр. идеи вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам и посредством сублимации страдания.
Классики марксизма подвергли критике индивидуа-листич. представления о С, стремление к нему в отрыве от обществ, целей: именно сознательное служение обществ, прогрессу, революц. борьбе за переустройство общества, за лучшее будущее всего человечества наполняют человека тем смыслом и дают ему то глубокое удовлетворение, без к-рого немыслимо ощущение С. Т. о., революц. этика марксизма связывает представления о С. с борьбой (см. также К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2изд., т. 31, с. 492).
Лит. см. при ст. Эвдемонизм. Т. Маринина. Москва.
СЫМА ЦЯНЬ (прибл. 145—86 до н. э.) — кит.
историк, один из представителей теории историч. круговорота (см. Круговорота исторического теория). В своем осн. соч. «Историч. записки» (34, т. 1—3, Пекин, 1955) С. Ц. подытожил развитие кит. государственности и культуры за предшеств. эпохи; он первым из кит. историографов изложил основы учений и биографии др.-кит. философов: Конфуция, Шан Яна, Мэн-цзы, Ханъ Фэй и др. Считая, что движение истории происходит по кругу, С. Ц. развивает мысль, что каждая династия воплощает в себе определенное положит, качество, доведение к-рого до крайности приводит в конечном счете династию к краху. В «Исторических записках» дается принадлежащая отцу С. Ц. историку Сыма Таню первая классификация фи-лос. направлений в Китае — разделение на сторонников школы инь и янъ, конфуцианцев, моистов, леги-стов (фацзя), логиков (минцзя) и даосов,—на основе к-рой обычно до сих пор строится изложение истории др.-кит. философии.
Соч.: Шицзи (Историч. записки), т. 1—3, Пекин, 1955; Les memoires historiques de Se-Ma Ts'ien, trad, et armot.
B. Chavannes, v. 1—5, P., 1895—1905; Records of the grand
historian of China, v. 1—2, N.Y.—L., 1961; рус. пер.— Изб
ранное, M., 1956.
Лит.: Конрад Н. И., Полибий и Сыма Цянь, в его кн.: Запад и Восток, М., 1966, с. 54—88; К р о л ь Ю. Л.,
C. Ц. — историк, М., 1970; Watson В., Ssu-ma Ch'ien,
grand historian of China, N. Y., 1958. В. Рубин. Москва.
СЮАНЬСЮЭ (букв.— учение о сокровенном, таинственном) — идеалистич. направление в истории кит.
философии 3—4 вв. н. э. Иногда термин «С.» переводят как неодаосизм. Наиболее известные представители этого филос. направления — Ван Би, Сян Сю, Хэ Янь, Го Сян широко использовали концепции и представления конфуцианской «Книги перемен» («И цзин») (см. Конфуций) и особенно даоских трактатов «Лао-цзы» (см. Лао-цзы) и «Чжуан-цзы». Эти произведения носили название «сань сюань» (три сокровенных книги). Гл. вопросом для мыслителей С. являлась проблема соотношения бытия и небытия. Ее первая постановка принадлежит Лао-цзы, к-рый говорил, что в мире все вещи рождаются в бытие, а бытие рождается в небытие. Для Чжуан-цзы бытие и небытие — понятия относительные; Хэ Янь и Ван Би основой мира считали небытие. Противоположного мнения придерживался Го Сян. Представители школы С. придавали большое значение термину дао (Путь), отождествляя дао с небытием, пустотой. Согласно их учению, покой — основа движения, а небытие — основа бытия; поэтому они утверждали, что покой абсолютен, движение — относительно, небытие — первично, а бытие — вторично. Термин «С.» употребляется и как определение метафизики, идеализма. Ф- Быков. Москва.
СЮНЬ-ЦЗЫ (прибл. 298—238 до и. э.) — кит. философ конфуцианской школы; его трактат «Сюнь-цзы»— первое систематич. изложение конфуцианской философии.
В отличие от Конфуция и Мэн-цзы, у к-рых небо выступает божеств, началом, С.-ц. интерпретирует его материалистически, как природу, не имеющую отношения к человеческим делам, не карающую за зло и не вознаграждающую за добро. Характерный для С.-ц. антропоцентризм и гуманистич. пафос послужили одной из основ конфуцианского гуманизма: «У воды и огня есть энергия, но нет жизни; у трав и деревьев есть жизнь, но нет сознания; у птиц и животных есть сознание, но нет чувства долга. У человека есть энергия, жизнь, сознание и сверх того чувство долга. Поэтому он — благороднейшее создание в Поднебесной» (гл. 9 трактата «Сюнь-цзы»). Вместе с тем, являясь первым конфуцианцем, участвовавшим в управлении (был правителем уезда), С.-ц. так переставляет акценты в раннеконфуцианской политич. теории, что она, в значит, мере утратив мотивы социального протеста (особенно характерные для Мэн-цзы), приобретает ряд черт, типичных для идеологии правящих кругов. В то время как центральным этич. понятием Конфуция и Мэн-цзы была гуманность (жэнъ), у С.-ц. на первое место выступает понятие «ли», к-рое означает у него не только правила поведения, но и социальный порядок, понятый как иерархия. Необходимость такого порядка С.-ц. обосновывает как космология, параллелями («небо — наверху, земля — внизу»), так и тем, что без него люди, стремясь удовлетворить свои потребности, вступили бы друг с другом в борьбу за материальные блага, и возникший в результате этого хаос привел бы ко всеобщему обнищанию. В противоположность Мэн-цзы, выставившему тезис, что человек по природе добр. С.-ц. доказывал, что человек по природе зол, но может преодолеть свои дурные задатки при условии повиновения учителям и работая над собой. Это разногласие с Мэн-цзы является причиной того, что трактат «Сюнь-цзы» не входит в конфуцианский канон.
Соч.: Сюнь-цзы цзи цзе («Сюнь-цзы» со сводом комментариев Ван Сянь-цяня), в кн.: Чжу цзы цзичэн (Собр. соч. др.-кит. мыслителей), т. 2, Пекин, 1957; The works of Hsuntze, transl. by H. H. Dubs, L., 1928.
Лит.: Го М о - ж о, Философы Др. Китая, пер. с кит., М., 1961, с. 302—62; Ян Ю н - г о, История др.-кит. идеологии, пер. с кит., М., 1957, с. -376—99; Хоу В а й-л у [и др.], Чжунго сысян тунши (История кит. идеологий), т. 1, Пекин, 1957, с. 529—88; Dubs H. H., Hsuntze, the moulder of ancient Confucianism, L., 1927; Fung Yu-lan, A history of Chinese philosophy, v. 1, Princeton, 1952, p. 279—311.
В. Рубин. Москва.
т
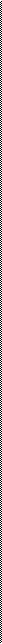 ТАБУ — категорический запрет на религиозной основе. Термин взят из полинезийских языков и был впервые отмечен англ. путешественником Куком на о-вах Тонга (1771), где, как и вообще в Океании, имелась чрезвычайно развитая система Т. Позднее сходные представления были обнаружены в др. частях света (вакара у индейцев племени дакота и др.). В Т. соединены два понятия — священного и запретного, неприкасаемого. Т. могут относиться как к отд. лицам, так и к обществ, группам в целом. Сфера применения термина в связи с отсутствием разработанной теории Т. неясна; во всяком случае следует отличать от Т. религ.-моральные запреты в развитых религиях как более сложные образования.
ТАБУ — категорический запрет на религиозной основе. Термин взят из полинезийских языков и был впервые отмечен англ. путешественником Куком на о-вах Тонга (1771), где, как и вообще в Океании, имелась чрезвычайно развитая система Т. Позднее сходные представления были обнаружены в др. частях света (вакара у индейцев племени дакота и др.). В Т. соединены два понятия — священного и запретного, неприкасаемого. Т. могут относиться как к отд. лицам, так и к обществ, группам в целом. Сфера применения термина в связи с отсутствием разработанной теории Т. неясна; во всяком случае следует отличать от Т. религ.-моральные запреты в развитых религиях как более сложные образования.
Широкую классификацию табуированных вещей а действий дал Фрейзер («Золотая ветвь», пер. с франц., вып. 2, М., 1928). Фрейзер, противопоставляя религию я магию, рассматривал Т. как вторую, негативную форму магии, отличную от позитивной магии и связанную с запретом. Фрейд («Тотем и табу», W.— Lpz., 1913, рус. пер., М.— П., 1923) видит в Т. внешнее выражение амбивалентной позиции по отношению к вождям или лидерам группы, при к-ром бессознательная (вытесненная) ненависть к социальному лидеру сталкивается с сознат. запретом. В результате возникает компромиссное образование, по своей структуре аналогичное неврозу. Амбивалентное отношение к лидеру переносится на его субституты (первый из них — тотемное животное), выполняя таким образом охранит, социальные функции. Однако пспхологич. теория Т., данная Фрейдом, не способна охватить все явления Т., т. к. нередко влечение к нарушению Т. может быть вполне осознанным (напр., при пищевых Т.). В социальной антропологии (Малиновский, Рад-клпфф-Браун и др.) Т. рассматривается как часть общей системы социального контроля, при к-рой даже чисто иррациональные и внешне абсурдные Т. несут регулятивные социальные функции. Однако эта теория не объясняет происхождение конкретных Т., и здесь возникает вопрос о связи Т. с древнейшими кодексами законов и истоками морали.
Проблемам Т. посвящены работы сов. ученых Д. К. Зеленина («Табу слов у народов Вост. Европы и Сев. Азии», ч. 1, Л., 1929), рассматривающего связь Т. с развитием языка через возникновение слов-заменителей и развитие синонимия, рядов, и С. А. Токарева, анализирующего социальные корни Т. («Ранние формы религии и их развитие», М., 1964).
Лит.: Штернберг Л. Я., Первобытная религия в свете этнографии, Л., 1936; В го wn A. R. R., Taboo, L., 1939; Webster H., Taboo. A sociological study, L., 1942; Steincr F., Taboo, L., 1956.
Д. Ляликов, С. Токарев. Москва.
TABULA RASA (лат.— гладкая, чистая доска для письма) — термин сенсуализма, означающий состояние сознания человека, еще не располагающего никакими знаниями, поскольку он не обладает внешним чувств, опытом (напр., новорожденный). Это понятие
появилось еще в антич. философии — у Платона (Theaet. 191с; рус. пер., М.— Л., 1936) и у Аристотеля (De An., 429в— 430а; рус. пер., М., 1937), в стоицизме; термин встречается в различных значениях у Альберта фон Болъштедта, Фомы Аквинского и др. У Гоббса и Гассенди можно встретить сравнение человеческого сознания с «доской», на к-рую опыт наносит свои знаки. Широкую известность термин получил после Локка, к-рый употребил его в авторизов. лат. переводе «Опыта о человеческом разуме» (кн. II, гл. 1, § 2). В англ. подлиннике «Опыта» этому термину соответствуют выражения «пустая комната» (empty cabinet) и «чистый лист белой бумаги» (white paper). Этим термином Локк оперировал, критикуя теорию врожденных идей. Лейбниц выступил с критикой учения о Т. R. и утверждал наличие в человеч. сознании врожденных потенций знания, добавив к формуле Гассенди и Локка: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu (нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах) оговорку: nisi ipse intellectus (кроме самого разума) (см. «Опыт о человеч. разуме», в кн.: Избр. фплос. произв., т. 1, М., 1960, с. 128).
И. Нарский. Москва. ТАВАДЗЕ, Илья Кайсарович (р. 26 дек. 1905) — сов. философ, д-р филос. наук (с 1964), профессор. Заслуженный деятель науки Груз. ССР. Член КПСС с 1931. Окончил Моск. педагогич. ин-т им. В. И. Ленина и аспирантуру МИФЛИ (1934). Преподавал философию в вузах Москвы и Тбилиси. С 1955 — ректор груз. Гос. театрального ин-та. Область науч. исследований — проблемы материалпстич. диалектики и эстетики.
С оч.: В. И. Ленин «О науке логики» Гегеля, Тб., 1959 (совм. с Г. М. Каландаришвили); О категориях материалистич. диалектики, «Тр. Ин-та философии АН Груз. ССР», 1957, Л» 7 (на груз, яз.); К вопросу о воспитании художественного вкуса, Тб., 1961 (на груз, яз.); Проблема прекрасного в домарксистской истории эстетики, Тб., 1962 (на груз. яз.).
ТАВАНЁЦ, Петр Васильевич (р. 10 июля 1911) — сов. философ, д-р филос. наук (с 1956), профессор (с 1962). Член КПСС с 1945. Зав. сектором логики (с 1961) Ин-та философии АН СССР. Работы Т. посвящены гл. обр. фплос. вопросам формальной логики и проблемам логики науч. познания.
С оч.: Суждение и его виды, М., 1953; Вопросы теории суждения, М., 1955; Логика, М., 1956 (соавтор); О так называемом тавтологич. характере логики, «ВФ», 1957, № 2; Нек-рые проблемы логики науч. познания, там же, 1962, № 10 (совм. с В. С. Швыревым);'Филос. вопросы совр. формальной логики, М., 1962 (редактор и соавтор); Проблемы логики науч. познания, М., 1964 (редактор и соавтор); Логика науч. познания и совр. формальная логика, «ВФ», 1964, № 3; Об осн. направлениях разработки проблем логики науч. познания, там же, 1966,.IV» 2; Логическая семантика и модальная логика. Сб. ст., М., 1967 (отв. редактор); Классическая и неклассическая логика, «ВФ», 1968, № 12.
ТАВТОЛОГИЯ (от греч. таотос; — тот же самый и Коуос, — слово) — 1) Трюизм, общее место, очевидная истина. 2) Крайний случай логической ошибки типа petitio principii, а именно, idem per idem («то же через то же» в определении, доказательстве и пр.). 3) Логич.
 2015-05-06
2015-05-06 545
545








