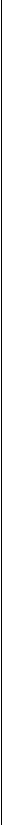 марксизм вскрыл происхождение и генезис политико-юридич. форм и обществ, идей. Во-вторых, материалистам, социология выдвинула объективный критерий для различения существенного и второстепенного в обществ, явлениях, положив конец субъективизму в оценке историч. событий. В-третьих, выделение производств, отношений в качестве определяющих дало твердое основание для понимания обществ, развития как естеств.-историч. процесса смены обществ, формаций.
марксизм вскрыл происхождение и генезис политико-юридич. форм и обществ, идей. Во-вторых, материалистам, социология выдвинула объективный критерий для различения существенного и второстепенного в обществ, явлениях, положив конец субъективизму в оценке историч. событий. В-третьих, выделение производств, отношений в качестве определяющих дало твердое основание для понимания обществ, развития как естеств.-историч. процесса смены обществ, формаций.
Ленин выступил против попытки Михайловского трактовать марксистскую социологию как «экономил, материализм», показав, что именно марксизм впервые исследовал общество в единстве всех его сторон. Ленин подчеркнул, что только историч. детерминизм позволяет выяснить действит. роль личности в истории и покончить с метафизич. противопоставлением, во-первых, сознательной и целеустремленной деятельности— историч. необходимости, во-вторых — «героев» — «толпе». Вскрывая строгую закономерность человеч. поступков, идея детерминизма не только не умаляет роли разума и свободной воли человека, но впервые делает возможным правильно оценить их, исходя из анализа тех конкретных объективных обстоятельств, в к-рых вынужден действовать человек. С другой стороны, «...идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей. Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех?» (там же, с. 142).
Исходя из анализа тенденций социального развития и расстановки классовых сил в России конца 19 в., Ленин пришел к выводу о руководящей роли пролетариата в надвигающейся бурж.-демократич. революции и крестьянстве как его союзнике.
Борьба Ленина с идеологией народничества имела большое практич. значение. Научно обоснованная Лениным программа действий рус. с.-д-тии выдвигала задачу соединения рабочего движения с науч. социализмом, создания революц. марксистской партии, объединения всех демократия, сил во главе с пролетариатом для свержения абсолютизма. Все эти идеи получили дальнейшее развитие в последующих трудах Ленина.
Книга Ленина продолжает служить делу пропаганды марксистской теории. Отд. изданиями она выходила 86 раз на языках народов СССР общим тиражом 4580,9 тыс. экз.; выпущено 17 изданий на иностр. языках (данные на 1969).
Лит.: Волин В., Из истории появления работы В. И. Ленина «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», [М.], 1944; Калинин М. И., О работе Ленина «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», [М.], 1946; Трояновский А., О произв. В. И. Ленина «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», Л., 1958; Ч а г и н Б. Л., Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской философии, М., 1960; История Коммунистам, партии Советского Союза, т. 1, М., 1964; М р а ч к о в-с к а я И. М., О содержании второго выпуска работы В. И. Ленина «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», М., 1965; Куликов Е. С, О кн. В. И. Ленина «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?», М., 1966. Н. Парижская. Москва.
ЧУВСТВА — см. Эмоции.
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ — см. Теория познания.
ЧУДО — в мировоззрении теизма снятие волей всемогущего бога-творца положенных этой же волей законов природы, зримо выявляющее для человека стоящий за мпром вещей божеств, произвол.
Теистич. концепция Ч. как победы божеств, воли над природой и «естеством» требует как предпосылки общего представления о «чине естества», о природном
законе. Для первобытного человека идея естеств. необходимости еще неизвестна. Ч. определяется здесь не как сверхъестественное в противоположность естественному, а просто как необычное в противоположность обычному. Согласно первобытному представлению, к-рое и позднее продолжает жить в язычестве, в магии и на низших уровнях бытовой религиозности (даже в теистич. религиях),Ч.— это событие, нарушающее привычный ход вещей, но вполне посюстороннее и могущее быть произвольно вызванным (а не вымоленным у трансцендентных инстанций) при помощи магич. техники. Первоначально Ч. есть то, чему можно «чудиться», т. е. удивляться, будь-то дерево необычной величины, камень необычной формы, нерегулярное космич. событие вроде затмения солнца или луны, сверхобычное достижение человеч. мастерства и т. п. Греч. т>а6иа или ■стайиаотол», лат. miraculuni и соответствующие ему производные в романских языках, нем. Wunder, рус. «Ч.» и «диво» и т. п. означают «достойное удивления», греч. Файи-а — «достойное, чтобы на него смотрели».
Совершенно иной смысл имеет древнеевр. 'wt, выражающее идею Ч. как знака, «знамения», содержат, возвещения, обращенного к человеку (ср. в греч. и лат. лексике Нового завета слова огцаетог и signum в контекстах типа: «Иисус совершил множество знамений»). Ч., понятое как «знамение», входит в состав идеи откровения и отделяется непереступаемой гранью от любого необычного природного процесса. И откровение, п Ч. суть, ст. зр. теизма, прорывы из сверхъестественного в естественное, из мира благодати в мир природы. Свершителем такого Ч. может быть только бог. Если ветхозаветный пророк или христ. «тавма-тург» («чудотворец») вызывает к бытию Ч., то он, в отличие от шамана или мага, делает это «не от себя», «не своей силой», а в самоотдаче богу, в «послушании». Способность творить Ч. есть для теизма (в отличие, напр., от сублимированного магизма йоги) свободный «дар» (греч. %асло\\а) бога; поэтому личность теистич. «чудотворца», к-рый лишь позволяет Ч. твориться через себя, почти безразлична (важен только акт личностного согласия быть пассивным орудием бога): в православном жптип Феодора Эдесского рассказывается о Ч., произошедшем по молитве блудницы (см. «Памятники др. письменности и иск-ва», т. 59, СПБ, 1885, с. 143—47). С др. стороны, если за Сатаной и его посланцами (магами, лжепророками, антихристом) признается способность переступать в своих действиях пределы природного, то эта способность расценивается как лживая подделка исходящего от бога чудотворства. Поскольку Ч. есть для теизма символич. форма откровения, любое сверхъестеств. действие, не несущее такого смысла, должно быть понято как пустое лже-Ч., шелуха без своего зерна, и в этом смысле не только Ч.— критерий откровения, но и откровение — критерий Ч. Не «доказывая» истинность откровения, а лишь «удостоверяя» его, как жест удостоверяет слова, Ч. предполагает подтверждаемую им веру уже наличной (Еванг. от Матф., 13, 58; Еванг. от Луки, 16, 31).
Символич. форма Ч. получает в теизме свой смысл в контексте общего парадокса библейской веры — парадокса личного абсолюта. Все Ч. Ветхого и Нового заветов расположены вокруг центр. Ч., к-рое в них символически конкретизируется,— вмешательства бесконечного и безусловного в конечное и случайное, схождения вечного в исторически единократное. Важно не то, что воды Красного моря расступились, по Библии, перед евр. народом (Кн. Исхода, гл. 14), а то, что сам «бог богов», «от века сущий», сделал дело группы людей собств. делом; не то, что Иисус родился от девств, матери или исцелял больных, а то, что в его человеч. конечной и уязвимой плоти «обитала вся пол-
 2015-05-06
2015-05-06 369
369








